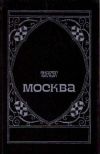Текст книги "Московский чудак. Москва под ударом"

Автор книги: Андрей Белый
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 27 страниц)
Восхищалась Лизаша – Маратом; всех ближе ей стал Робеспьер; укрепилось стремление: мстить; возродилась для мести; достаточный выпрыг из старого мира уже испытала она, чтобы ясно сознать: этот мир пора – рушить; скорее ж схватить красный флаг.
– Да потише же, – будет ужо: погодите вы, – нуте ж; попо́хаем мы над Москвою не трубочным дымом, а – пушечным дымом…
– Когда это будет, – когда?
Про себя же решила: убьет генерала; потом – взяла выше: царя!
Эти мысли поведала Киерке.
– Нуте же вы, – анархизм-то оставьте: нужны планомерные действия масс.
Он вкатнул-таки мысли в нее, в ее мысли вмесился; Лизаша – поверила: держкое слово; на вещи имел светлый взгляд.
Перевез ее к Грокиной: ей не хотелось зависеть от бабы с галданом и с «нервом», толстейшим, которым стегала прислугу.
– У Грокиной будет вам проще; и все же – на воздухе!
Грокина летом в пристроечке дачного дома жила; самый дом, пустовавший, был каменный, кремовый, с черной железною крышей, с желтком лакфиолей на клумбах, с песочною усыпью передтеррасной дорожки, где бегала пеночка, малая пташечка; первое, что поразило: по проясню мчится стрелой прямолетная птица в вольготные воздухи.
Все-таки, – как хорошо!
Тут по лобику журкнул прощелком светящийся в воздухе жук.
В желтый, медистый вечер под запахом липовым все-то звенело кусающим зудом: драла, драла руки; и – ножки: драла-драла – в кровь!
………………….
Молчаливая Грокина, ум дидактический, Киерко, видом своим игнорировал ее горе; и не докучал ей вздохами, делая вид, что разъед ее чувств – дело плевое:
– Глубокомыслие нервов есть кожная, нуте, – поверхность: вы – мыслите, вольте; а мистику – бросьте.
Сломал ей двуветку; и – подал; звенело из воздуха; «шлеп» – комар: «шлеп»!
Разонравилась мистика: вот уж казалась себе «глубе-никою» в доме Мандро; «он» – увидел во всем лишь «клубнику»; а Киерко ясно открыл ей глаза; незаметно диктовщиком сложных процессов сознания, в ней протекавших, он стал; можно было подумать, что – женоугодник; когда появлялся, как будто светины устраивал; мутный, болезненный взгляд прояснялся ее.
Раз зашел Переулкин; повел их гулять; и земля под ногой залужела; и пахло какою-то терпкою горечью (голыми ножками – как хорошо пробежать!). Переулкин присел под ракитный ивняк бережков, над студеною и живортутной водицею (день ее ртутил).
– Здесь с неводом, что ли, пройтись бы, да – рыбу сакнуть!
Как увидит где струечку, лужицу, – сядет на корточки, руки под боки; и – думает: есть ли здесь окуни, есть ли плотва; поглядишь: и – зарыл червячков; с ним Лизаша ходила на прудик: сидела над удочкой: «шлеп» – комар: «шлеп»!
………………….
Николай Николаевич Киерко раз увел в поле: про экономический фактор развития ей проповедовать:
– Массы…
– Карл Маркс говорит!..
Из лазоревых далей навстречу им золото-хохлый бежал жеребенок.
– Смотрите-ка, – остановила.
И – видели; вот на лазоревом – состренный черч изрыжевшего резко трижердья; меж двух безызлистных жердинок – серебряный изблеск живой паутиночки; выше – два листика: передрожали как в воздухе:
– Как хорошо!
Говорили.
Ясней открывалась картина ее проживания в доме Мандро; этот «дом» и есть класс, придавивший, измучивший – в ней человека; «русалочка» – классовый выродок; выбеги к Солнцу из дома Мандро оказались стремленьем к внеклассовой жизни; и – знала теперь: через все – человечество катится к Солнцу.
– Конечно же, нуте, – то есть социализм… Кампанеллу-то все же оставьте: и птичьего там молока не ищите.
И Киеркин малый глазенок стал – глаз: стал – глазище (всего лишь на миг); и – присел: в переплеске ресниц; и заря загоралася; перелиловилась пашня; на ней бурячок-мужичонок в раздранной сермяге, надевши зипун, зубил плугом лиловые земли; виднелась вдали редкосевная рожь, синевой васильков.
И уж перепели́лось над нивами.
………………….
Киерко бережно стаскивал с переживаний Лизашиных мистику, точно змеиную шкурку (облекшую в ней социальный каркас); и в Лизаше проснулся – жизненыш: она – продернела, прокрепла лицом; что лицом подурнела, то – вздор; вся красивость-то – кожа (красивость мадам Эвихкайтен – не кожа, а кожная примазь); природа входила в нее; только вот – дурнота одолела; и – жаловалась:
– Надо, знаете, к доктору!
Были у доктора – с Грокиной; доктор сказал, что – беременна.
– Что же, – пусть так!
………………….
Вечерами сидела она под окошками; тучами – полнилось: мо́лнилось; вспыхивал – сумерок; в окнах бушуяли бро́сени листьев и за́блесты лунного света; и веяло в сад – васильковною нивою.
– Как быть с открытием?
Ошеломленье напало.
Профессор вздыбал свои космы; бумаги его – под угрозой: открытие ищут «они». Кто? Мандро – «их» агент. Развернувши однажды газету, – прочел он в газете: Мандро, оказавшись германским шпионом, – исчез; стало быть: миновала угроза; но только на время; коль узнана сила открытия, в будущем – что его ждет?
Очернели ему его дни: нездоровилось, беремене́ло все, нюнилось, нудилось.
– Как быть с открытием?
Так восклицалось и в ночи, и в дни.
Показалось ему, что в законе законов он встал вне закона: до сроку; уж ищут его, внезаконного; не защищает его государство; и хаос, как фактор развития, – действует.
Черт знает что!
Меч войны подымался; мелькнуло, как мимо, уже: ультиматум, предъявленный Австрией, гром нараставших событий, обмен телеграмм императоров; меч – нависал; не об этом мече думал он.
И вздурел от жары, тосковал, нелюдился, бессмыслил; с задоришком все приставал к муравьям, им таскал дохлых мушек, жучишек; а то с головою, зашлепнутой в спину, бесцельничал глазом по далям; ершился в аллеях.
Ершился в полях.
Жара жа́хала страхом; деревья стояли, покрытые дымкою; воздух стал – дымкой; сплошная двусмысленность; липовый лист замусолился; червоточивый лист падал в лесной сухоман; мир золел, пепелея, томлением смертным.
Профессор топорщился в поле и нюхтил:
– Припахивает! Дело ясное!
Гарью несло: где-то торф загорелся; пылали леса.
Косоплечил; и шел: косоглядом.
Он думал: быть может, летение мира в пространстве – сплошная отрава; влетела вселенная в облако пыли космической, черт подери, представляющей яд; и гвоздила упорная мысль, что недаром в кометном хвосте, чрез который прошли мы, открыли циан; он теперь, прососавшись из верхних слоев атмосферы, нас травит; и каждый наш вдох есть отрава, влекущая перерождение мозга и сдвиги сознания; неизгладимая выбоина: будто ходишь с дырой в голове.
Ненароком хватался за темя: есть темя!
А кажется – нет.
И, вздурев от жары, он бездельничал взглядом: кого-то выискивал.
Это смутнение воздуха мысли его угнетало; на мысли – какая-то дымка; она, уплотняясь, давала в феномене зрения вы́полотень свой, точно контур; вполне несомненно, что контур, ходивший за ним, тоже вы́полотень этот, кометой рожденный: в отравленном мозге.
Дрогливо оглядывался.
Кто-то в тусклом мерцаньи зарниц рисовался опять на дороге: гиеною, не́менем крался из поля – к стогам; и профессор бежал на него; но он в сторону свиливал; и приседал: ненавистничать взглядом, за сено.
Профессор кидался за сено, а «он» – исчезал.
Всюду в мути лесного пожара открылися глазы; в кустах, между скважин бесчисленных – листьев бесчисленных, – всюду глазье, как репье.
И за ним кто-то стал ненавистничать.
Кто-то, – быть может, закон тяготенья, к которому так же привыкли, как к карте обеих Америк, забывши, что прежде Америки не было: был материк Атлантиды. К тяготам сознания, сопровождаемым проступью контура в мутях, – привык; появлялся «какой-то» из мути; и – звал: на луну, на дорогу.
Профессор, подперши рукою очки, выбегал катышом на террасу, – к ракитнику, и, суетливой рукой раздвигая ответвины, видел – ничто: только лепет ракитника в ночь.
И луна открывалась из туч, ночь светла, как бел-день.
Вот однажды, заправивши лампу, гибел над бумагой, мохры дедерюча.
Был прежде слепцом он; не видел себя – в обстояньи, в котором он жил и работал; и кто-то ему, сделав брение, очи открыл, – на себя самого, на открытие; видел, что в данном обстоянии жизни оно принесет только гибель:
– Как все диковато.
Поправив подтяжку, уставился глазом в окно: перечернь; подшушукнуло там черностволое дерево; чертоваком страннела двусмысленность.
Кто-то – стоял.
Стало ясно ему, что с открытием надо покончить; и он – уничтожит его; тут себя он почувствовал преданным смерти: возьмите, судите! Пусть сбудется.
Сон свой припомнил о том, как его заушали и били за истину; и зашептался:
– Пусть сбудется!
Тяжко вздыхая, решил он немедленно ехать в Москву, чтобы там, рассмотревши бумаги, предать их сожженью; следы уничтожить; в бумагах московских – весь ход вычислений (итог вычислений, открытие собственно, было зашито в жилете; его он решил уничтожить с бумагами вместе).
И тут, впавши в скорбь, всю ночь охал.
………………….
Надюше с утра заявил:
– Я – в Москву.
– Что вы, папочка!..
– Да-с, у кассира Недешева, – жалованье получить; и в правлении дело с Матвеем Матвеевичем: с Кезельманом…
Сидел перед ней за обедом, себя вопрошая, себе отвечая, нос бросив с прискорбием:
– Если бы царство науки настало, служители наши за нас подвизались бы.
– Что вы? Какие служители!
Думала, что – педаля.
– Но оно – не от мира.
– Вы, папочка, милый, царите в науке.
Ее оборвал:
– Это – ты говоришь… Дело ясное: не нахожу на себе никакой я вины.
– Кто же вас обвиняет? И – в чем?
Он же с горечью встал от стола, строя сутормы.
………………….
С кряхтом облекся в крылатку; перчатки натягивал; стал чернолапым; взял – зонт, котелок свой проломленный; через плечо, точно крест, он надел саквояж и большой, и пустой (в нем катался один карандашик); он стал на террасе; стащив с головы котелок, посмотрел на него; вновь надел, – горько тронулся: в сопровождении Наденьки.
Шел уничтожить бумаги, смертельно скорбя; у калитки почувствовал, что – на черте роковой он колеблется духом; жены при нем не было; не было сына.
Они его бросили.
А ученик, им любимый, Бермечко, отсутствовал, посланный в Лейпциг: учиться.
Бежала дорога на станцию – в желтень и в муть; был исчерчен тончайшей игрой черкушков, как из туши.
Сказал, обращаясь к себе он:
– Жестокое время наступит, когда убивающий будет кричать, что он истине служит; припомни: я – сказывал.
И посмотрел на часы:
– Ну-с, – пора, в корне взять.
И, взглянув на Надюшу, вздохнул, – чернобрюхий такой, чернокрылый; в пустом саквояже катался, гремя, карандаш; саквояж был огромен (подпрыгивал на животе); показалось лицо – великаньим; его провожали глаза; вдруг стало ей жутко за папочку: пес не куснул бы, трамвай не наехал бы.
Он выяснялся из мути, едва прорыжев бородою: окрасился только что.
Жоги носилися в небе; дичели окрестности выжарью злаков медяных; из далей мутнело сжелтенье: Москва семихолмною там растаращей сидела на корточках, точно паук семиногий, готовый подпрыгнуть под облако.
Блякали в пыль колокольца.
………………….
Он с вымашкой шел.
На дороге приметил рыдающего черноглазого мальчика.
– Что с тобой, в корне взять?
Мальчик рыдал безутешно:
– Боюсь я его!
– Ты скажи, брат, кого?
Мальчик пырснул с дороги, да – в поле: там, сгаркнувши, сгинул.
Дичели окрестности.
Из вымутнявшейся желчени, – серо-зеленое образование виделось: в крапинах черных; неслось из тумана в туман; и едва выяснялися ноги; оно – приближалось.
Оно очертилось.
Стоял силуэт, головою уткнувшийся в пледик, проветренный носом из складок; рукой отогнул поля шляпы, закрывшей седины, он, молня под шляпой, зашлепнувшей плечи, очковыми черными стеклами, – в серо-зеленой, прокрапленной черными точками паре, расцвеченной же́лчью заплат (точно шкура проблеклого змея); профессор приблизился: старец.
Он ежился дергко.
Сломались морщины подсосанной очень щеки; точно ржавленный нож прикоснулся к точильному камню:
– Осмелюсь спросить.
– ?
– Эта тропка – на станцию Хмарь?
– Дело ясное.
Старчище – странный!
Такой долгорылый; картинно откланялся шляпою, напоминающей зонтик; а зелено-серый и клетчатый плед обвисал над рукою: густой бахромою.
Уткнувшися в плед и дубину зажавши в руке, стал он рядом прихрамывать.
Падалищная ворона – кричала; зияли белявые земли из исцветов трав: краснозлаки и бронзы, и меди: метлицы, стрючочки, овесец, коробочки; пень суковатый – кривулина; хмарное все – быть дождю!
Старец с робким искательным видом хотел что-то выразить:
– Парит…
Профессор на старца таращился:
– Да…
Не то – старчище, ветхий деньми, не то – вешалка с ветошью; губы под носом упали, как в яму: безусый! Престранен был торч бороды, вдвое больше козлиной и белой; такие же белые, гладко лежащие кудри покрыли плечо из-под шляпы: прилипли к щеке.
Его голос не слушался:
– Видите сами, – раздевом хожу.
И он вздернул разорванный локоть:
– Меня перемочит.
Сказал это с юмором; жескли в очках его злость и суровость.
Деревья шли – впрорядь; вон там – глинока́пня; вон там – глиновальня: заводец гончарный; и пылом повеяло:
– Вара какая!..
Сухим, серо-синим туманом подернулись сосенки.
Старец сказал:
– Я – шатун.
И глазами просил пощадить:
– Подработка ищу я.
Профессор оглядывал спутника: великорослый и великоногий!
«Тар а́ х-тарахт а́ х» – жеганул по кустам бекасинником кто-то.
И – станция.
Двадцать минут еще; с края платформы забился крылом своим черным в поля, вздувши пузик, прижав чернолапой рукою свой зонт. И за ним столбенел на платформе замотанный пледом старик, в воздух выставив, все бы сказали, не бороду – просто какой-то скелет бороды, – длинногривый, такой долгорукий:
– Гроза собирается!
– Что ж?
Тут старик рассмеялся и стал черноротым:
– А то, – кропотались беспомощно пальцы, – что мне ночевать-то – и негде.
– Как негде?
– Так, – негде, – и вгладился взором. – Уехали с дачи… Сказали, что – в Питер, – путляво сбивался, – вернутся в Москву только завтра: а я к ним поехал в расчете застать… Куда ж денусь? Пять дней я в дороге.
– Ну?
– Да, повторяю, – промокну, – поежился он, точно был под дождем уже, – деться-то – некуда.
И разбежался глазами под черным стеклом.
– А гостиницы?
Странный вопрос!
– Посмотрите на этот билет, – показал из-под пледа билет, – за него заплатил я последние тридцать копеек, а вы говорите!
В глазах у профессора – недоумение и потерянье стояли:
– Знакомые есть же у вас?
– Кроме тех, о которых сказал, – никаких.
– Как же, батюшка, вы, – удивился профессор, оглядывая с головы и до ног, – где же ваша дорожная сумочка?
– Нет такой – нет.
– А багаж?
– Эк сказали, – «багаж»; нет такого!
– Как так?
– А вот так вот, – изволите видеть: плед, палка!..
Профессор, сорвав котелок, посмотрел на него, вновь надел, ничего не прибавил, пошел по платформе; его карандашик катался в пустом саквояже, повешенном через плечо: чемодан (сбился с боку и лег на живот). Он одною рукою его охватил; и оглядывал желтые дали, как будто желая вполне отмахнуться от слышанного:
– В корне взять, – диковатый денек!
В атмосфере – жарня, желчина; убегало туда полотно – в ряды ив; вдруг – оттуда гуднуло: «тохто́ханье» слышалось, близилось; и – прострельнула струя дымовая из ив; вот и выпыхнул ясно стреляющий центрик (огонь зажгли рано); и – черненький поезд прямою змеей, не смыкающей кольца, – глиссадой понесся; раздался размером и грохотом, явно распавшись на кубы вагонов; вот кто-то невидимый пред налетающим пыхом и пылами рельсою дзанкнул; и – рельсой сигнул; и за кем-то невидимым безостановочно перемелькали вагоны; упал на платформу почтовый пакет; и последний вагон подтарахнул особенно; можно сказать, – тенорком, припустившись за рядом вагонов, сжимавшихся быстро – размерами, грохотом; все собралось в убегающий черный квадрат, на котором ярчели (и сверху, и снизу) два красных фонарика (вечер еще начинался).
Профессор подумал, что кто-то, мотаясь железными стержнями, выпохнул бешено из-за зловещего центра кровавого пекла; работал там кто-то – из центра; и – вспомнилось, как говорили, когда он был юношей: души безбожников входят в машинное пекло по смерти – работать: в доменных печах, в паровозах:
– Ну – да-с: суеверие!
Но суеверие это – понравилось; ад, так сказать, – оказался в фантазии этой культурой труда, черт дери; он любил всякий труд; согласился бы он, если б кто-нибудь мог доказать бытие после смерти, пойти прямо в пекло; и силою жаркого пара, вращаясь в котле, – с убежденьем и рвеньем отмучиться в небом положенный срок за тасканием поезда – ну, там, Казанской дороги; так думая, мерно шагал по платформе; шагавший за ним по платформе старик выколачивал дроби губами под пледом.
Народ собирался; потели и злели – в желтине, в пылине; у всех были лица, как лица из желтого воску, готовые тут же растаять, отечь; кто-то в ветер чертакал отчетливо громко.
– Да, – быть урагану: а – туча-то, туча какая там.
Голову кверху профессор поднял, нос додравши до черных очков.
– А вы кто такой будете?
– Ну, да!
– Бывший помещик.
Лоб сжался крутою морщиной:
– Имение было под Пензой: семьсот десятин.
– Где ж оно?
– Э, – рассказывать длинно…
Тут сделал он вид, что ему остается: посыпав главу, – пасть: испрашиться:
– Грех… Все – размотано!..
– Как же вы, батенька?
– Люди, мыслете, там всякие фразы про наш, он, покой; а кончается – обыкновенно: ферт, херт; так и я: в офицерах служил; а теперь…
И подумалось:
– Все это он намекает на что-то. В толк взять, – не поймешь.
Старец вгладился взором нырливым:
– У вас – нет работишки?
– Нет!
– Я пошел бы в рабы за работу…
– Ну, что с вами сделаешь?
– Было бы сухо, – проспал и на сквере я…
Тут шевельнулось: старик – бывший барин; профессор, добрея лицом, стал похлопывать пузик рукою; и видно, – с манерой, с достоинством; вот положение!
– Слушайте!..
Снова прищурился: нет же, – не жулик, внушает доверие; как-то само собой с губ сорвалось:
– Я… бы мог предложить вам ночлег на сегодня!
А как же разборка бумаг, для которой он ехал в Москву? И прислуга – в деревне; но – поздно.
– Так пустите?
Быстрым емко́м зажал руку: силач этот старец!
– Так пустите?
Блеском очки пристрелились искательно.
Эдакий жалкий: ведь – как отказать ему?
– Батюшка мой, – ну-с: мы с вами ночуем сегодня!
Ворчал про себя:
– Пригласил – делать нечего.
Ткнулся глазками: лоб – крепкий; очки – непреклонные: что-то надменное, даже жестокое в нем; а стоит – с нарочито приниженным видом; и точно для вида трясется: подметное что-то. А старец плеснувшийся пледом, как крыльями, – вороном белым казался; вот голову – вытянет; рот – разорвет, каркнув громко: в окрестности!
………………….
Поезд поднесся.
И бросились – впо́дперепо́д; кто – узлом; кто – корзиной: на поезд; рукой чернопалой всчеркнув, точно росчерк под подписью вычертив, – бросился с прочими; старец – подсаживал и раболепство выказывал; вганиванье в третий класс утомило; друг к другу в проходе прижало; они запыхтели друг с другом; казалось, что также когда-то уже пропыхтели; и – будут пыхтеть.
Протолкалися в про́темь вагона; стояла – жарынь; клубы пыли; означилось много мешков желтобрюхих; все – полнилось; все – барабанило; все – проседало в пылях; на узлах и на шапках – просе́дина белая, точно мука; из нее выжелтялися лица; оконный протер запылился мгновенно; рванулось с тарахтом; рванулись все спины; и старец, рванувшись, сжал руку емко́м – очень больно.
– Простите, – развинченный я.
Они сели кой-как; и друг с другом потискались:
– Блохи!
Профессор вдруг стал почесулей; но – думалось:
– Что это он представляется?
Шло языков развязанье; и – затарахтели; пошли колоколить; всем в уши забило настойчивым трахтом; профессор сидел потеряем таким; было вовсе не весело:
– Как это вы?
– Доплясался до эдакой жизни? – С поще́лком ответил – Так: просто!
Профессор подумал:
– Раскаянья нет!
Старей, будто поняв его мысль, сделал вид, что он съежился; заговорил с неприятным таким поджевком:
– Нас грехи, – задел локтем, – доводят до бездны; за мною водился, – и локтем, – грешок: я был пьяница, видите.
– Странное видите, – думал профессор; задевы локтями опять-таки, – да: беспокоили…
– Эдакий, право, зазна́ишко!
– Все ж нет греха хуже бедности, – кто-то из сумрака вытянул зелено-сизый свой нос.
С каждой станции – ввалка людей, искаженных и жаром, и пылью.
– А чем же вы, батенька мой, занимались – потом: род занятий, ремесл?
– Ремесло, говорите вы, – э, да пропойное.
– Все-таки, – думалось, – бессодержательный старец какой!
Разболтался, а в мыслях – разбродица.
Что-то в манерах его жадноватое было.
– Да, – каждый из нас есть живой пример суетности; так и я: офицерская, знаете, жизнь; ну, – пошли пустяки, забобо́ны: бомбо́шки, безе (и там – далее), – что! Забубенщина! – губы поджались с грязцой очевидною, – дамочки, девочки!
– Это же, черт подери, дерзословие, – думал профессор.
– Коньяк – забьггущее зелье: манером таким изполка-то и – «фить»! Пробулдыжничал жизнь, – извините; примите таким, каков есмь; Мардонейский, помещик, на старости лет – стал Морданом, как видите!
Тут же прибавил:
– По этому поводу должен сказать: еще очень недавно меня называли: дедюся, дед е́ н очек, иль – деду-г а́ н; а по пьянству нажил себе морду – вот эту вот, – он показал, – стал Мордан: дед Мордан! Грехотворник! Что? А?
С грязноватым лицом, исходящим жестокою силою блеска двух черных, суровых очков, хохотал он искусственным смехом, с искусственной удалью пальцем прищелкивал, напоминая К. С. Станиславского, великолепно сыгравшего б роль забулдыги.
И прели, и жались друг к другу; за окнами ветер желтил горизонтами: порохи, прахи и по́рхи. Сквозь рамы оконные дуло просейкой пылей.
– Я, простите меня, – дымокур: вы – позволите?
– Сделайте милость!
И думал:
– Да, в каждом движении пальца грешок выпирает.
Заметил на пальце финифтевый перстень.
– Спасибо!
Мордан же поднес к папироске ладонь; и очки в густом облаке дыма просели; из облака дыма – явились вторично.
– Бывало, – «ура, дед Мордан», да – «ура, дед Мордан». Так и вы называйте, пожалуйста, – так же: «Ура, дед Мордан!»
Ногу в серо-зеленой штанине закинул на ногу; за ногу схватился костлявыми пальцами; и закачался, трясясь бородой над коленями, загиркотал:
– Кхи-кха-кхо!
Закривился беззубый не рот, а какая-то черная пасть: точно ножик пошаркивал жестко о камень точильный; и сыпались отблесков искры из черных, стеклянных кругов.
Из угла раздалось, очевидно, по адресу деда Мордана:
– Он, братец ты мой, по брадам – Авраам; а по слову-то – хам!
Тут Мордан спохватился:
– Смемелил излишне!..
Профессор подумывал: под благовидным предлогом откажется он принимать двороброда какого-то в дом свой.
За окнами – пустошь, разглушье; потом пошли дачи – коричневые и коричнево-желтые; шли палисадники с реденькой зеленью; вот – остановка; и – новая вдавка в вагоны прожелклых людей; кто – с корзиной; кто – с серым кулем; борода светло-сивая тыкалась в окна:
– Здесь занято, дяденька!
С ней черноглазенький мальчик косился и злобно, и хмуро из окон.
Поехали; над перевальчатой местностью шел переклик расстояний; свихрялися дали пылищами; в этих пылищах вставали фабричные трубы; хотелося: сгаснуть, исчезнуть, не быть; придремнулось; казалося, – не придремнулось, а жизнь придремнулась; и тотчас же клюнулось носом; очнулся: Мордан сидел рядом – такой прохудалый, изъеденный тенью; он остро взглянул, сделав вид, что проснулся:
– Простите, – в дороге-то я ведь пять суток!
И тихо добавил, оглядываясь, чтоб его не подслушали:
– Вы, Христа ради, простите, и… и… не гоните.
Ну, – как отказать!
Дед Мордан, проседая из тени, как вешалка с ветошью, виделся лишь бахромою зеленой, свисающей с пледа, которую затеребили изысканнотонкие пальцы, метаясь под нею; грязнело в окне: просерело; Москва, растараща, на них наплывала: вагонами, трубами, целым кварталом: Рогожской заставой; уже забеспутили улицы; лупленый абрис сквозной колокольни (барокко) – прошел; он услышал над ухом взволнованный шепот:
– Бездомному, – вы… вы… – дадите приют?
Этот взгляд не казался уже таким дурьим: хваталися руки, дрожа, друг за друга, терзая друг друга, хрустящими пальцами: стало – невесело; толк: и – Москва. Картузы и кули поднялись; выпирались; чертиха какая-то, видно, торговка, уже колотила бидоном кого-то в загривок:
– Да ну, – не задерживай: черт!
На платформе – разбеглый народ; розваль ящиков и чемоданов, бега, перебранка:
– Ей!
Номер двадцатый влепился в глаза, белый фартук, носильщик; и вдруг – размеженье толпы: чемоданы проехали.