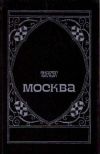Текст книги "Московский чудак. Москва под ударом"

Автор книги: Андрей Белый
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 27 страниц)
Ведь вот!
Для чего это Грибиков всем разгласил на дворе:
– Да – живет у меня карличишка…
– Ах, что ты?
– Безносый.
– !?!
– Хандрит: ерундит.
Сам не знал, для чего, как не знал, для чего это он двадцать лет заседает в окне: примечать, что и как, и смекать, что к чему, коли связывать он не умеет: домеков и смеков.
С досугу?
Ему уж лет двадцать как нечего делать: подштопывать, или ведро выносить, да процент проживать надоело; притом: любопытно весьма – насчет жизни других; тут зачешутся мысли: политика всякая; что, мол, там Митрий Иваныч, – не книги ли тибрит? Варвара Платоновна, – уж не живет ли с Бобковым? И то – «дядя Коля», и се – «дядя Коля». Какой он ей дядя!
– А что, коли я им вот эдак и так, – гнида ешь их! Просунется в жизнь из окошка: в чужую (своей-то ведь нет); а пожить – занимательно; только – неясно и боязно как-то.
Интриги водил: скуки ради:
– А сём-ка я, а сём-ка я… – прямо к профессору: так, мол, и так… Ваш-то Митрий Иваныч подколоколил книжонки-с!
Не вышло: взашиворот вывели.
Тоже: с каких таких видов себе карличишку на шею взвалил? Тьфу: совался к Мандро; сам едва понимал, для чего: этот самый Анкашин, Иван, – тот, который трубу починял (перепортились трубы мандровской квартиры), ему передал: так, мол, – барин Мандро, богатейший, желает призреть человечка; и – комнату ищет. Что? Как? Кто такое Мандро? Как живут? Сколько средств? Где контора? Все – вынюхал, высмотрел; и – досмотрелся себе до хлопот: теперь карлик на шее сидит. Обсыпается вшами.
Про Грибикова Телефонов заметил раз как-то:
– Есть гадины; эти – вредят; он – воняет: и – только… Какая же гадина он?
Телефонов при этом забыл: есть на свете такие вонючки, при виде которых бегут леопарды; вонючка – невинная, непроизвольная гадина; Грибиков – тоже.
………………….
Таким мертвецом безвременствовал Грибиков; и – пересиживал ногу; курил, точно вза́пуски; передымела вся комната; передымело в душе; в голове росла дичь; на столе перед ним – вы представьте – двуглазкой лежали очки (жестяная оправа); он руку засунул за спину: дербил поясницу своим откаряченным пальцем (не комната, – просто блошница какая-то); встал; и, походкой валяся набок, потащился безбокою клячею, па́стень бросая; и глаз зацепился за полудырявую скатерть.
Убогая комната!
Мозгнуло – все; и – зажелкло; поблескивал очень огромных размеров сундук (добрину́ укрывал): белой жести; да фольговый Тихон Задонский отбле́щивал венчиком; туркался все тараканами угол стены; переклейны́е стены коптели, отвесивши за́дрань; и, точно гардины, висели везде паутины; копченый растреск потолка угрожал старопрежним упадом; замшелое место стелилось в углу.
И – паук там сидел, очень жирный.
В углу – этажерочка, с вязью салфеточки; дагерротипы желтели из рам; и коралл, мадрепор, весь в ноздринах, был двадцать лет сломан; вытарчивали пережелклые «Нивы» девяностых годов со стихами Куперник, Коринфского, с вечно залистанной повестью, вечно единственною, Ахшарумова и Желиховской – пожелклая «Нива» и стоптанный рыжий башмак: под постелью с полупуховою периной.
Провисли излезлые шторочки мутной китайки, покрытые мушьим пятном; искрошилася связка из листьев табачных: папуха; курился, как видно, табак «сам-кроше́»;а искосины пола закрылись холстиной обшарканной.
Здесь, в комнате, десятилетия делалось страшное дело Москвы: не профессорской, интеллигентской, дворянской, купеческой иль пролетарской, а той, что, таясь от артерии уличной, вдруг разрасталась гигантски, сверни только с улицы: в сеть переулков, в скрещенье коленчатых их изворотов, в которых тонуло все то, что являлось: из гущи России, из гордых столиц европейских; все здесь – искажалось, смещалося, перекорячивалось, столбенея в глухом центровом тупике.
Вот «Москва» переулков! Она же – Москва, точно сеть паучиная; в центре паук повисающий, – Грибиков: жалким кощеем бессмертным; кругом – жужель мух из паучника; та паутина сплетений тишайшими сплетнями переплетала сеть нервов, и жутями, мглой, мараморохом в центре сознанья являла одни лишь «пепешки» и «пшишки», которые очень наивно профессор себе объяснял утомленьем и шумом в ушах; ему стоило б выставить нос из-за форточки, чтобы понять, что сложенье домков Габачихинского переулка – сплошная «пепешка и пшишка», которая, нет, не в затылочной шишке, а – всюду.
Москва переулков, подобных описанному, в то недавнее время была воплощенной «пепешкою», опухолью, проплетенной сплошной переулочной сетью.
В затылочной шишке – затылочной шишкой – посиживал Грибиков: шишка Москвы!
………………….
Отворил он притворочку: выдымить.
Бледно-синявое облако никло к закату; тянуло морозцем: отаи подмерзли; покрылися снегом; сосули не капали; кто-то у желтого домика остановился, увидевши: под голубым колпаком дозиратель сидит, как всегда, – желто-карим карюзликом.
Вот и завьюжило: пырснуло с за́визгом.
Слухи о карлике и Николай Николаевич Киерко выслушал; жил в белом каменном доме, которого первый этаж тараканил и гамил сплошной беднотой и который соседничал с желтым, торчавшим – оконцами, Грибиковым и городьбою забора: в проулочек; соединял же дома – общий двор, немощеный, с пророиной.
Киерко вышел на двор и посипывал трубочкой в злой, мокро-сизый туманец, в мерлушьем тулупчике, молью потраченном, в клобуковатой шапчонке, – лихой, узкоглазый и узкобородый: да, подтепель; дни разливони пошли; он пристал к тарарыкавшей кучке, поднявшей галдан; тут стояли средь прочих: Анкашин, Иван, Псевдоподиев, семинарист переулочный (руки – виляи, к девицам – подлипа), и Клоповиченко, сторонник стремглавых решений (на трубопрокатном заводе работал и там, видно, куртку задряпал), стоял в своей куртке проплатанной (вся в переёрзах), горбастый и крепкий; Романычу что-то рукою махал.
Было видно, что ловко сбивает он бабки:
– Тетерья башка, ну чего ты стоял за свой угол, когда тебя гнали; содрал бы за угол с Мандры́; теперь Грибиков карлу себе отхватил.
– И за карлу проценты стрижет, – довахлял кто-то.
Киерко, слушая, сел на бревно: подходили к нему на дворе, точно он держал двор; говорили ему с подмиганцами:
– Что ж, Николай Николаевич, – будем давить блоху миром?
И Киерко по́хнул дымком:
– Далека еще песня!
Двудымок пустил из ноздрей.
Говорили Романычу: Грибиков, черт его драл, набил нос табачищем и твердо копейку берет; ссудит с ноготь, процентом возьмет с раскулак.
– Обдерет.
– Ссужал летом, а осенью, брат, – гнал взашей из угла, – ужасался Романыч.
Сочувствовали:
– Драть-то не с чего…
– И за правду плати, за неправду плати.
Желоб капал.
– А нуте – пох, пох: да они ж – богатьё!
И глаза Николай Николаича нарисовали двухвьюнную линию.
– Пох, – Николай Николаич посипывал трубочкой, – пох, погоди: доживешь.
И напрасно профессор Коробкин рассказывал всем, что «Цецерко-Пукиерко» жизнь просыпал на диване; он – бегал; какие-то были дела; он частенько захаживал, – нет, вы представьте к кому – к Эвихкайтен: Эмилий Леонтьич Милейко, поляк, пе-пе-ес, там бывал; и бывал меньшевик Клевезаль; еще чаще он бегал в Ростовский шестой, на Плющиху, где жил большевик Переулкин, где те же решались вопросы с товарищами Канизаровым, Жиковой, Грокиной о пониманьи прибавочной цен– ности и о Бернштейне.
Еще: Николай Николаевич Киерко был двороброд; и пока представлялось, что – дрыхнет, он вертко являлся везде: на заводах, в рабочих кружках, в типографиях тайных, просовывал нос к комитетчикам, к земцам, к статистикам; Киерко можно бы было открыть в буржуазном салоне, приметить в «Свободной Эстетике», где еще? Он появлялся, подшучивал; и – исчезал; и о нем говорили так мало; он «киеркой» был (с малой буквы); в «Эсте-тике» даже не знали, что вхож он в профессорский дом; а в профессорском доме не знали, насколько оброс он рабочими: «Киерко», «Цер», «Пук», «Цецерко-Пукиерко», – кем же он был? Циркулировал слух, что – охранник, что – максималист; ни тому, ни другому – не верили.
Надо принять во внимание: он – кочевал по мозгам; и заклепывал в головы, где только мог, социальный вопрос; в «переулкинской» комнате сыпал словами «Рикардо», «Бернштейн», «Ортодокс», «Искра», «Ле-нин» и «Маркс»; на дворах – прибаутками; да, – веретенил словечками вертко; от слов оставались какие-то все уколупины; можно сказать, – ломал мыслями кости он; ставил остов воззрений для всех дворобродов.
– Квасильня сериозная!
Так говорили они.
………………….
– Нагорстаем мы жизнь, – пустопопову бороду брей, – веселился глазенками Клоповиченко.
В Романыче болью проснулось тупой забиенное место в душе; и ногою он пса отопнул от канавины: пес меделянский откуда-то бегал сюда.
– Где уж.
– Нуте же вы – все с нюгандами, – выпохнул Киерко.
И – задождило пустым пустоплюем в лицо.
– Это разве же жизнь, – за свободу стоял Псевдоподиев, – аполитичность одна: правовая свобода нужна, брат Романыч.
А Клоповиченко ему:
– Так-растак!
– Так-растак!!
– Так-растак!!!
На него:
– Я уж знаю: тебе революцию – с барином? Сунет под нос тебе редьку.
Смеялись:
– Подохнешь от эдакой ты пережваки невкусной.
– Ужо вот покажет тебе Милюков: воля – ваша; а наше, брат, – поле.
– Уж ты извиранья оставь, – размахались жилявые руки, – с алтын обещает тебе Милюков; сам себе на рубли наступает.
А Киерко, высипнув сизый дымочек, – молчал.
– Он – грабазда!
– Чего вы, товарищ, вражбите, – боярился позой своей Псевдоподиев, – с миром?
– Растак! Пустопопову бороду брей!! Вот тебе елесят, а ты – веришь, распопа: а все оттого, что – распойный народ, – дояснил он.
И Киерко выкатил серый зрачок: дюже весело стало; доскоком пустил свой носок; глаз скосил на дымление трубки; другой глаз закрыл; и посиживал: единоглазиком.
– Галиматейное что-то такое…
Романыча ж дружески – в хвост и в загривок, и давом, и пихом: тот, этот:
– Скажи себе: «Надо бы нам единачиться».
– Где у тебя коллектив?
– Дармоглядом живешь!
– Слепендряй!
– Это ж разве за жизнь: это ж стойло кобылье!
– Сплотись!
– А то эдакий с пузом придет, – ракоед, жора, ёма; а ты – пустопопову бороду брей – костогрызом уляжешься, кожа да кости, – усердствовал Клоповиченко.
– Сдерет с тебя кожу бессмертный кощей: подожди!
– Кожу, – слово ввернул тут кожевенный мастер из малосознательных, – мочат в квасу, а потом зарывают в навоз, чтоб сопрела; потом – сыромятят.
– А ты слыхал звон, да – кто он? – оборвали его.
Слесарь слово ввернул:
– Гвоздь не входит, его – подотри ты напилком: так он и взойдет; так и жизнь трудовая; ее подотри, – заскрипит…
– Постепеновец!
– Он – меньшевик: Клеветаль этот, враль этот, – ходит к нему…
– Заскрипишь, как раздавят.
– Взбунтуйся: в борьбе обретешь себе право; ступай единачиться с классом рабочим.
И Клоповиченко свою укулачивал руку:
– Сади буржуазию в ухо и в ус: и враскрох, и враздрай!
– Нет, нельзя: не велят, – сомневался Романыч и голову отволосил пятернею, – что палец под палец, что палец на палец.
Отплюнулся.
– Льзя ли, нельзя ли, – пришли да и взяли, – подфукнул всем Киерко (он на дворе говорил поговорками).
Так резюмировал дюже и весело он разговор; трубку вынул; докур опрокинул; и вертко в проулок пошел; вслед ему:
– Энтот, – да: оборотливый!
Тут мещанин в заворотье стоял; и жестоко глазами его проводил:
– Ужо будет тяпня!..
– За резак поди схватятся, – голос ответил.
И сумерки сдвинулись.
Жалко мокрели дома; и, оплаканный, встал тротуар из-под снега; и Киерко думал:
– Да, да!
– Передышанный воздух, негодный.
– Москва – под ударом: она – распадается.
За́бочнем дома сугли́л он на площадь: в людскую давильню, – и в перы, и в пихи.
Лавчонки: пропучились злачности; промзглой капустой, рассолами, репой несло; снова забочень дома сугли́л в перекресток; и он – вместе с забочнем дома; и, двигатель улицы, двигался в улице; закосогорилось; на косолете – домишка; наткнулся на парня, который там пер, раздавая давочки, бросая плевочки, – под четверогорбок (направо, под горбку налево; гора Воронухина с горбками Мухиной, с новой церквой распрекрасных фасонов и с банями, старыми очень, «таковскими», прямо при Мухином горбке); там, далее – мост: самновейший ампир, где на серых столбах, так отчетливо темный металл исщербился рельефами шлемов, мечей и щитов.
Николай Николаич смотрел с Воронухиной горки туда, где пространились далековатые домики, сжатые в дво́енки, в тро́енки, пером заборов с надскоком над ними вторых этажей и с протыками труб из-за виснущих си́зей фабричного дыма – за Брянским вокзалом; двухскатная крыша; под домом – к стене его церковка: жалась; и – дальняя лента лесов воробьевских над всем, с подприжавшейся береговою Потылихой.
Киерко все это взором окинул.
На все это двинулся полчищем мыслей своих головных, чтоб от каждой задвигались полчища кулаковатых мужчин.
– Пох-пох, – прыснули светом двудувные ноздри авто: – пах бензина, подпа́х керосина.
Парком подвоняв, устрельнул.
В недрах нового дома с огромными окнами – в небо, взлетев над землею под небо, жила Эвихкайтен.
И Киерко шел к ней.
………………….
Мадам Эвихкайтен – зефирная барыня: деликатес, демитон, с интересами к демономании, и – парадоксы судьбы – к социальным вопросам: давала свое помещенье для двух разнородных кружков; в одном – действовал Пхач, демонист, розенкрейцер, католик, масон, что хотите (на всякие тайные вкусы!); и дока, и жрец, и священник по Мельхиседекову чину, и дам посвятитсль, сажающий при посвященьи их в ванну; и – прочее; в этот кружок приходили Тер-Беков и Вошенко, очень почтенный работник на ниве различных кружков, занимающийся лет пятнадцать историей тайных учений и подготовляющий труд свой почтенный «Каталог каталогов».
Этот кружок собирался по вторникам.
По четвергам собирался кружок социальный; его собирал Клевезаль; в него хаживал Киерко, не соглашаться, а – слушать.
Мадам Эвихкайтен же, барыня деликатес, опустивши лазури очей, очень тихо вела себя в том и в другом; и ходила в компрессиках: барыня с тиками, барыня с дергами!
У Эвихкайтен застал Вулеву, экономку Мандро.
Вулеву говорила мадам Эвихкайтен:
– Представьте, мадам, же-ву-ди-ке – мое положение, как воспитательницы…
– Ах, ужасно!
– Лизаша…
– Ужасно…
– Мадам, – же-ву-ди-ке, – что девочка – нервная и извращенная…
– Не говорите…
– А он, – же-ву-ди-ке – с ней…
– Эротоман!
– Шу-шу-шу!..
– Негодяй!..
– Шу-шу-шу…
– Просто чудище!!
И Эвихкайтен бледнела.
И Киерко понял, что речь – о Мандро: серо-рябенький, – молча внимал.
Очень часто здесь речь заходила при нем о Мандро; и всегда, глаз скосивши на проверт носка, – улыбался вкривую: молчал, только раз прорвалось у него:
– Все Мандро да Мандро – нуте: чушь он. Я знаю его хорошо; мы ж в Полесье встречались; вчера он – Мандро, а сегодня – херр До́рман; мосье Дрома́н – завтра; как Пхач ваш… Мандрашка он, – нуте… В него ж одевается всяк: маскарадная – нуте – тряпчонка; грошовое – нуте – инкогнито.
На приставанья сказать, что он знает, – смолчал; дергал плечиком; лишь уходя, четко вы́похнул трубочкой:
– Жалко Мандрашку, как что, – его: хлоп! А паук, в нем сидевший, – сбежал… Пауки пауков пожирают «мандрашками» разными; нуте – заманка для мух; паутиночка он… Пауки ж наплели за последние годы мандрашины всякой и сами запутались в ней; вы же, – в корень глядите: падеж будет – нуте… Падеж – мировой!
И – ушел.
Эвихкайтен же – с тиками, с дергами – эти слова доложила Пхачу́; Пхач с большим удовольствием мхакал и пхакал:
– Да, да – понимаю: вопрос объясняется своеобразием расположения токов астральных, не чистых, – и стал намекать Эвихкайтен, что надо бы сесть ей с ним в ванну: очиститься!
И Эвихкайтен ответила, что «поняла»; ее мнения были тонки лишь в присутствии гостя; поступки с домашними – срам; все казалось зефиром – вдали; вблизи – бабища, прячущая под корсетом живот не зефирный; являлася в гости она с таким видом, как будто она – из Парижа; жила ж, как наверно уже не живут в Усть-Сысольске: невкусно!
А все говорила о вкусах.
………………….
Зачем посещал ее Киерко! Кто его знает.
Ответит гранитным молчаньем: ночь.
И не шел снежный лепень; отаи – подмерзли; сосули не таяли; великомученица Катерина прошла снеговой заволокой; за нею, кряхтя, прониколил мороз; он – повел к Рождеству, вспыхнул елками, треснул Крещеньем, раскутался инеем весь беспощадный январь, вьюгой таял; и умер почти солнепечным февральским денечком.
Но их водоводие, Март Февралевич, не капелькал по календарному способу, и Табачихинский переулок крепчал крупным настом; морозец, оживши, носы ущипнул; и носы стали ярко-брусничного цвета; согнулся под снегом заборик; стоял мещанин в заворотье; мирошничал нищий; увы: длинноносая праздность таит любопытство; и Грибиков выглядел крысьим лицом из окна на проход многолицых людей.
И – показывал крюкиш: не палец:
– А вот, энта самая, – в шапочке в котиковой…
– С горностайной опушкою…
– Серебрецо подает: при деньгах.
С горностаевой муфточкой, к носику крепко прижатой, стояла Лизаша: прошли уже месяцы, – Митенька нос не казал и вестей не давал: посылала записочки; не отвечал на записочки; думала взять промореньем: молчала два месяца; и – побежала, не зная с чего, в Табачихинский: встретить.
Ждала тут не день и не два.
Были странны ее отношения к Мите.
Сказала б – «оттуда»; «оттуда» – ее состоянья сознанья, граничащие с каталепсией; молча сидела ночами; и – видела образы, ясно слагавшие в жизни вторую какую-то жизнь, из которой тянулась к Митюше, сквозь все искаженья русальных гримас; что же делать: «оттуда» жила.
«Здесь» влачилась русалкой больною.
Немела порой; и – разыгрывалось, что идет коридором, во тьме; все скорее, скорее, скорее – спешила: летела; и чувствовала – коридор расширяется в ней, оказавшись распахнутым телом, вернее распахом сплошным ощущений телесных, как бы отстающих от мысли, как стены ее замыкающих комнат; и переживала мандровской квартирою тело.
Отсюда на мыслях – бежала, бежала, бежала, бежала.
И – знала: сидит; все ж – бежала: в проза́риванье, из которого били лучи; точно солнце всходило; спешила к восходу: понять, допонять; будто «Я» разрывалося, став сквозняками мандровской квартиры; «оттуда» блистало ей солнце, составленное из субстанции сплавленных «Я», обретающих о́смыслы в «Мы», составляющих солнечный шар.
Этот солнечный шар называла она своей родиной.
Да, вот!
– Лизаша, – вы здесь? – выходила из двери мадам Вулеву.
И огромная сфера сжималась до точки:
– Ну, ну – полно то́мничать.
И – снова пряталась.
Снова Лизаша – бежала, бежала, бежала, бежала; за нею ж – бежала, бежала, бежала, бежала: мадам Вулеву.
Так сознанием вывернуться из мандровской квартиры умела, которая – только аквариум с рыбками, или с русалками вроде Лизаши: «Лизаши» – нет вовсе; но стоило сделать движение – сфера сжималась до точки: до нового выпрыга; твердо стояли предметы; предметились люди и жизни: был складень тюков, свалень грузов.
Очнулась от мысли, а Мити все не было; твердо стояли дома: в каждом, – сколькие люди себя запеча́тали на́смерть; Москва – склад тюков, свалень грузов; и – кто их протащит? Да время. Не вытащит ли оно всех их – в «туда»; и не бегает ли она в мыслях в далекое время, когда разорвется и «м», чтобы сплавиться в «Мы»?
Вот об этом и силилась Мите она рассказать, укопав миньятюрное тельце в мягчайших подушечках, вздернувши умницы бровки; ждала, что он скажет; ведь он только слушал ее без протеста; и силился высказать то, что не выскажешь:
– Нет, не умею…
– Попробуйте, Митенька, сделать, как я: посидимте, закроем глаза; и – «туда».
И – сидели: ковер кайруанский сплетал изузоры свои; попугайчик метался:
– Безбожники!
И появлялась мадам Вулеву:
– Экскюзе: я не знала; вы здесь – не одна…
И Лизаша сверкала от гнева глазенками.
Люди делилися ею; одни не бывали «там», как Вулеву; а другие, как Митя, бывали: во сне; сон тот силилась выявить Мите, его сделать опытами молчаливых каких-то радений (игра в посиделки); а Митя, своим подсознаньем тянувшийся к ней, преломленный «русалкой боль– ною», в ней жившей, тогда становился уродцем: не мог ухватиться за то, чему не было форм; думал – хочет схватиться за ножку.
Лизаша же – щелк его:
– Митька, отстаньте!
И после – трепля по головке:
– Уродец!
Да, странно сложились ее отношения к Мите.
В Ликуй-Табачихе бил колокол – густо, с завоями; туча разинулась красным ядром; искроигрием ледени бросилась улица; и позабыв, что дала уже, нищему – в руку монеткой она:
– Да воздаст тебе сторицей Бог!
Тут и Митю увидела.
Он крепышом, в карачае, в тулупчике черной овчины, надвинув на лоб малахай, разушастую шапку, спешил к себе.
– Митенька!
– Здравствуйте.
И показалось, что встреча ему неприятна.
Она объяснила по-своему это; и стала просить к ним вернуться:
– Вы «богушку» вовсе не знаете, Митенька: вспыльчивый он… Ну, ему показалось тогда, что вы… вы… – покраснела, – меня обижаете… Я уж ему объяснила все это.
Но Митя – заумничал: нет, нет, нет, нет!
– Понимаете сами… Бить…
– Митенька…
– Чёрт, – я не кто-нибудь!.. Я и отцу, – он схвастнул, – не позволю… Я… мы… веденяпинцы…
Крепко обиделся.
И – обнаружилось, что он имеет какое-то что-то: «свое»; о Мандро ему некогда думать; теперь он уж – сам; Веденяпина слушает он…
Перебила Лизаша его; стала спрашивать:
– Ну, а как с «этим»?
– О чем вы?
Она разумела – подлог.
Митя ей – с напускным равнодушием:
– Вздор: пустяки.
И опять принялся:
– Веденяпинцы… Нас Веденяпин… У нас Веденяпин…
Обсамкался видно: такой – самохвал, самоус, с «фу ты, ну ты»; еще удивило, что Митя попутно ей бросил: с нарочным небрежьем:
– Отец-то ваш: был у нас.
Будто хотел показать ей: у нас такой дом, что не «эдакие» еще будут в нем.
– Был?
– У отца.
И опять за свое:
– Веденяпинцы мы… Веденяпин у нас…
В разговоре он взлизывал воздух.
Опять непонятности: был у Коробкиных? Как непонятно и то, что вчера «о н» кричал в телефонную трубку: «Коробкин, Коробкин, Коробкин, Коробкин!». Да, мысли у «богушки», точно в коробке, – в коробкинском доме: что это?
Она посмотрела на Митю: он стал крепышом; он очистился даже лицом: прыщ сходил; да и взор в нем сыскался; – спешил.
– Вы побудьте со мною немного, Митюша.
– Нет, нет: мне – пора… Я ведь лынды оставил.
И вдруг с неожиданным пылом, которого не было в нем, он пальнул:
– Я хочу отличиться каким-нибудь доблестным подвигом.
Юрк – под воротами!..
………………….
Грустно стояла Лизаша; и – думала: Мити лишилась она; все ж, – они понимали друг друга; а вот с Переперзенко не представлялось возможности ей говорить: утверждал:
– Вы больны…
Ведь Лизаша жевала очищенный мел.
Только водопроводчик (полопались трубы в квартире) – сказал:
– Сицилисточка, милая барышня, вы.
И ей сунул брошюрку, в которой прочла она: жизнь ее в «здесь» – буржуазная; в «там» – жизнь грядущего строя; то – «царство свободы»; Лизашин прыжок из «отсюда в туда» был рассказан: прыжок – революция; странно: революционеркой себя ощутила в тот миг, как сейчас вот, когда показалось, что время, верблюд, став конем, будет рушить домовые комья: Москва – будет стаей развалин; когда это будет, когда?
Поскорее бы!
Перекривился в сознаньи ее социальный вопрос; все ж – он жил: очень остро; взволновывали отношенья с людьми; особенно – с «богушкой»; с ним говорила лишь раз о своем царстве в «там», куда время – бежало, куда убегала она, выбегая из времени; «богушка» – морщился; и в результате пришел доктор Дасс:
– Вы страдаете, барышня, – нервным расстройством.
Лизаша боялася улицы; ей – представлялось: она – из стекла; вот – прохожий толкнет; и она – разобьется.
Склонение дня исцветилось сиянством: отрадным, цветным сверкунцом веселилася улица; у приворотни стояла какая-то сбродня; понюхавши воздух, заметил какой-то:
– А завтреча – подтепель.
– Вы завсигда это: сбреху.
– А энти вон воздухи…
– То – быть кровям!
Уж сверкухой прошелся по окнам закат; и окарил все лица; уже многоперов облако вспыхнуло там многорозовым отблеском; город стал с искрой: лиловый; потом стал – черновый.
И Грибиков вышел: и – гадил глазами.
………………….
Лизаша с недавнего времени «богушку» мыслью своей за собою тащила «туда»; упирался; и делался образ его в ней какой-то – не тот: дикозверский, осклабленный, странно-пленительный; демоном в мире ее он внимал ее «песне»; и – пелось ей все:
Я тот, которому внимаешь
Ты в полуночной тишине.
Так усилия мысли ее перешли в экзальтацию: солнечным шаром рвалось ее сердце; с тех пор началось – это все.