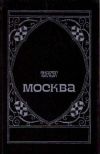Текст книги "Московский чудак. Москва под ударом"

Автор книги: Андрей Белый
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 27 страниц)
И дождь, Сверкунчишко Терентьевич, затеньтеренькал по крыше; и стал переулочек не Табачихинским, а Сверкунчихинским; Камень Петрович стал Камнем Перловичем; камни и крыши испрыскались дождичком.
Забирюзовились воздухи.
Желтый просох исклокочился травкой; заширился топольный воздух везде; и потом уже только раскрылась сирень; и сиреневый запах душил переулки; стояло дзененье комариков в серо-зеленые сумерки сада; и щелкало птицею; первая ласточка, забелогрудяся, взвизгнула: взвесилась в воздухе.
Стало тепло и пленительно.
Но безобразней валили бульваром безрылые толпы; из желтого гарева бухали меди оркестра. И кто-то, одевшися в летнепикейные брюки и в пестрый пиджак, с белоснежной панамой, зажатой в руке, подмахнув камышовою тросткою, несся – и несся и несся – в открытые дали сквозных переулков и улиц за «нею».
«Ее» – нигде не было.
Федор Иванович Пяткин, надев парусинный картузик, бродил, как и в прошлом году, и выискивал случай: напасть на знакомого.
Словом – весна!
И – Москва!
И Москва развалилась в весну, растаращась кварталами, – этим, сплошь сложенным из серо-желтых и серо-сиреневых кубов, с пролетом ландо, лихачей и трамваев под ними – в Сокольники, в парк (под открытые сцены), и с этим – вразброску: пяти-, одно-, снова пяти-, снова одноэтажных и двух-трехэтажных домов: вот и с э т и м, которого цвет – белый с пагрязцею и которого дом – двухэтажный, без лепки, украшенный синею вывеской, с очень невзрачным проглядом подвальных окошек, откуда виднелся проход сапога пешехода (не сам пешеход), изнуряемый сыпью известки, разложенной аспидно-сереньким, серо-сиреневым, серо-песочным, желточным и розовым колером, только кой-где молодевший подцветом: морковным, кисельным, зеленым.
Дома деревянные, колером серо-кофейным, кофейно-коричневым, – разнообразили улицы; а переулки кривели живою раскрикой цветов: синегрифельных, аспидно-розовых, где из двора проросла молодятина, где и забор прозвучал спевом ветра с гармоникой, а подзаборье рябило расплюями семечек, павертнем мух, улетавших в открытые знои; под грохот пролеток рыкал оглушительней лбастым булыжником в этом квартале; а тумбы – кривее здесь были; серей – мимоходы людей; когда небо – взадуй, здесь – сильней вертопрашило: и открывались везде сухоплясы; и дом здесь стоял, точно каменный ком.
Дом за домом – ком комом!
Там вечером кто-то садился и видеть, и нюхать: желчь пламени, павшего четко на стену глухую; и коврика дух завонялый в окошко.
Вот улица с рядом фасадов (фасад за фасадом – ад адом); и вдруг – переулок тишайший.
Там дом деревянный, с дубово-оливковым колером и с полукругом резьбы надоконной надстройки, – стоял, украшаясь и ниже резьбою: Пегас, конь крылатый, припавший и справа, и слева к Горгоне (копытом и гривой – под змеи), был вырезан ясно; жильцам невдомек, что то вырезан миф; здесь, в прощеле ворот, и глубоком, и узком, вытарчивал угол сарая, качалась веревка с просушиной тряпок лимонных и синих, белела глухая стена трехэтажного дома, глядевшего в Пащенков глухо заросший листвою большого зеленого сада тупик, обливавший Москву соловьиным отще́лком, – с сидящею девушкой в серо-сиреневом платье и в пляшущей ветром юбчонке.
Над ней – белиле́й лепестков загроздившей сирени в глубоком и синем Васильевском небе, где облако, про́дувень, тая, терялось клоками.
Все это – Москва!
И Москвой назывался район, где Пречистенка, улица тихая, тая в сплошных переулках, стояла домами отдельными; там – в переулках, дома, отойдя с тротуара в глубь сада, скрывали свои и колонны, и окна: листвою.
Свернем…
Вот – тот дом!
Пять жерельчатых, белых колонн, – без дантиклов; к абакам принизился розовым выступом легкий фронтон, треугольником врезанный в голубо-пепельный и в теплооблачный день; он тишал, отступя от колонн розоватой стеною с гирляндами белых венков над промытыми стеклами окон и чуть выдавайся выступом низа: сложеньем квадратов; в подъезде – два льва, к тротуару слагающих продолговатые морды; и легкая арка ворот: в теплооблачный воздух; литою решеткой, скрещеньем гермесовых жезликов, – отгородился от улицы; дворик асфальтовый, камень конюшни, кусты, – те, которые после дождя сребродроги: дотронешься, – и оборвутся потоками капель в тот час, когда кто-то у окон присядет покуривать в бисерный воздух, когда на обтесанных плитах подъезда детва плюет семечком в вечер, а вечер, уже отстекливши окошком, является облачком цвета вишневого.
Рядом – пальметты, дантиклы, гирлянды оливково-темных колонн дома бледно-фисташковых колеров, где из гирлянд отовсюду просунулся мордой профессорский фавн овнорогий, затмившийся в зеленоватые сумерки, в шум от деревьев за домом живевшего сада; над купами месяц, свое новолуние спрыснув, твердится сквозным халцедоном из мутно-сиреневой тверди.
Москва!
Да, – она!
………………….
А уж парит!
И – загрозарело; деревья склонились друг к другу бессмыслицей, шепотный смысл в них явивши; и пагубородное что-то закрыло луну, перед нею пропятяся лапой – когтистою, черной – подкравшейся тучи; уж лапа разорвана в желто-зеленые и в желто-черные клочья; над ней, за трубой дымовой, – черно-желто-зеленая пасть: уже жутя, в пустом переулке дряхлец тащит челюсть на шее; фасад за фасадом – ад адом.
И двери, как трещины.
Загрозарело: ругается где-то прохожая туча; темнеет; за крышею семиэтажного кубища небо – взадуй: сухоплясами в окна; и – молньями в окна; дом, каменный ком, вспыхнув в выжелчень пламени, смерк; и на нем кто-то, дряхлый, на белой стене в переулочке, вспыхнувши шеей и челюстью, – смерк.
Положа руку на́ сердце, – там, на эстраде, в проходах, – стояли, сидели, обменивались впечатленьем, поклонами, иль протирали пенсне, Айвазу́лина, Ба́бзе, Ветмашко, Глисти́рченко-Тырчин, Икавшев, Капустин-Копанчик, Нахрай-Харкале́в, Ослабабнев, Олябыш, Оле́ссерер, Пла́рченко, Плаче́й-Пепе́рчик, Шлюпуй, Убавлягин, Уппло́, Фердерпе́рцер и прочие, прочие – вплоть до Боговича: свора имен! Из них каждое – «имя», согбенное бременем лет, многотомных трудов, орденов и ученых дипломов, уже заключенное заживо в «Энциклопедию»; хоть бы – Пластальцев, лет десять сидящий в «Гранате» (такой есть словарь) меж «пластрон» и меж «Плантаге-неты».
Хотя б – Айвазулина: женщина-стереохимик, взошедшая на Титика́ку, сказавшая спич в Санта-Фе-де-Бого́те, надевшая около острова Пасхи скафандру и после едва не бежавшая с дон Бордигере-Хуан-де-Пете́лло, министром бразильским; Глисти́рченко-Тырчин, прорезавший опухоль горла у вдовствующей кронпринцессы австрийской; Нахрай-Харкале́в, путешественник, автор двухтомья «Цвай ярен мит антропофа́ген»[29]29
Два года с людоедами (нем.).
[Закрыть], дружив-ший с Ньям-Ньямами, съевший в Уганде засохшие уши убитых врагов негра Мбэ́бвы, ошибочно думая, что то – сухие грибы; а Капустин-Копа́нчик (вот он – челють пятит к мадам де-Морга́сько), он – автор работы «Отчет по окраске плазмодиев осмиевым препаратом» (три тома); Шлюпуй – не «шлюпяк» (в словаре у «Граната» они оказалися рядом), а (явствует все из «Граната») профессор и автор работы «О действии Леонтодо́н-Таракса́котум на сокращенье кишечника Лу́тра Вульга́рис»; а Плачей-Пепе́рчик, известный в Германии, в Льеже. Досель в гейдельбергском химическом техникуме стоит крик о «Пепертшик, с титри́руйтен»[30]30
Обкладки для тетрирования Пеперчика (нем.).
[Закрыть].
Все появились они, чтоб отчествовать «Математи– ческий Сборник»; и – да-с – вот так фунт: основателя «Сборников» этих, Ивана Иваныча, ждал бенефис, да – какой еще!
Фунт с полуфунтом!
Ивану Иванычу было невтолк и неве́сть, – что же, собственно, будет; обычно он вел заседанья: он – был заседаньем: решал, открывал, заседал, сообщал – только он; все иные, присутствующие в «М атематическом Об-ществе», – только молчали; сегодня он был отстранен от всего (Млодзиевский взял в руки его); дело ясное, – да-с, – что предмет заседания – он; в этом случае сам соблюдал отстраненье; держался «предметом»; и тупил глазенки, когда заводили беседу об этом; сегодня бодрился с утра; перетрусил к обеду.
Теперь – дободрился; и – выглядел доблестно.
Попричесался, загладил мохры; и казался, представьте, курчавиком; щелкал крахмалом пропяченной грудью; во фраке кургузом – курбатиком выглядел; с ним обходились внимательно; как показался в профессорскую, – резбежки, подбежки; Млодзиевский, и тот – бегушком: петушком! Члены Общества и делегации были во фраках смешных, белогорлые и белогрудые; туго зафраченный Умов подкрался на цыпочках – с ласкововещим, искательным голосом; все вкруг сгрудились, друг другу внушая очками: быть легкими, ясными; слышался шепот:
– Как!
– Не принесли?
– Депутация от…
– Депутация…
– Тсс!
– Ай, ай, ай, – что вы, батюшка! Вы бы…
И «батюшка» спешно куда-то летел.
Физиолог растений Люста́ченко (гербаризировал двадцать пять лет) с Щебрецовым шептался в углу: говорил, что хотели – ей-ей – в гидравлическом прессе системы Дави́ назвать винтик ответственный – «винтик Коробки-на»; и утверждалось, что Павлов, геолог, в штрихе «ги– перстена» найдя что-то новое, новое это принес, чтоб отметить «Коробкинский день»; на Коробкина нежно косились очками, как бы приглашая друг друга вполне восхититься: единственным зрелищем; он, повздыхав, покорился тому, чтобы «чох» его каждый возглавил там что-нибудь; фрак же на нем был кургузый немного: с промятою фалдою.
Фалдами мягко юлили вокруг.
Гоготе́нь доносился из зала.
Студенты ломилися толпами там, заполняя проходы и хоры; прилипли к стене; был галдеж под колоннами: распорядитель в лилейной перчатке, в зеленом мундирчике, с воротником золотым, – прижимая шпажонку, показывал, где кому сесть; порасселись седые профессорши в первых рядах, в платьях скромных фасонов и колеров (с рябью) – тетеркиных, коростелиных и рябчиковых: все – такие индюшки, такие цесарки; ряды – лепетливые; дамы – почтенные; кто-то, кряхтя, костылял; поздоровался с Су́перцевым, с Тарасевичем, Львом Александрычем, с Узвисом; маленький ростом Анучин с лицом лисовато-простецким, с лисичьими глазками, морща свой лобик, хватался за нос, проходя на эстраду, где груди крахмалом пропятились; но задержался с Оле́ссерером.
И Олессерер важно лицо оквадратил.
Олессерер площадь сознанья разбил на квадраты наук, иль – кварталы; и в каждом поставил квартального: здесь стоял Дарвин; там – Кант; и – показывал палочкою: «От сих пор – до сих пор»; умерял циркуляцию мысли квартальным законом («от сих» и – «до сих»); когда мыслил Олессерер, – переменял он кварталы: здесь – звездное небо; там – максима долга; его мирозрение не было, собственно, «мировоззрением», – адресной книгой участка, где каждый прописку имел; здесь прописан был Дарвин; там – Кант; на вопрос, что есть истина, он отвечал себе: «Мысля в таком направлении – то; мысля в эдаком – это!» Был враг прагматизма; боролся с Бергсоном и Джемсом: «Помилуйте, – хаос сплошной!» Все ж, – Бергсон мыслил хаос, пускай хаотически; Гитман Исаич Оле́ссерер люто боролся с прочтеньем чего бы там ни́ было, с уразуменьем чего бы там ни́ было; читывал он лишь прописки в участки того или этого факта, в принципе невнятного; строгость логических функций его был отказ от попытки: помыслить.
Женат был на дочери брата Касси́рера[31]31
Германский философ.
[Закрыть].
Передрябевший щеками и носом провисшим, с прискорбнейшим драматургическим видом, во фраке, сжимая в руке шапоклак, – одиноко прошел в первый ряд Задопятов; осунулся; на Задопятова как-то дрязгливо глядели:
– Вы знаете, что – Анна Павловна?..
– Что с Анной Павловной?..
– Да апоплексия!
– Бедная!..
– Не говорит, а – мычит…
В узком фраке, прилизанном к узкому телу, летком пробежал Исси-Нисси, застрял под эстрадою в первых рядах и, бочком проюркнувши, исчез в центре их; вновь привыюркнул; и – на эстраду взвился, точно ласточка, взвеяв развилочки фалд; и – шептались:
– Вот…
– Где?..
– Исси-Нисси.
– Японский ученый!
– Известный ученый!
А Исси уже на эстраде сисикал:
– Си – си… С Нагаса́ка плисла телегламм…
– Си-си-си…
– С Нагасака плофе́ссолы все…
– Ишикава, Конисси!.. Си-си… Катаками!..
Сплошной риторический тропик: с гиперболой – в пуговках глаз, с очень явной метафорой – в мине.
Уже на эстраде сидели, – отделами и подотделами: геогенический, геогнозический, географический, геодезический, геологический; далее, далее, – хоть до «фиты»; среди «точных» ученых терялись «неточные»: Л. М. Лопатин и Г. И. Олессерер; диалектолог почтенный пропятился челюстью; старый гидрограф, сердись, устанавливал запись приветствий.
Да, да, – над зеленым столом поднимался изящный ландшафт из крахмалов, пропяченных докторских знаков и беленьких бантиков; просто не стол, а – престол; не графин, а – блисталище; не колокольчик, серебряный – «гралик»; все ясно вещало о том, что уж близится время, когда прикоснется рука, прощелясь из манжетки, – к звонку, – огласить:
– Совершилось!
И станет Коробкин, – здесь скажем, вперед забегая, – совсем не Коробкин, а «Ка́ппа-Коробкин»!
– Ну что ж, Болеслав Корние́лич, пора?
Млодзиевский же нежно взглянул на Ивана Иваныча, точно он был белым лебедем: кренделем руку подставил:
– Пора-с!
С ним – летунчиком: к двери!
У двери – всемерная бежность: проход на эстраду, где, к стенке прижавшись, стояли магистрики; профессора выплывали квадратами: Суперцев, Ви́дитев, Ябов, Крометов, Мермалкин, Орпко́, фон Зоа́лзо; и – прочие; приват-доценты летели, меж ними построив косые углы.
Из-за всех прокурносился он, ими всеми ведомый, как козлище.
Шествие было скорее введеньем, – внесеньем: почти – вознесеньем; и справа, и слева – бежали за ним; и – бежали пред ним; в спину – пхали; старался степениться; и – выступал, сжавши руку в руке; так был пригнан к столу, обнаружился, с задержью, голову набок склонил; и стоял, озираясь какой-то газелью (сказать между нами, – стоял лепешом).
Поднялись в громозвучном плеска́нии, в единожизненном трепете; кланялся; прямо, налево, направо (одним наклоненьем вихрастой своей головы); среди плеска бодрился; боялся, что будут, схвативши, подбрасывать в воздух. И – скажем мы здесь от себя – что за вид! Что за пес? Что за куча волос: в чесрасче́с! Нос – вразнос!
Курбышо́м в кресло пал; Млодзиевский, пропятясь крахмалом и докторским знаком, таким перевертышем сел рядом с ним в белоцвет из грудей, обрамленных блистательно фраками; в натиске взглядов вскочил.
И рукой со звонком произвел он курбет, приглашая к вниманию зал: он приветствовал «Сборник» в лице основателя сборника.
Тотчас же встал с очень нервным закидом свисающей пряди волос Тимирязев; держался за палку (удар был полгода назад); его встретили: гаки и бешеный плеск; стеганул, раздаваясь прыжком звонковатого голоса, – ярким приветствием, быстро бросаясь бородкой, рукою и грудью, как некогда ловкий танцор перед «п а»; говорил он от «Общества естествоведенья»; сзади топталися с адресом в папке, – Крометов и Су́перцев; «Общество антропологии и этнографии» было представлено носом Анучина; «О бщество распространенья технических знаний» двуоко стояло профессором Умовым, а «Инженерное Общество» нудилось где-то Жуковским; все три делегации плачем, двуочием, носа защемом хотели почтить.
Кто-то тщился вторые очки нацепить; кто-то, глохлый, пропячивал ухо; внимала семья математиков: жмурились, точно коты, кто – с надглядом, кто – сам себе по́д нос; и – взглядывали на Ивана Иваныча; в центре сидел он, такой косоокой, такой кособокой собакой.
Батвечев докладывал:
– Доблестно вы послужили науке!
За адресом – адрес: слагалися грудами; в этом с размаху рубило увесистое слово Мельтотова контур его устремлений, а в этом Мермалкин уже выщелачивал мелочи завоеваний, им сделанных, – жестким отрезываньем:
– Вы очистили метод!..
– Вы высказали в «Инварьянтах» огромную мысль!
– Вы в брошюре «О чистой науке» на двадцатилетие опередили…
Восстал Шепепе́нев – с большим кулаком; он ругательским лаем грозил юбиляру:
– Ты поднял, – зашваркал рукою он, – нас.
– Ты… ты… ты… – водопрядил периодами, – был опорой.
Манжеткою в воздух:
– Товарищ, друг, брат!
Показалось, что бросится бить; он – расплакался.
Шел, отирая испарину, – ежеголовый, с промокшей манишкой, совсем без манжета (последний, наверное, вылетел).
Веер приветствий!
Казалось, что жизнь всех внимающих руководилася правилом жизни Ивана Иваныча и что брошюрочка «Метод», в которой профессор едва обронил две-три шаткие мысли, есть вклад в философию.
Если б так было!
Но было – не так.
Эти люди не жили заветами Дарвина, Маркса, Коробкина, Канта, Толстого, но жили заветом – начхать и наврать; юбиляр быстро понял: рассказывать будут теперь они не́были; и – захотелось сказаться; еглил он под пристальным взглядом двух тысяч пар диких, расплавленных и протаращенных глаз.
Болеслав Корниелевич встать не позволил ему:
– Это – после.
Осекся: глаза ж, егозушки, плутливо метались, когда он выслушивал, что он наделал.
Никита Васильевич встал.
Своей левой рукой, залитою в перчатку, держа шапо-клак, пальцем правой, опухшей, наматывал и перематывал ленту пенсне:
– Друг и брат, – провеща́л не глазами, а – бельмами, – в этот торжественный… – замер рукою: и кистью, зажавшей пенсне, иль, вернее, пенснейным очком он надрубливал тот же пункт в воздухе: но поперхнулся, платочек достал, зазвездяся глазами; уставил глаза в шапоклак, куда воткнуты были с перчаткою, с палевой, – листики.
Считывал с них он:
Ты помнишь ли, – под бедной занавеской
Глядели мы на мир?..
Ты истину искал под занавеской;
И – Смайльс был твой кумир!
Разумелася драная та занавесочка повара, – в пятнах, в клопах, – под которой сидели соклассники: «Ваня» и «Кита»; и всем показалось, – Никита Васильич всплакнет; он – всплакнул, защемив двумя пальцами нос посиневший и делая вид, что сморкается; слезы платочком смахнул, и – уставился в клак:
Прошли года… И тот же ты поборник —
И правды, и добра!
И вот тебя сегодня мы – во вторник —
Приветствуем: ура!
Жидко хлопали.
Встал Исси-Нисси с приветствием от нагасакских ученых; и раз-из-изысканно – из-из-из-из – выводил тонким голосом, точно смычком; и казалось – стоит перед Распрокоробкиным, как – Невознисси; студентам же – мало: невсыть и невтерпь! Ненаградным казался любимый профессор: палили глазами; но, неопалимый, – сидел.
Млодзиевский хотел исче́рпать бесконечный поток телеграмм (после каждой – шлеп, гавк):
– «Поздравляю. Делассиас». «В радост-ный день юбилея приветствуют – Ложеч-кин, Блошкин». «В высокоторжественный день шлю привет с пожеланием многих трудов юбиляру. Махо́риер-Порцес». «Лу-ганск. Гаудеамус. Ивотев». «Влоградец. Коробкину – слава! От брат, славянин, Ярошиль». «Париж. Десять. Фелиситатион. Панлевэ» (гром приветствий). «Калуга. Веди к не-доступному счастью того, кто надежды не знал. Инженер Куроводов».
Прочли от сенатора Кони, Веснулли, от Артура Вхо́рчера, от Мака-Драйда, от Поля Буайе, Ильи Мечникова, Николая Морозова; не перечислишь; средь прочих пришла телеграмма в стихах – из Сарепты; но – спрятали: не огласили:
Виват, Н. Коробкин!
Ты – наш «вадемекум».
Ипат Двуутробкин.
Феона Бромекум.
Не «И» – «Э н» Коробкин стояло; в «С аратовской Жизни» написано было: «Наука российская бу-дет цвести, пока в ней будет действовать стая орлов: Ильи Мечниковы, Николаи Коробкины». Верно, с Коперником спутал газетчик; отсюда – мораль: проживая в Сарепте, в приветствиях должно себя ограничить фамилиями.
Увенчали приветствием бактериолог Бубонев и Штернберг: или, астроном; последний поднес юбиляру открытое только пред этим светило, – не «альфу», не «бету», не «дельту» и даже не «эпсилон»: звездочку «кап-па», которой и дали название «Каппа – Коробкин»; а бактериолог Бубонев поднес юбиляру бактерию «Нинам Коробкиниензис»; она представляла собой разновидность известного вида уже «Нина Грацилис»; химик хотел поднести изомер производного ряда «гептана». Ну, словом, – Коробкин вознесся, распластанный, в космос.
Сиял в отстоянии тысячи солнечных лет; это значит, что надо умножить число триста тысяч на сумму секунд в круглом годе, на, скажем мы, три миллиона секунд (счет весьма приблизительный); эту же цифру помножив на тысячу, мы и получаем – вот черт подери – десять тысяч сплошных и пустых биллионов: то – счет километрам меж бренной землей и меж «Каппа – Коробкинским» миром.
С другой стороны, надо было суметь ограничить себя тараканьим кишечником, чтоб оценить обладание «Нина Коробкиниэнзис», водящейся в оном; профессор не мог проживать в тараканьей кишке; и не мог ничего предпринять в своем «Каппа-Коробкинском» мире; владения эти висели над ним; все ж «ин спэ»[32]32
Букв.: «в надежде»; в будущем (лат.).
[Закрыть] оказался он газовым шаром, бросающим протуберанцы на двадцать пять тысяч (и – более) верст от себя.
Нет, недаром японец воздвиг ему капище!
Вот он смотрел, умиленный, на всех просиявшей, тяжелой, какой-то златой своей мордой из фраков, его окружавших, поставив два пальца своих пред собою; казалось, хотел теперь дать он завет всеми признанной «Каппа-Коробкинской» жизни.
Откуда-то издали, фраком виляя, пропятясь доцентским значком, Лентельпель Эраст Карлыч – старался протиснуться.