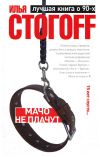Текст книги "Пушкинский дом"

Автор книги: Андрей Битов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Альбина
– Или вы меня презираете, или очень любите! – сказала она наконец голосом, в котором были слезы… – не правда ли, – прибавила она голосом нежной доверенности: – не правда ли, во мне нет ничего такого, что бы исключало уважение…
Во всех выяснениях отношений, особенно если они давно уже выясняются и обрели свою периодичность, свой ритуал и ритм; как бы сложны и разработаны ни были надстройки обвинений и доводов, участников интересует, в принципе, один вопрос: кто начал первый?
И положа руку на сердце, на которое он в эти моменты ее сценически клал, трясясь от отчаяния, Лева, что совершенно естественно, был убежден, что – Фаина и только Фаина, что он – даже вот на столечко!.. а она… Да что тут говорить, вопиющую несправедливость ее упорства мог снести только Лева, любой бы другой на его месте… «Ну ладно, не он первый, не он последний, сам факт еще можно пережить… – говорил он, – но вот эта стена лжи, о которую он бьется, она-то за что?! это же сойти с ума! Именно, что она хочет свести его с ума… Ведь что такое “правда”, Фаина? Правда – это хирургия, операция: ты лишаешься чего-то, но и выздоравливаешь… Все еще будет хорошо у нас… но для того, чтобы оставить прошлое в прошлом, надо там оставить в с е. Понимаешь, ВСЕ!..» О господи! Он-то выдержит, он все ради нее выдержит… но – сердце!
Это действительно подлежит удивлению, как выдерживает наше бедное сердце! Оно – выдерживает. Всякий раз.
Но если бы он действительно положил руку на сердце, вернее, если бы он мог положить сердце на руку, то там, на дне его, в еле угадываемой сосудистой перспективе, таилось что-то такое маленькое, неразличимое, самое страшное, на что бы он никогда не согласился, в чем бы он не сознался ни под какой пыткой, будто здание его неопровержимой правоты, возводимое в лесах логики по типовому проекту ссоры, было единственной его недвижимостью, обеспечивающей какое ни на есть продолжение их жизни… одна спасительная опора – была его правота, единственный берег в океане ее предательства… Но там, на донышке, которого он не приближал и не разглядывал, потому что уже знал, что там, – там он не знал, кто же первый. Конечно, Фаина – та была действительно глубоко грешна, а он – так, пустяково, неблагодарно, не в счет, но все-таки… если помнить об этой ерунде, позиция его начинала зыблиться и заваливаться…
Несомненно, что Лева любил Фаину. Даже если поставить под сомнение «истинность» его чувства, то хоть и в «неистинном» – он любил ее всегда. Даже тогда, когда ее в помине не было (еще в школе он дружил с Митишатьевым…). Но однажды (пусть это звучит как в сказке) и Фаина любила Леву. Не то чтобы любила, но так, в общем, сложилось или получилось. Возможно, это тот самый «мирный» период, которым завершилась история с кольцом… Вернее, что просто некий промежуточный был период у Фаины, может, и не любовь – просто ничего другого не было, так что Лева, прекрасно это чувствуя (все мы прекрасно это чувствуем), был спокоен и мысли о том, что любая уверенность оплачивается у него последующей неуверенностью, куда более мощной, не допускал, как и всякий живущий. Тут и вся разница: одни получают уверенность как бы в награду за предыдущую неуверенность, другие получают неуверенность в наказание за предыдущую уверенность. Впрочем, все это неразделимо и едва ли различимо, и все это вместе. Короче, Лева был спокоен, но, как это ни странно (быть может, одному Леве это и странно), того ровного и бесконечного счастья, какое могло бы тут померещиться, вовсе не произошло, а возникла просто некая пустота, приправленная некоторой сытостью и самодовольством, которые, возможно, и не суть, а лишь форма той же свойственной людям Левиного типа растерянности, когда неизвестно, как тут быть. А им всегда это неизвестно, только иногда это страдание, а иногда – сытость. Лева очутился супротив возникшей перед ним пустоты удовлетворения и – то ли был растерян, то ли сыт.
Тут и появляется Альбина, как возможность. Хотя Альбина, с точки зрения Левы, никогда бы не уязвила Фаину, измена с ней ровным бы счетом ничего не значила и никакого равновесия установить не могла. Если Лева и обращал иной раз внимание на женщин, то только как бы с точки зрения Фаины, только на тех, кого Фаина могла бы счесть своими соперницами (так мы усваиваем вкусы противника и начинаем насвистывать «Розамунду»).
Однако именно Альбина. Она была бедная девушка, и Лева очень стыдился своего долга (которого так никогда и не отдал). Они встретились снова на дне рождения дяди Мити. Лева был удивлен, увидев у дяди Мити Альбину. (Приглашая его, Диккенс сказал: «Только без своей бабенки», – он не любил Фаину, и только ему Лева прощал это.) И еще был удивлен Лева, отметив особую предупредительность и галантность Диккенса в разговоре «с этой молью». Это-то и заставило Леву обратить на нее некоторое внимание. К тому же он подналег на «Митинку», в жилах его загудел ржавый чифирок. Дядя Митя, продолжая любоваться своей гостьей, достал даже какую-то репродукцию Гирландайо и всех приглашал отметить сходство. Тут-то Лева и имел неосторожность пожать под столом руку бледной Альбины. Некоторое время он мял ее нежную ручку, и она не отбирала.
Лева и думать наутро об Альбине забыл – только голова трещала. А она не забыла. Она звонила ему без конца. Лева, к стыду своему, вспоминал, как жал ее руку и договаривался о встрече. Она звонила об этой самой встрече. И голос в трубке был такой, что и отказать он не мог, ни тем более согласиться. Он очень ругал себя за это. Он вспоминал дядю Диккенса – вот это мужчина! это джентльмен… Этот бы никогда не постеснялся за ближнего. Как он вчера был предупредителен с нею!.. Но даже пример дяди Диккенса не вдохновлял его.
(Пора признаться себе, нам очень хочется, чтобы именно в этой части впервые объявился дядя Диккенс! Как вариант деда, вместо деда – он бы очень подошел и очень украсил (на роль лермонтовского Максима Максимыча…). Тем более именно его воспринял Лева в красках юности и таким запомнил… Но – поздно. Мы истратили дядю Митю в первой части, другого такого у нас нет. И все-таки он необходим именно в той части, чтобы уравновесить некрасоту деда. Он там «нужнее» (как бы он отнесся сейчас к этому словечку!..). Он ведь всегда там, где кому-нибудь нужнее (чем ему): Леве, стране, мне… Он всегда и покорно там – с бедной гордостью на лице.)
В общем, Лева не хотел идти на это свидание. То ли застенчивость Левина (раздельное обучение), то ли Фаинины вкусы (что скорее) невольно выражались в этом внутреннем хамстве, но, во всяком случае, ничего он поделать с собой в этом отношении не мог: не столько останавливало его то, что свидание это ему было нисколько не нужно, сколько необходимость встретиться и быть вместе с Альбиной на людях. Хотя она отнюдь не была некрасива. Было в ней что-то… И еще что-то, как говорится, хорошее и чистое: врать она не могла, к примеру, – но вот Леве в высшей степени были безразличны эти ее столь редкие достоинства, в том числе и ее внезапная преданность, столь вроде бы ничего не требующая от него… Не мог он с ней появиться на людях, хоть тресни. Но доброе его сердце каждый раз не только раздражалось, но и обливалось кровью, как только он слышал в трубке ее голос, ее старательно спрятанную и оттого столь очевидную мольбу. Он бы с радостью уже согласился… Он уже уговаривал себя: мол, и лицо у нее ничего, и одета она со вкусом, что это только он ее так стесняется, другие – нет… а ведь об уме, сердце, всяких внутренних качествах и говорить не приходится – полный идеал. Но было, тут Леву можно понять, в ее отнюдь не безобразном лице нечто, выдававшее подвластность тому же механизму, к которому столь страдательно до сих пор был причастен сам Лева. Она была как Лева – вот в чем дело. Только Лева был уже не тот… И он пошел наконец на это свидание.
Была кромешная, слякотная, с ветром, погода – выбрал же! – они сразу свернули из центра на безлюдные боковые старые улочки, темные почти совсем. Это Лева свернул, сказав так, что не переносит толпу, что ему просто дурно делается. Он в данном случае и не врал: ему действительно почти делалось дурно от кажущегося внимания толпы к нему с Альбиной. (Может, это был все-таки страх встретить случайно Фаину?.. Хотя Лева и верил математике: вероятность этой встречи в большом городе так мала… Но и эта вероятность могла его испугать.)
Они свернули в эти улочки, здесь Леве было холодно, но хотя бы темно и людей не было. А она ему в рот смотрела, что бы он ни говорил. Говорил, что толпы не выносит, – так и принимала, соглашалась охотно. Она все как бы ждала (это Лева прекрасно чувствовал), чтобы он напомнил о том вечере, что все это не просто так, что он жал ей руку, а раз непросто, то чтобы пожал еще раз и чтобы дальше все пошло, развиваясь. Но Лева старался не замечать этого молчаливого требования, говорил какую-то скуку о своей работе запальчивым голосом: как бы его сегодня очень разозлили, и у него все с ума не идет. Он как бы не замечал, как она снова и снова протягивала ему свою мольбу (хотя только ее и видел), ему было очень нехорошо, стыдно, неловко – никогда он себя таким мерзавцем не чувствовал, что вот не в силах ответить на чувство столь абсолютное…
Альбина же все равно ему в рот смотрела, хотя и не слышала ничего. Только вот у нее всё шнурки развязывались. Она краснела, жалобно просила прощения и начинала их завязывать: от желания проделать все поскорее принимала такую неловкую позу, что завязывать их и вовсе становилось невозможно. Лева же стоял над ней, суетливо торопящейся, ничего не могущей поделать со стынущими на этом ветру руками, молчал, злой дебил… – да и что он мог сказать, весь искореженный стыдом за ближнего и стыдом за этот стыд! И не дай бог, проходил прохожий, одинокий в этом пустом переулке, оттого непременно было ему необходимо оглянуться и посмотреть с любопытством…
Альбина распрямлялась наконец.
Они шли немного дальше, шнурки ее снова развязывались, снова все повторялось – она стояла, скрюченная на ветру, без конца теряя равновесие, суетливо от поспешности путаясь в шнурках и от отчаяния уже, по-видимому, вовсе забывая, как она это всю жизнь проделывала: левую петлю на правую, правую на левую?
А погода была – ужас что за погода! Альбина в пальтишке своем уже ходила крупной дрожью и тоже ничего не могла с этим поделать, как и со шнурками. А Лева был почти счастлив, что погода именно такая, что она как бы кладет естественный предел, и он стал уговаривать ее: она так продрогла, еще заболеет, так не повезло им сегодня, лучше в следующий раз, когда погода будет не такая, – непременно в следующий раз, обещал Лева. Альбина же говорила, что сама не понимает, почему дрожит, потому что ей тепло. Это у вас, наверно, жар уже, лихорадка, говорил Лева, и как жаль, что все так вышло…
В общем, с помощью погоды все еще как-то обошлось сравнительно недолго, и Лева, собрав последнее мужество и терпение – довести ее до дому, лишь только хлопнула за ней дверь парадной, – уже летел как из пращи, ощущая легкость необыкновенную, чуть ли не счастье даже, хотя бы и постыдное. Он так быстро вылетел за поворот, что Альбина, тут же отворившая снова дверь парадной, чтобы что-то у Левы еще спросить или выяснить, никого уже не увидела на этой пустой улице, лишь ветер залепил ей лицо мокрым, тяжелым снегом…
А Лева летел назад, к Фаине, пел даже от радости и клялся себе, божился, что никогда больше на такую жуткую штуку не попадется: кому же приятно ощущать себя скотом?
Однако, вернувшись, он не застал Фаины. Он ждал ее, ждал – она же куда-то делась, неизвестно куда, не оставив даже записки, не предупредив. Собиралась же весь вечер быть дома?.. И не звонила даже. Впрочем, был уже час ночи, объяснял он себе, и она боялась разбудить соседей…
Лева не спал ночь. Так вот – возмездие! Фаина появилась даже не рано утром, а в первой половине дня. Какая-то фантастическая история, тут же с порога, была предложена дрожащему холодной дрожью Леве, вместе с поцелуем в лоб (для чего Фаине пришлось сильно привстать на цыпочки, потому что Лева, стараясь быть каменным, холодным, невозмутимым, головы не нагнул; впрочем, Фаину такой его вид никогда не пронимал).
История была о том, как в Левино отсутствие совершенно внезапно пришел ее старинный приятель и предложил покататься: машина ждет внизу… (Она же знала, сказала Фаина, что Лева сам пошел на свидание, хоть он и старался скрыть, но он же все равно этого не умеет, пусть и не пытается никогда, так она и решила, что почему бы и ей тоже не…) В общем, они поехали за город… нет, они не были вдвоем, был еще приятель приятеля, тоже доцент, он-то и вел машину, потому что ее приятель еще не получил прав… Такая красота! – тут все тает, а там елки в снегу, настоящая зима. Они приехали на дачу, нет, не ее приятеля, а приятеля приятеля, тоже доцента, там поужинали… ну да, выпили немного, она почти не пила… сейчас, погоди, тут-то все и начинается… приятель приятеля, тот, который должен был вести машину, вдруг напился, совершенно напился, и они не могли выехать… что же они делали всю ночь? играли в карты, в кинга… можешь мне поверить, никогда такой тоски не было… да, играли… ты что думаешь, я не знаю, что в кинга вдвоем не играют? втроем играли… ну и что ж, что пьян, играть-то он мог… да и не в этом дело – бензин кончился, да и не в этом дело – машина сломалась, ах, отстань, пожалуйста, не приставай!..
Лева обнаружил на руках, груди, шее такие следы, что – какой там шофер! Фаина еще слегка попуталась, поплавала, но и Лева был ловок ловить в этой мелкой воде. С его обостренной логикой насчет Фаины он быстро припер ее к стенке, и она, с неожиданной, мучительной легкостью, созналась во всем. И сознавшись, к Левиному несчастью, уже ничего не врала. У Левы мигом выскочили рога, причем если бы она хоть соврала с кем, а то с лучшим другом Митишатьевым, и чуть ли не сам Лева виноват: откуда она знает, зачем Лева пошел на свидание? да, если хочешь знать, из ревности… Господи, во что обошлось Леве его свидание! А потом началось, поехало: сколько раз, да раздевались ли?.. Конечно, это был не Митишатьев… Ах, какая тебе разница, кто он… не все ли равно! Ну, один раз, и не раздевались вовсе. Так он и поверил, ха! Ну уж, и разделись! да, догола, а что же терять было уже? Ну и пусть Митишатьев… Пьяна была, вот и вышло так. Ах, отстань! Истинно он про тебя сказал:…страдалец! Да нет же, не он… Сам сволочь!
Оставим их.
Лева удалился на пустую дачу пестовать свое горе. Фаине, в общем сильно его жалевшей, сказал, что не может никого видеть и хочет остаться один. Отцу – что надо срочно завершить одну работу. Сам же пребывал там в жутком слюнтяйстве и маразме, раскладывал без конца какой-то тупой пасьянс, единственный, какой знал, и пил. Тут и навестила его Альбина. Ей сказали по телефону адрес (Фаина, что ли?)… да, женский голос.
Альбина привезла ему какие-то дурацкие пастилки в шоколаде и бутылку кислого вина. Лева холодно и тупо погасил свет. И странно ничего не чувствуя, ничего, кроме власти, именно овладел Альбиной. Будто разглядывал себя сверху, будто висел под потолком и мстительно наблюдал механический ритм покинутого им тела… И лишь повторял на жаркие ее расспросы, полагая в этом некую свою честность, что нет, он не может врать, он ее не любит, то есть любит как человека и очень хорошо относится, но – не любит.
Утром Альбина заспешила на работу, робко пытаясь разбудить его: у него сна ни в одном глазу не было, но он мычал, как бы не в силах проснуться, и глаз не разлеплял. Она, из нежности, не стала будить его, раз он так крепко спит. Нацарапала какие-то свои теплые и жалкие слова на коробке от пастилок и, в последний раз погладив его дрожащей рукой и пролепетав что-то вроде «ласточка моя», отчего Лева покраснел безумно, хотя уже и храпел для убедительности, – ушла наконец.
Лева сел на кровать и завыл. Это именно то слово, без всякого преувеличения. Выл он долго: сначала от души, потом с удивлением к собственному вытью прислушиваясь, потом уж вовсе просто так, от отупения. «Вот тебе и пастилка! Ну и сволочь, – сказал он себе равнодушно. – Что ж такого?» Быстро собрался он и с дачи съехал. В пустой электричке выпил маленькую и проспал всю дорогу.
Он знал, что он сделал это после Фаины. Да и разве мог он считать свою измену изменой?.. Но и ее было достаточно, чтобы все сдвигалось, колебалось. Он теперь не был абсолютно чист: хотя бы – поперся ведь на это свидание?..
И как бы это теперь ни объяснялось, абсолютной правоты уже не выходило – все это было как бы несущественно для следствия… и тогда открывалось второе донышко, а там, в глубине глубины, что еще могло таиться? Там таилось настоящее головокружение: Лева не был теперь уверен и в этой последовательности. В этот раз – да, он пошел на свидание, которое заведомо не могло привести к измене. Но вот почему же он все-таки на него пошел?.. Был, кажется, все-таки был один незамеченный, вернее, не отмеченный им эпизод, почему Альбина и могла для себя остаться в недоумении и проявлять свою настойчивость. Он, конечно, не мог считать (тем более!) тот растаявший факт фактом. Он списывал и этот факт, но там уже воспалялось другое забытое, и это была снова Фаина: неужели уже тогда?! Он ведь так и не знал, куда она еще и в тот, и в тот раз пропадала, к какой подруге ездила на дачу?..
«Да что ты говоришь! что говоришь!.. – восклицала в этом погружении темы Фаина. – Да в самый первый вечер, когда мы познакомились, тебе нравилась другая! Будто не помнишь?.. Стелла…» – «Какая еще Стелла!..» – взревел Лева. «Голубенькая такая… – И Фаина так ловко ее передразнила, что Лева не мог не усмехнуться, не вспомнить. – Ты же тогда к ней к первой полез!» – «Ну уж…» – опешил Лева, польщенный ее ревностью, и Фаина снова была – родной.
«Так что вот так вот, – думал Лева. – Вплоть до Евы (и Ева изменила Адаму до того, как стала его женой), до первородного греха… Дрожит, как элементарная частица, все дробясь и не уничтожаясь… Есть ряд АБ, АБ, АБ, АБ… Измена А, следом измена Б, измена следом опять А, опять Б – такая цепочка… раз начавшись, тянется. Опустим первое А, и получится: БА, БА, БА… Какая разница, если ряд в бесконечность уходит?» Так математично рассуждал филолог Лева Одоевцев, тяготея к естествознанию.
«Ну и убирайся!» – сказала Фаина. «Почему это я – убирайся? – ядовито цедил Лева. – А не ты – убирайся?» Эти слова звучали в их жизни не в первый раз, и каково же было Левино удивление, когда он нашел вместо Фаины лишь маленькое, на редкость ласковое письмо. Она ушла. «Не пытайся меня разыскать» – и все такое. Лева рванулся, но на Сахалин все-таки за ней не поехал.
Дня через три он очнулся. Он шел в этот момент по Невскому, вечереющий проспект как-то особенно отчетливо лоснился после дождя: зонты, автомобили, асфальт, сытое шуршание шин, красное вспыхивание и повизгивание тормозов, – будто видел он все сквозь подсыхающие последние слезы и будто все это мчалось, притормаживая и объезжая его… Он не чуял под собою ног, задирал голову в выполосканное, пересиненное небо и понимал, что он жив, жив!.. Это ни к чему, ни к какому помыслу не относилось: он был жив, потому что дальше его горю двигаться было некуда, он стоял на вершине его и с легкостью смотрел вниз на окружающее и предстоящее пространство жизни. И он вдруг ожил и зажил, зажил – ровно, мерно… будто в прошлом, в пропущенной им более ранней жизни, словно до войны, до революции даже… Тихо, не убыстряясь и не медля, уходил день за днем, и Лева все успевал. Матушка не нарадовалась: Лева – работал, писал, без труда сдал экзамены в аспирантуру… И не заметил как. И всего-то – месяц прошел.
И так вдруг, так внезапно! – умирает дядя Диккенс. Вот горе! Леве дается подумать о том, как ненасущны его личные дрязги, какое это все не то, как мелко и стыдно – перед лицом этой, на букву С…
…Лева увидел Альбину в церкви, на отпевании, и был поражен. Он ничего не подумал, не вспомнил неуместного, он не сказал про себя, как ей к лицу этот черный шарфик… но именно этим был поражен. Когда ему пришлось неопытной рукой кинуть в яму горсть песка, он заплакал. Все тут же и кончилось: маму, быстренько и деловито, как бы скатав, свернув в узелок пустого пальто, увел отец, почему-то мимо Левы, почему-то даже показав ему молча, ладонью, за ее спиной – не подходить… Леву взяла под руку Альбина.
Всю дорогу с кладбища они прошли пешком. Альбина замечательно говорила о Диккенсе. Лева удивлялся: он тоже почти так думал, но слов таких у него не было. Оказалось, они были не просто знакомы, а дружны с Альбиной – об этом Лева понятия не имел. «Он был очень одинок, – сказала Альбина. – У него совсем, совсем никого не было. Все его “погибли”». Кое-каких подробностей даже Лева не знал… «Может, ему там будет лучше, – сказала Альбина, – там наших больше». Как-то хорошо она это простое соображение сказала, как-то особенно, будто имела на него право.
Она имела в виду своего отца.
Его фотографию, висевшую над тахтою, Лева разглядывал утром, лежа рядом с пустой промятой подушкой и откинутым уголком одеяла… Белое, расстрелянное лицо близоруко-чисто смотрело сквозь пенсне на смятую половину постели, где только что лежала его дочь. Он был подданный государства Литвы, строитель, возводивший свои сооружения в Париже и Берне, европейское имя, затерявшееся после войны в просторах Азии… В сумрачной глубине квартиры звякнула чашка, вспорхнул халат… «Ты проснулся?..»
…Фаина для Левы всегда была одна не только потому, что единственна, – вокруг нее никого не было. У нее, как и у Альбины, не было отца, но, кажется, – вообще его не было. Засмущавшаяся же ее мать, приехавшая из Ростова (на Дону), – куда-то тут же пропала, будто Фаина ее спрятала. Мать была толста и черномяса, двух слов не связала… Лева с еще пущей нежностью прижимал к себе тогда – одинокую, безродную красоту Фаины. Лишь один раз видел он на улице ее бывшего мужа, тенью которого (богатство, успех у женщин…) бередила она Левину ревность, и Лева, с некоторым даже разочарованием, успокоился: разве что богатство… Муж был старый и некрасивый. Даже по этим застаревшим, застрявшим в лексиконе Фаины по отношению к прошлому (до Левы) провинциально-девичьим меркам – Лева был лучше. Такие оседания образа для Фаины были недопустимы. Образ этот не мерк лишь с глазу на глаз. Вокруг Фаины – не было никого.
Альбина никогда не была и не бывала одна: она была с легендами об отце; с сохранившей и в бедности какой-то заграничный жест богатства мамой (Леве нравилось ее лицо, нравилось проявлять молодые черты сквозь «следы былой красоты»); с фотографиями вилл и бабушек; с кошкой Жильбертой и устройством ее котят, с быстро возросшими «общими» воспоминаниями: соседство школ, дядя Диккенс, Левины идеи и «замыслы»… Ее «прошлое» было предложено Леве тут же, как бы все без остатка: муж, за которого она вышла без любви (ни одного дурного слова о нем), интеллигентный, мягкий человек, они разошлись по ее воле (получалось – после того свидания с Левой…), муж просил, хотя она уверяла, что все кончено и не может быть, просил еще некоторое время подождать с разводом: готов вернуться по первому ее зову… – все было рассказано, как бы чтобы и не поминать об этом. («Все жены – вдовы», – как сказал однажды дядя Митя.)
Лева был молчаливее. Он покойно лежал рядом с Альбиной на спине, разглядывая на потолке призрачный оконный переплет с нечеткой сетью забалконной дворовой листвы, и бесстрастно думал о Фаине… Ведь вот что получалось: он никогда ее не видел, не понимал, не чувствовал: она была не человек, а предмет… ну да, «предмет страсти»… как точно! Ах, слова!.. (Лева любил слова.) Пред-мет. Только рядом с Альбиной начинал он что-то понимать и видеть. Ведь ясно: Альбина тоньше, умней, идеальней, интеллигентней, сложнее… а вся – понятна и видна Леве, реальна. А Фаина? – груба, вульгарна, материальна и – совершенно нереальна для Левы. Реальна была только его страсть, ведь и Лева переставал ощущать себя реальным в этом поле. Но он, хоть и не понимал ничего, даже и себя, в отношениях с Фаиной – однако мог быть уверен, что знает про себя в с е. Про Фаину же – ничего. Только ряд бестолковых, редко даже когда ему помогавших навыков в обращении: сейчас не стоит к ней подходить… сегодня пора уже изобрести какой-нибудь подарок… этого надо не заметить… эту прическу надо особенно расхвалить («Какой ты внимательный и милый!..» – вдруг въявь слышал он ее голос – и оборачивался с сердцебиением). «Что с тобой?» – спрашивала чуткая Альбина. Лева стонал и, выдавая грубость за страсть, привлекал ее к себе.
Она неистовствовала и исходила в его руках, чужая любимая жена, но при чем тут она и при чем тут Лева? – это Фаина выкручивалась в руках Митишатьева, и не Лева изменял Фаине, а Фаина, в который раз, повторяла для него все это, и Лева был не Лева, а уже Митишатьев, – это было уже почти раздвоение личности в самом медицинском смысле слова; отвращение и непонятное, страшноватое по силе и остроте наслаждение испытывал тогда Лева, так и не обладая ни той, ни другою…
И тут, внезапно, вернулась Фаина. Оказалось, вовсе не на Сахалин, а к матери в Ростов она ездила… Это Леву тут же успокоило, что не на Сахалин. На Сахалин уж точно без мужика не уедешь… Лева смотрел в ее загоревшее, попростевшее лицо и с удовлетворением отмечал некоторое спокойствие в своей душе. Все-таки за этот краткий период с Альбиной он набрался какого-никакого самоощущения. Фаине он, однако, не сказал про свой роман. Не то чтобы что-нибудь его останавливало… что-то, впрочем, и останавливало. От Фаины он несколько отвык, но тут же понял: от отношений, от счетов, от вражды – нисколько не отвык. Он с удивлением это отметил: как быстро с нею он становится другим человеком, тем Левой. Он ничего не сказал ей об Альбине, как бы запасая козырь… Однако Фаина заметила перемену. «Я в тебя, кажется, снова влюбляюсь», – сказала она. В ее лексиконе это означало, что она почувствовала «силу». Лева ее презирал и был удовлетворен.
Сложнее ему пришлось с Альбиной. В первый день он не решился ей сказать о возвращении Фаины. Во второй – не сказал, угрызаясь, что не сказал сразу. Муки совести донимали его. (С Фаиной было хоть то преимущество, что там эти муки у него начисто отсутствовали.) В третий раз… Альбина уже и сама знала.
Леве было, конечно, сильно не по себе. Он – раздваивался. «Какое же одиночество в наше время – действительно найти друг друга!.. – думал Лева, тоскуя рядом с Альбиной. – Нет, этой обреченности вдвоем – не вынести, когда рядом есть перед кем прикинуться таким же, как другие. В чужом мире легче с чужими, чем со своими: не заметишь, как хрюкнешь, – и никто не заметит».
Но когда вдруг выяснилось, что в Ростове Фаина тоже не была, а загорела в Махачкале, то все вернулось на прежние места: актеры снова разобрали свои роли, которые по-прежнему помнили назубок. Фаина – жизнь, Фаина – красота, Фаина – страсть, Фаина – судьба… Что – Альбина!..
Ах, какая все это мука!.. какая муть. Одна красивая, другая – нет. Но и это поди докажи. Красота – это такой обман! А красива ли Фаина? Смешной вопрос – какая разница. Отекшая, с расплывшейся косметикой, храпящая (лишь бы рядом…) – она дорога Леве, и все тут, даже дороже. И как же измучит его отвращением крохотный угорек под ухом раскрасивейшей Альбины, когда он, лишь только погаснет этот сладкий и такой невечный миг, отрывается от нее всем своим существом и разглядывает со стороны. Нет ничего некрасивей женщины, если вы ее не любите, если уже на то пошло. Только временный обман, оптический фокус, а потом – одно уродство и неудобство.
И сколько же люди накрутили на женскую красоту – бред какой-то! Красивая Альбина некрасива, когда ее не любят. Вот идут они с Левой, умолила о встрече, напросилась в кафе, ест пирожное и плачет – что, кроме ужаса, испытает Лева?.. а потом они идут рядом, и Лева словно в километре от нее, и руки в карманы спрятал, и локти к бокам прижал – и ей руки никак под локоть ему не просунуть… Тычется бедная лапка, бедная варежка, бедное отдельное существо ее руки, рыбка об лед, рыбка с тупой меховой мордочкой. Плачет красивая Альбина, говорит что-то жарко, слитно, горячее дыхание рвется с ее губ, глаза ее в Леву заглядывают, просят, а он и не посмотрит и не слышит ничего – идет в километре. И только все видит боковым своим неприязненным зрением, как крошка от пирожного застряла у нее на губе и прыгает, прыгает. Отвратительна ему эта крошка от пирожного – и больше ничего в Леве нет. Какая там красота – одно уродство! какое там уродство – одна красота…
Только не раз еще вернется к ней Лева, и каждый раз после того, как ему сделают больно. Придет передать боль. Поначалу совесть помучит, а потом возникнет удобный механизм. А Альбина-то – сразу и поверит, и разбежится. А Лева как наберется уверенности – то и уйдет сразу же, а как растеряет – то снова придет. Подло? Подло. Но – пусть читатель оплатит свои счета…
Тем более что и не так это все. И Лева не такой уж подлец, и наша Альбина – не такая уж нищенка. Она, конечно, страдает, но «и страдает»… Очень существенно это «и»! Она убеждена, что Лева хоть часто и ведет себя не так, как ей бы мечталось, – а ведь любит ее. Иначе зачем же бежит, а все возвращается и возвращается, как привязанный. И видит она эти его проявления любви во всем и копит их. Пришел – любит, ушел – тоже любит. Ласковый – это к ней. Неласковый – неприятности по работе. А вдруг заболел?.. А может, Лева и любит Альбину, кто знает. Хотя бы – «по-своему»… Она-то одна и может это знать. Ведь Лева знает, что Фаина любит его. Только напускает на себя что-то: молода еще или не понимает, не осознает…
Все ложь, и все правда…
В этот свой недолгий и настолько потом отрицаемый, что, со временем, как бы и вовсе с ним не бывший период жизни с Альбиной дано было Леве на своей шкуре испытать всю силу и ужас чувства собственной НЕ любви (именно отдельно НЕ, а не вместе: просто нелюбовь – простая эмоция), дано ему было испытать тиранию чужого чувства и христианскую беспомощность человека.
За что мы не любим? Ведь положа ту же руку на то же сердце, Альбина была более достойна его любви… Но когда он клал эту руку, то клал ее – на ту же Фаину: сердце его было занято. Нас так мало, чтобы досталось место еще кому-нибудь, и за это свое меньшинство мы еще раз не любим того, кто дал нам его почувствовать. «Ты можешь меня не любить, – сказала Альбина, истощив богатство своих предложений. – Но ведь у тебя сейчас никого нет? – (Что наговорил ей Лева?..) – Тебе ведь женщина нужна? Я же не хуже других…» Лева вздрогнул, будто его ударили, – опять его достигала вся мера. «Ты – не другая…» – догадался ответить он. В этом была доля. И вот еще за что мог он ее не любить: она была из своих, он ее предельно чувствовал: она была как он: каждое ее движение проектировалось в его душе как узнанное, как понятое: они были одинаково устроены и настроены на одну волну: он мог не любить ее, как себя. Он принимал каждый ее сигнал, прекрасно знал, как ей следует ответить, но – чем? – и не мог. За это – кто же полюбит? И еще сильнее мог он ее не любить за Фаину: от сравнения Фаина не выгадывала – обиднее становилась потраченная Левина жизнь. И еще он мог досадовать, что теперь Фаина уже знала про Альбину и не столько была уязвлена, сколько воспользовалась этим. А самое, за что он не любил Альбину, был первый опыт узнавания того, что он так напрасно всегда пытался выяснить у Фаины: действительное ее отношение к нему, что же она к нему питала во всю их жизнь… А вот то и чувствовала! – осеняло иной раз Леву, когда он корчился от своей ложной несостоятельности рядом с нелюбимой Альбиной. Какая же убийственная тоска пронизывала от этого допущения Леву! Тем более что на собственном опыте он мог теперь выразить Фаине некоторое сочувствие и чуть ли не восхититься ее корыстным долготерпением. А за это можно бы и не только не любить, но и убить виновницу (опять Альбину)… В общем, то чувство НЕ любви, о котором мы здесь говорим, – крайне утомительно и чрезвычайно НЕ лестно тому, кто не любит. Не знаем, как сносят это чувство женщины, как они имеют дело с успехом, которого жаждут (нам кажется, что они должны в момент успеха никого не любить, чтобы ощущать его), не знаем… но мужчина, любящий свой успех у женщин, нам кажется не вполне мужчиной… И Лева проклял это чувство безответной любви к себе. Но – не свое.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?