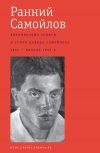Текст книги "«Мне выпало счастье быть русским поэтом…»"

Автор книги: Андрей Немзер
Жанр: Критика, Искусство
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Мы – противники тусклого.
Мы приучены к шири –
самовара ли тульского
или ТУ-104.
‹…›
В этом пристальном крае,
отрицатели мглы,
мы не ГЭС открываем –
открываем миры.
‹…›
И сверкают, как слитки,
лица крепких ребят
белозубой улыбкой
в миллиард киловатт.
[Вознесенский, 2015: I, 46–47, 79–80; 476, 482 – примеч.]
Допустимо, что стихи Вознесенского были приняты журналом еще при Симонове, но подписывал их в печать уже новый редактор: 5 мая Твардовский дал согласие возглавить «Новый мир», 28 июня о его назначении было сообщено официально в «Литературной газете» (см.: [Твардовский: 359]; [Чупринин, 1990: 403]). Следующей публикации в «Новом мире» Вознесенскому пришлось ждать почти десять лет – Твардовский авангардистского стихотворства на дух не переносил.
Не помог тут и широкий жест отвергаемого главным журналом страны Вознесенского – стихотворение «Пел Твардовский в ночной Флоренции…» (1962; во Флоренцию автор и его герой прибыли для участия в конгрессе Европейского сообщества писателей). Напечатается Вознесенский в «Новом мире» лишь в черном 1969 году (№ 7). До разгрома редакции и снятия Твардовского оставалось несколько месяцев, худо было и обреченному журналу, и едва ли не всем сколько-то свободомыслящим литераторам, в том числе Вознесенскому, хоть и не так, как «Новому миру» и многим собратьям по цеху. Общая беда потеснила эстетическое (да и мировоззренческое) противостояние – Вознесенский дал, Твардовский опубликовал два стихотворения. Вот из одного:
Поля мои лежат в глуши.
Погашены мои заводы.
И безработица души
зияет страшною зевотой.
‹…›
Был крепок стих, как рафинад.
Свистал хоккейным бомбардиром.
Я разучился рифмовать.
Не получается.
‹…›
Но верю я, моя родня –
две тысячи семьсот семнадцать
поэтов нашей федерации –
стихи напишут за меня.
Они не знают деградации.
(«Не пишется»).
Вот из второго:
Или ноет какая вина запущенная?
Или женщину мучил – и вот наказанье?
Сложишь песню – отпустит,
а дальше – пуще.
Показали дорогу, да путь заказали.
Точно тайный гроб на груди таскаю –
тоска такая!
(«Тоска») [Вознесенский, 2015: I, 258–259, 261; 505, 506 – примеч.]Устойчивой неприязни старшего поэта младший не забыл и не простил. Если запечатлевший парижскую пикировку Ахмадулиной и Твардовского этюд «Между кошкой и собакой» можно счесть приятной байкой, рассказанной ради благородного резюме: «Поэт – всегда или первый, или никакой» [Вознесенский, 2008: 50], то со стихотворением «Колесо смеха» дело обстоит иначе. Републикуя его в 6-м томе Собрания сочинений, поэт заменил четыре строки, имевшие место в «Мозаике» (ни в одно иное издание «Колесо смеха» не входило), следующими:
Обледенели доски.
Лечу под хохот толп,
а в центре, как Твардовский,
стоит дубовый столб.
[Вознесенский, 2015: I, 58]Стихотворение датируется 1953 годом, что более или менее правдоподобно, однако едва ли эпиграмматический пассаж появился уже тогда.
Можно с высокой долей уверенности предположить, что дебют в «Новом мире» случился благодаря кричаще революционной и «социально значимой» тематике пошедших в печать текстов.
О положении же дел в «Знамени» много лет спустя благодарно поведал сам Вознесенский:
«Журнал “Знамя” и тогда был лучшим журналом поэзии ‹…›
О редакторе Вадиме Кожевникове сейчас говорится много дурного[7]7
Например, о том, что Кожевников в 1961 году сообщил компетентным органам о поступившей в его журнал (по его же настоятельным просьбам) рукописи романа В. С. Гроссмана «Жизнь и судьба». После чего рукописи, кроме тех, что автор прежде тайно отдал друзьям, были арестованы КГБ. – А. Н.
[Закрыть]. Высокий атлет с римским бронзовым профилем, он был яркой фигурой литературного процесса. Под маской ортодокса таилась единственная страсть – любовь к литературе» [Вознесенский, 2006: 36 и сл.].
Которую разделял со своим шефом его заместитель – «рафинированный интеллигент» Б. Л. Сучков (бывший зэк, сохранивший верность марксизму, будущий директор Института мировой литературы). Вот им Вознесенский пришелся по душе. А поскольку «план по Ленину» «Знамя» и так выполняло успешно, здесь хватало лихого авангардного оптимизма, каковой и был предъявлен в тоже ноябрьской книжке журнала:
Москва завалена арбузами.
Пахнуло волей без границ.
И веет силой необузданной
от возбужденных продавщиц.
‹…›
Кому кавун? Сейчас расколется!
И так же сочны и вкусны
милиционерские околыши
и мотороллер у стены.
И так же весело и свойски,
как те арбузы у ворот,
земля мотается
в авоське
меридианов и широт!
(«Торгуют арбузами»).
Земля мотается – люди летают.
Дрыхнут боги в облаках –
лежебоки в гамаках!
Что нам боги, что нам птицы,
Птичьи всякие традиции?!
‹…›
Люди новое открыли,
Людям мало стало крыльев.
Людям
Дерзким и крылатым.
Как же непохожи эти «Крылья» на написанные десятилетием раньше, а напечатанные в том же году самойловские «Крылья холопа».
Действительно, какие еще боги? Отпор мракобесию Вознесенский даст той же осенью в «Дне русской поэзии» (в 1958 году альманах временно удлинил и конкретизировал свое имя):
Сопя носами сизыми
И подоткнувши рясы –
кто смотрит телевизоры,
кто просто точит лясы.
Оказавшийся меж персонажей «крокодильских» карикатур поэт проводит воспитательную работу с «бледным служкою»:
Я говорю: – Эх, парень,
Тебе б дрова рубить,
На мотоцикле шпарить,
Девчат любить!
И как тут возразишь? Да никак!
Он говорит: – Вестимо… –
И прячет, словно вор,
Свой нестерпимо синий,
Свой нестеровский взор.
И быстрою походкой
Уходит за решетку.
Мол, дружба – дружбой,
А служба – службой…
«Лавра» в книжной публикации («Парабола») стала «Загорской лаврой». Вероятно, для того, чтобы у сведущего читателя усилилась ассоциация «юный монах (или послушник) – святой основатель великого монастыря» (в конце 1950-х кому-то известный по картине М. В. Нестерова «Юность преподобного Сергия», 1897)[8]8
С 1930 по 1991 год Сергиев Посад именовался Загорском; название было дано в память о большевике М. В. Загорском (1883–1919; настоящая фамилия Лубоцкий), однако его русско-фольклорная окраска вытеснила предполагаемый смысл.
[Закрыть]. Кощунственность поэтического хода то ли по наивности не замечается, то ли, напротив, входит в авторскую задачу. Последнее вероятнее. Сперва намеченная мягко, тема «монастырь – тюрьма» обретает жесткость в энергичной коде:
И колокол по парню
Гудит окрест.
Крест – на решетке.
На жизни – крест.
[Вознесенский, 2015: I, 78, 95, 80]
В сборнике «Антимиры» (1964) и последующих изданиях эта агитконцовка была разумно снята.
Антиклерикализм юного Вознесенского четко вписывался в яростную хрущевскую кампанию по борьбе с религией и церковью (любого толка). «Лавра» – текст никак не одинокий. «Раны России. Церкви. Хоругви» – врачует их «самый человечный» безбожник («Ленин на трибуне 18-го»). «Искусство мертвенно без искры, / не столько божьей, как людской…» – необходимое уточнение сделано в «Меня пугают формализмом…» (1953; опубликовано – 1960). «Бой!» изуверам-шаманам, превратившим младенца в чёрта, дается в одноименной поэме: «Иисусу и Иегове – / Непокой… / Мальчик, голенький, как иголочка – / Бой, бой» (1959). В 1962-м Вознесенский намеревался превратить поэму в киносценарий и предложил «Мосфильму» заявку: «Уверен, что этот антирелигиозный фильм будет иметь большое политическое значение»; однако позднее появившийся в «Мозаике» «Бой» осмотрительно в свои суммарные издания не включал – до новейших времен. Бьет по роже хмурого «сектанта» («иеговиста») Лялька – не допустим злопыхательства у наших костров: «Газеты – пропаганда?! / А Братск, а Сталинград? / Поганка ты, поганка! / Гад, гад, гад». Включив это стихотворение («Гость у костра», 1958), опять же надолго исчезнувшее из поля зрения читателей, в Собрание сочинений, автор заменил «газеты» на «Гагарина». Меж тем в 1960-м, когда «Гость у костра» печатался, фамилия первого космонавта по понятным причинам ни в каком тексте возникнуть не могла – «Поехали!» еще не прозвучало. В таком контексте богоборчество «Крыльев» нельзя счесть простой риторикой. Как и строки «второго посвящения» (проклятья) поэмы «Мастера», исчезнувшие, кажется, лишь в постсоветских изданиях: «Цари, тираны / В тиарах яйцевидных, / В пожарищах-сутанах / И с жерлами цилиндров» (еще одна карикатура из «Крокодила»: римские первосвященники и кардиналы рядком с буржуями). Как и строки той же поэмы, благополучно сохранившиеся: «Не памяти (поначалу того лучше – «ярости». – А. Н.) юродивой / вы возводили храм, / а богу плодородия, / его земным дарам» и «Уж как ты зол, / храм антихристовый». Даже стихотворение «Прадед» было вырезано из «Мозаики» не благодаря своему содержанию, а вопреки ему. Вознесенский не воспевал обреченность «юного узника» монастырю, а скорбел о нем, в сущности проецируя семейное предание на классический текст, в советской культуре прописанный по «богоборческому» ведомству, – поэму Лермонтова «Мцыри»: «Где-то в России / в иных временах, / очи расширя, / тощий монах / плачет и цепи нагрудные гладит… / Это мой прадед». Ревнители полицейского благочестия (хоть анти-, хоть квазирелигиозного) читать не умеют, а усердие не по разуму явить всегда готовы.
Смысла стихотворения «Прадед» обрушившаяся на него отвратительная кара не меняет. Как не колеблет антиклерикальной линии начинающего Вознесенского навеянное Блоком и Пастернаком стихотворение «Лунная Нерль» (1958). Дабы воспеть один храм, надо прежде лягнуть другие: «Есть церкви – вроде тыкв и палиц». Забавно, что именно овощеподобность будет ставиться Вознесенским в заслугу другому храму, родственному нерлинскому, – собору Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву: «Здесь купола – кокосы, / и тыквы – купола…». В той же поэме «Мастера» эквивалентам «палиц» доверена ответственная миссия: «…и купола булавами / грозили облакам». Не меняет дела и строка «А в Суздале – пасха!» («Ты с теткой живешь. Она учит канцоны…», 1958) [Вознесенский, 2015: I, 46, 63, 69, 82, 449 – вариант 1960 г., 447, 73, 74; II, 233; I, 48, 73, 60]; заявку на сценарий по поэме «БОЙ» (так!) цитируем по.: [Вирабов: 125].
Обсуждать чьи-либо (в особенности – художников) религиозные чувства – занятие пошлое и бессмысленное. Мы не беремся решать, просто кидал Вознесенский представленными выше строками (стихами) кость начальству, являл вычитанное из книжек наивное богоборчество, завязанное на вере в человека, или стремился проблематизировать сложную тему, как бы опровергая фактурой текста собственные (совпадающие с обязательными) декларативные выводы. Мы знаем три несомненных факта. Во-первых, в стране шло новое остервенелое наступление на религию, не допускавшее и тени ее защиты. Во-вторых, далеко не все литераторы, независимо от их воззрений, как-либо (пусть сложно и противоречиво) подыгрывали атеистическим бесчинствам. В-третьих, цитированные тексты были написаны после того, как их автор, по его собственным многократным позднейшим заверениям, прочитал «Стихотворения Юрия Живаго» (да и весь роман).
Бодрый атеизм был для Вознесенского таким же козырем, как восторг от революции, размашистый интернационализм и не менее громокипящая русскость, упоение научно-техническими новациями и грандиозностью строек коммунизма, левизна формы или вольное обращение к интимным, недавно жестко табуированным, темам. Одно подразумевало другое. В «Лавре» иноку рекомендовалось не точить лясы про «про денежки, про ладанки / И про родню на Ладоге», а «на мотоцикле шпарить, / Девчат любить». В том же «Дне русской поэзии» Вознесенский объяснил, что с любовью бывает совсем не просто.
Мерзнет девочка в автомате,
прячет в зябкое пальтецо
всё в слезах и в губной помаде
перемазанное лицо.
‹…›
Ей обратно одной, одной
вдоль по улочке ледяной.
‹…›
Мерзлый след на щеках блестит –
первый лед от людских обид.
(«Первый лед», 1956).
Сюжет расплывается в холодной мгле («Бьет по радио поздний час»). Если недостойный избранник подружку выпроводил, то кому ж она звонит? Если свидание мерзавец отменил, то почему лицо в губной помаде, а не только в слезах? Но до фабулы ли тут! Девочку жалко. И что не беседовала она с абонентом (то ли нынешним вечером, то ли раньше) о международном положении (или гениальности Рихтера), а совсем другим занималась, сказано с ошеломляющей доходчивостью. И что за «первым разом» другие последуют – тоже [Вознесенский, 2015: 80, 89].
Одиннадцать опубликованных в течение года стихотворений – это основательно укрепленный плацдарм, с которого можно двигаться в решительное наступление. Логика проста. Начинающий, год назад никому не ведомый, поэт пишет правильно. Публикуется в разных изданиях. Значит, принят литературным сообществом. А коли так, теперь можно и рискнуть – предъявить читателям нечто зримо дерзкое. Вот и рискнули. 10 января 1959 года «Литературная газета» (все еще кочетовская) предала тиснению поэму «Мастера», в апрельской книжке «Знамени» появилось стихотворение «Гойя».
В эссе «Соло земли» Вознесенский вспоминает: «…на заре туманной юности читал свою первую поэму “Мастера” в доме у статной красавицы с прямым пробором и туго уложенными на затылке косами, дочери сослуживицы моего отца. (Опять, как в истории знакомства с Самойловым, аккуратно вводится семейный мотив. Мол, захотелось батюшке попотчевать знакомых сыновними дарованиями. Не отказывать же. – А. Н.)
Среди гостей на диване сидел могутный, погруженный в себя человек с откинутой назад почти по плечи пшеничной копной, округлым ситным лицом, излучающим обаятельный и цепкий свет». Этот привлекательный товарищ (обнаружившийся на посиделке, как рояль в кустах) «был по-боярски непроницаем, только светлые реснички подрагивали в такт чтения.
“Приносите в газету. Опубликуем”, – обронил он, налегая по-владимирски на “о”. Он был членом редколлегии и оказался человеком слова и самостоятельного мышления» [Вознесенский, 1987: 582].
Звался «человек слова и самостоятельного мышления» Владимиром Алексеевичем Солоухиным. Вознесенский, как обычно, описываемое событие не датирует, но публикация его поэмы в январе 1959-го заставляет предположить, что историческая встреча произошла осенью (скорее – поздней) 1958 года. К этому времени Солоухин (1924 года рождения) выпустил три книги стихов («Дождь в степи», 1953; «Разрыв-трава», 1956; «Ручьи на асфальте», 1958) и четыре – прозы, в том числе быстро снискавшие популярность «Владимирские проселки» (1958). Кроме того, напечатал погромную статью о стихах Евтушенко с установочным заголовком «Без четких позиций» («Литературная газета». 1958. 8 апреля). А также обличил Пастернака на историческом собрании московских писателей 31 октября 1958-го. Высказался он там, как и подобает «человеку слова», основательно:
«Товарищи, говорят иногда, что Б. Пастернак в каких-то определенных датах своей жизни был то лоялен по отношению к нашему обществу и Советской власти, то постепенно отходил от этого, проходя постепенно эволюцию отщепенца. Но мне кажется, что это неверно ‹…› Время от времени сквозь его непонятные народу строки проскальзывали совершенно определенные вещи». Тут в дело идет дежурная обличительная цитата из «Про эти стихи» («Какое, милые, у нас / Тысячелетье на дворе!»). Дальше – интереснее. «Находишь у него еще другие, более конкретно выраженные вещи:
Я слежу за разворотом действий
И играю в них во всех пяти. (?)
Я один. Повсюду фарисейство,
Жизнь прожить, не поле перейти.
Здесь все очень ярко выражено и очень прямо! Это его изоляция!»
Не поспоришь: как есть изоляция (которую далее оратор потребует усилить). Что текст «Гамлета» перевран, понятно: общеизвестная строфа из «Про эти стихи» тоже цитируется с ошибкой, всего не упомнишь. Примечательно другое – знакомство с первой редакцией стихотворения. Роман, предположим, ответственные товарищи своему проверенному собрату для прочтения выдали. Но в опубликованном тексте нет «пяти действий», видимо сильно озадачивших Солоухина (надо думать, именно его хмыканье и соответствующая мимика отражены в стенограмме вопросительным знаком). Стало быть, интересовался бывший кремлевский курсант (будущий пламенный обличитель Ленина и прочих большевиков) неподцензурными творениями закоренелого отщепенца. Дальнейшие обличения стереотипны, но финал звучит впечатляюще:
«Сейчас идет разговор – поскольку он является внутренним эмигрантом, то не стоит ли ему стать на самом деле эмигрантом? В связи с этим мне вспомнилась такая аналогия. Когда наша партия критиковала ревизионистскую политику Югославии, то были разговоры – а вдруг она шатнется и уйдет в тот лагерь. И мудрый Мао Цзэ-дун в устном выступлении сказал, что этого никогда не будет, потому что американцам нужно, чтобы они были в нашем лагере.
И вот Пастернак, когда станет настоящим эмигрантом, – он там не будет нужен. И нам он не нужен, и о нем скоро забудут. Когда какая-нибудь американская миллионерша попадет в автомобильную катастрофу, то будут о ней шуметь, а Пастернака совершенно забудут ‹…› через месяц его выбросят как съеденное яйцо, как выжатый лимон. И тогда это будет настоящая казнь за предательство, которое он совершил» [Пастернак: pro et contra: II, 170–171].
Даже враги – буржуазный мир с его гоняющейся за сенсациями прессой – лучше, чем Пастернак. Поэт (каковым числится Солоухин) упоенно предрекает другому поэту забвение. Как тут не привести запев эссе «Соло земли»: «Почему, не знаю, но едва я начал эти заметки, меня не оставляет мысль: “Довольно междоусобицы!” Поэзия одна. Есть подлинность таланта и неподлинность всего остального» [Вознесенский, 1987: 582].
Не Солоухин нас здесь занимает. Он в 1958-м «так думал». Пастернак был ему чужд. Евтушенко – тоже. А Вознесенский оказался близок (и/или нужен). Бывает. Интересен «ученик Пастернака» и друг Евтушенко (ему посвящена «Баллада работы», датированная тем же 1958 годом). Он, вероятно, не читал ни статьи «Без четких позиций», ни отчета в той же «Литературке» о глумлении над учителем. Или счел, что из-за такой ерунды упускать шанс грешно. Случайно встретился с Солоухиным, случайно тому поэма понравилась…
А почему бы и нет? Надо же продвигать и приручать небезнадежных молодых – в противовес шибко гражданствующим (зарывающимся) Евтушенко и Рождественскому. Сюжет испытанный – «Зодчие» (1938) Дмитрия Кедрина печатались не раз и нареканий не вызывали. Иван Грозный уже не «Сталин вчера». Вот и в недавно вышедшей книге другого начинающего стихи о нем прошли. Странноватые, если пристально вглядеться, с намеком на… Но у нашего-то автора ничего такого нет (а «опричники» и «палачи» из истории взяты). Он просто против царей и, что особенно удачно, попов. И за народ, воплощенный в мастерах, которые возводили, собственно говоря, не храм, а прообраз павильона ВСХВ. Очень правильно, что упомянуты в поэме великий русский агроном и его предшественники. Лучше бы, конечно, самого товарища Лысенко назвать. Но, как говорится, всё впереди.
«Сквозь кожуру мишурную / глядело с завитков, / что чудилось Мичурину / шестнадцатых веков» [Вознесенский, 2015: I, 73]. Мичуринской биологией именовалось учение Т. Д. Лысенко; восторженное упоминание простодушного провинциального селекционера до падения Хрущева звучало если не как прямой комплимент оголтело невежественному «хозяину» советской биологии, то как знак лояльности покровительствующей ему власти. Пройдет несколько лет, и Вознесенский напишет «Приветик, Трофим Денисычи / и мудрые Энгельгардты». Версия комментария, согласно которой речь здесь идет о Владимире Александровиче Энгельгардте (1894–1984), выдающемся ученом и непримиримом противнике Лысенко, кажется нам маловероятной и невольно оскорбительной для Вознесенского. Полагаем, что имелся в виду директор царскосельского лицея Егор Антонович Энгельгардт (1775–1862), недолюбливавший (вполне взаимно) своего самого прославленного воспитанника. Одинаково иронически писать о замечательном ученом и зловещем мракобесе, повинном в гибели многих коллег, Вознесенский в 1963 году не стал бы – к этому времени цену лысенковщине он знал. И настроения научной интеллигенции тоже. Для стихотворения о высших правах любви потребна была пара филистеров. На роль одного из них Е. А. Энгельгардт с его неприятием страсти юного Пушкина к женщинам (и стихам) вполне годился. А что не заслужил почтенный Егор Антонович (при всей его умеренности и аккуратности) отождествления с чудовищем, автора не волновало – он ведь не научный труд составлял, а вдохновенно пел «Лирическую религию». Заметим, что «мятежные» строки появились только в книге «Ахиллесово сердце» (1966; Хрущев уже на пенсии). В первых публикациях стихотворения («Знамя». 1963. № 11; книга «Антимиры», 1964) на их месте стояли строки нейтральные (и запутывающие суть дела): «Пусть с кафедр взмахнут десницами / Эвклиды и Энгельгардты». Вопрос о том, уступил ли автор требованиям редакторов или, напротив, дозрел до ехидного упоминания Лысенко только в 1966-м, предоставим решать биографам Вознесенского, Кожевникова и Сучкова. Варианты текста см.: [Там же. 155, 493].
В общем, поэма вполне правильная. О чем мечтали вышедшие из народа мастера? – Строить города (разумеется, для того же народа), чему злодейски препятствовал царский режим. Зато теперь все в их (наших) руках. «Будут города!» Парень с Калужской «якает», конечно, многовато, но ведь и о связи с массами не забывает: «Я той же артели, / что семь мастеров». По верному пути движется: «И завтра ночью тряскою / в 0.45 / я еду / Братскую / осуществлять!» Три десятилетия с лишком должны были минуть и режим в стране переоформиться, чтобы ночь из «тряской» стала «блядскою». То ли в соответствии с изначальным тайным авторским замыслом, то ли под воздействием «новых времен» [Вознесенский, 2015: I, 449, 76].
Вообще раздел «Другие редакции и варианты» одаривает богатым материалом о захватывающих метаморфозах поэмы, стимулированных сперва принятием грандиозного семилетнего плана развития народного хозяйства, а позднее (после падения в октябре 1964-го изобретателя семилетки, «дорогого Никиты Сергеевича») – вымыванием из истории этого феномена. А как впечатляюще звучало: «Пусть радуг семицветия / Играют под резцом. / Пусть смелость / семилетия (отдельной ступенью лесенки, чтоб прочувствовали. – А. Н.) / Мне будет образцом. // В нем каждый год, / как город…»! Так ведь хорошо сошлось – и мастеров семь, и куполов у мичуринского сооружения, и чаемых мастерами городов, и цветов в радуге, и лет планируемого невиданного подъема тоже не банальных пять и не восемь с половиной. Словно прислушались наверху к стихотворцу, всегда готовому поддержать замечательные партийные начинания. «Я в городе бидонном, / морозном, молодом. / “Америку догоним / по мясу с молоком”». Это еще не «Мастера». Это «По Суздалю, по Суздалю…» (1958) [Вознесенский, 2015: I, 47]. Нет, не сошлось. Разгневался царь Никита на молодых, наорал с трибуны на Вознесенского в марте 1963-го. Но ведь не повелел расстрелять. И за кордон, хоть грозился, не вышвырнул. Даже в Михайловское не сослал. А там его, волюнтариста, низвергли – пришлось качественные строки снимать.
Обуздаем запоздалое ерничество. «Мастера» звучали смело – и политически, и эстетически. Антисталинские аллюзии входили в авторскую задачу и считывались без труда. Соединение апологии художества, бесшабашного веселья, национальной гордости и откровенной эротики впечатляло не меньше, чем полиметрия, непривычные рифмы и расширение лексического поля. Сквозь презрение к обывательской косности просвечивало неприятие деспотической власти: крамольного храма страшатся исключительно представители господствующих классов – боярин, купец, дьяки (превратившиеся вдруг в дьякона).
Здесь образцом послужили обрисованные со зловещим комизмом кукольные персонажи поэмы «Двенадцать» – недобитки из старого мира. Достойно внимания присутствие в этом сборище нелюдей-инородцев. Понятно, что «купец галантный, куль голландский» притянут к делу ради соленой шутки, которую можно было при случае и растолковывать недогадливым. Что Вознесенский и сделал на съемках в Политехническом, дабы по просьбе одной из слушательниц «разрядить обстановку» – «читали всю неделю примерно одинаковый состав стихотворений», публика заскучала.
«Так вот, я четко произнес “х… голландский”. Зал онемел. Но я растерялся от эффекта. И поправился: “Извините, то есть куль…” Рев, стон восхищенного зала не давал мне читать минут пять ‹…›
На следующий день я увидел толпу, склонившуюся над магнитофоном. “Произнес или не произнес?”
Так происходило раскрепощение языка. Мы неловко боролись против стереотипов ‹…›
Первый блин комом. Как сказали бы теперь: “Первый, блин, комом”» [Вознесенский, 2005: 385–386].
На сходном (проведенном форсированно) приеме будет построена главка VI поэмы «Оза» (1964) – вариация «Во́рона» Эдгара По, в которой рефренное «Nevermore» обращается в «на фига», рифмующееся со словами с опорным «j» [Вознесенский, 2015: I, 218–219]. Шутки шутками, но для нарушения пуританских табу вовсе не требовалось, чтобы в той же главке «Мастеров», где обнаружился враждебный художеству «куль голландский», еще и «немец, как козел, / скакал, задрав камзол». Скакал, однако. Тем самым косвенно указывая на патриотизм автора. И косвенно свидетельствуя о том, что матерщина – то ли национальное достояние, то ли единственно возможный способ аттестации немцев.
«Мастера» были удачно угаданным ответом на запросы освобождающейся интеллигенции, поэма точно соответствовала исторически детерминированному сумбуру в головах, очень мало кого вовсе не затронувшему. Важны «Мастера» были не только для их автора, но и для дальнейшего движения русской поэзии[9]9
Характерный, хотя и кажущийся сейчас неожиданным, пример – первая (из известных нам) поэма О. Г. Чухонцева «Осажденный. 1238» (1959–1960) [Чухонцев: 7–18], где, несомненно, были в известной мере учтены наработки «Мастеров». Другое дело, что поэма Вознесенского стала достоянием публики (и собратьев по цеху) сразу по создании, а «Осажденный» досягнул печати только в 1994 году (по сути – уже как «литературный памятник»). Сюжет поэмы Чухонцева – оборона и гибель Торжка при Батыевом нашествии – был не менее патриотическим, чем у Вознесенского. Зато многого иного – споспешествовавшего прорыву «Мастеров» – в «Осажденном» и в помине не было.
[Закрыть]. Опубликовать поэму в кочетовской «Литературной газете» было, безусловно, очень непросто. «С трудом проходили и первые стихи Андрея Вознесенского – его поэтическая манера дистиллированному вкусу казалась вызывающей, “отрыжкой формализма”. Многое приходилось пробивать на полосу в нелегких боях» [Лазарев: 82]. Судя по контексту, речь идет о времени более позднем, когда редакцию возглавил С. С. Смирнов. Разумеется, при Кочетове было не лучше, а хуже. Примечательно, однако, что Л. И. Лазарев не касается истории публикации «Мастеров», которую ведущий сотрудник литературного отдела газеты должен был бы знать. Очень похоже, что Солоухин решал этот вопрос без взаимодействия с отделом – наверху. Возможно, не собственно газетном.
Что же до «Гойи», то прежде, чем в «Знамя», стихотворение это было предложено «Новому миру». Мы не знаем, вместе с «Лениным» и «Репортажем…» или после их публикации. Почему этот паронимический каскад, отнюдь, кстати, не заумный, был там отвергнут, объяснить просто. Во-первых, для Твардовского ужасы войны были столь реальны, что любое экспериментирование с ними вызывало у него мощный протест. Во-вторых, рискнем предположить, Твардовский знал, кто такой Гойя; великий испанский художник был для него лицом историческим, а потому его имя не могло восприниматься как звуковое пятно, свободно продуцирующее смыслы из другой исторической эпохи. Привлекательность новых поэтических решений для какого-то круга, пусть бы и не узкого, Твардовский игнорировал сознательно, поскольку был убежден: его журнал – лучший в стране, издается он для лучших (мыслящих) читателей, если кому-то потребны изыски – дело хозяйское, и без модников проживем неплохо. Страсти покровительствовать молодым исключительно из-за их молодости и открывать имена у Твардовского тоже не было.
В «Знамени» же на стыке десятилетий работали обычные журнальные механизмы. В заповедную кормушку номенклатуры журнал еще не превратился (это произойдет в 1970-е), «Новому миру» он проигрывал[10]10
Впрочем, как посмотреть. К примеру, в том же № 4, что отметился «Гойей», началась публикация романа К. М. Симонова «Живые и мертвые», несомненного, как бы сказали сейчас, бестселлера. Причем ориентированного отнюдь не только на ту аудиторию, что через пять лет с восторгом встретит бестселлер самого Кожевникова «Щит и меч».
[Закрыть], рисковать всерьез тесно связанный с писательской (и не только) номенклатурой Кожевников позволить себе не мог.
И тут без оговорок не обойдешься. Даже откровенные недоброжелатели Кожевникова не утверждали, что просил он роман у Гроссмана для того, чтобы представить его на Лубянку. Стало быть, надеялся напечатать. Хотя не так был наивен, чтобы полагать, будто «Жизнь и судьба» окажется правильным советским сочинением. Особенно после того, как не сумел одолеть цензуру, пытаясь провести в журнале рассказ Гроссмана «Тиргартен». Об этой попытке Кожевникова свидетельствуют два превосходно информированных мемуариста; см.: [Липкин: 568]; [Лазарев: 117].
Вот «Знамя» и искало «своих» авторов. «Гойя» – текст, безусловно, неожиданный, но в общем понятный (а гран загадочности, пожалуй, в плюс), трагический, но патриотический и даже победный (последняя строфа). Да и «Мастера» уже появились – и не в сомнительной выпендрежной «Юности», не в неокрепшей еще «Москве», не в треклятом «Новом мире», а в главной писательской газете. И ничего – гром не грянул.
Из-за «Гойи» грянул. У товарища Кожевникова были свои расчеты, у заведующего отделом культуры ЦК КПСС товарища Д. А. Поликарпова – свои. По воспоминаниям Вознесенского, Поликарпов на совещании главных редакторов заклеймил публикацию, в ответ Кожевников на него закричал, защищая автора (и себя). Повышал главред «Знамени» голос на своего куратора или только рассказывал о том Вознесенскому, значения не имеет. Важно, что победа осталась за Кожевниковым, – он не был еще лауреатом государственной премии, депутатом Верховного Совета СССР, секретарем СП, Героем Социалистического Труда и даже автором романа «Щит и меч» (всё впереди), но не зря просидел в кресле главного редактора уже десять (и каких!) лет. (И останется на посту до смерти, настигшей семидесятипятилетнего Кожевникова в 1984 году.) Знал Кожевников лучше Поликарпова, что нужно советской литературе. Печатать Вознесенского отнюдь не прекратили. В № 7 «Знамени» за тот же 1959 год появилось стихотворение «Из сибирского блокнота» (долго не перепечатывалось; последней авторской волей избавлено от четверостишья: «Это логово беличье. / Здесь туман, как кумыс. / Что ты жмуришься, девочка, / Ты и есть Коммунизм!» [Вознесенский, 2015: I, 482, 81]). Шли публикации и в других журналах. Оголтелые нападки худших представителей писательского союза не только формировали миф об оппозиционности молодого покорителя Парнаса, тем самым прибавляя ему славы, но и останавливали (или дискредитировали) трезвые суждения о его стихах. В 1960-м – две книги, владимирская «Мозаика», скандал вокруг которой еще пуще разогрел внимание к автору, и совписовская «Парабола». В 1961-м – поездка в США. В 1962-м (игра, как кажется, сделана окончательно!) Вознесенский и Кожевников («Знамя» тож) провели роскошную взаимовыгодную операцию. Книжному изданию «40 лирических отступлений из поэмы “Треугольная груша”» предшествовала публикация тридцати (!) означенных «отступлений» в журнале «Знамя» (1962. № 4). Чьи стихи в таком количестве в одном номере какого-либо журнала печатались? Затрудняемся ответить. «Стихотворения, присланные из Германии» Ф<едора> Т<ютчева> Пушкин меж двумя томами «Современника» разделил. Да и было их всего лишь двадцать два.
Никак тут не обойтись без «отступления» о «40 отступлениях…» Издание было впечатляющим. Со всех сторон. Великолепный (невиданный) альбомный дизайн замечательного книжного художника Владимира Медведева. Редактор – секретарь правления СП СССР, член ЦК Литовской коммунистической партии, свежий (апрель 1962-го) лауреат Ленинской премии Эдуардас Межелайтис. Незаурядный литовский поэт, разумеется, хорошо владел русским языком, но не настолько же, чтобы вести русскую поэтическую книгу. Что, впрочем, от него, проживавшего в Вильнюсе, едва ли требовалось. Требовалось – но, полагаем, и согласовывалось наверху – имя. На обороте страницы с выходными данными: «Издательство просит читателя дать отзы<вы> (не привычная к таким заморочкам, корректор Л. Морозова зевнула недонабранное слово. – А. Н.) как о содержании книги, так и об оформлении ее», «библиотечных работников организовать учет спроса на книгу и сбор читательских отзывов».
Все это, однако, только следствия. План, о котором было сообщено Самойлову, Вознесенский выполнил. Без пролонгаций. Не в 1962-м и не в 1960-м стал он «знаменит на всю страну» – в 1959-м, после тиснения «Мастеров» и «Гойи». Самым же знаменитым он оказался или не самым – вопрос праздный. Самых к началу 1960-х обнаружилось несколько. И если для кого-то (пожалуй, для многих) Евтушенко оставался самее (первее) Вознесенского, то это частное обстоятельство не отменяло самости (первости) автора «Мастеров» и «Гойи». Иные же из тех, кто числил самым Вознесенского (или Ахмадулину, или Окуджаву), постепенно приучались видеть в Евтушенко только успешного самозванца (принимая его знаменитость как огорчительный факт). Не менее существенно, что ряд самых был коротким. Не была самой знаменитой Ахматова – при всей ее царственности и том почтении, которое запоздало демонстрировало литераторское сообщество. Не был Твардовский – официальное признание литературных заслуг (не мешавшее властям целенаправленно гробить Твардовского) вызывало бессознательное противодействие: интеллигенция уважала гражданина – главного редактора единственного честного журнала, но забывала, что он поэт. Конечно, фронтовики – и не только они – чтили и помнили «Василия Теркина», но «книга про бойца» в 1960-х не могла восприниматься как сегодняшний литературный факт. Не были (уже!) Мартынов и Слуцкий. И разумеется, не были те поэты разных поколений, что окажутся знаменитыми (пусть совсем по-другому!) в конце 1960-х – в 1970-е. Они уже дебютировали, многие (не все) и книги выпустили (кто-то раньше, кто-то позже), но не то что самыми, а сколько-нибудь известными, кроме как в узких кругах, еще не стали. Они – это (при всех очевидных различиях!) Арсений Тарковский, Александр Межиров, Юрий Левитанский, Владимир Соколов, Николай Рубцов, Юнна Мориц, Олег Чухонцев, Александр Кушнер. И разумеется, Самойлов. Называем здесь не лучших, с нашей или чьей-то еще точки зрения, поэтов, а тех, чьи сочинения сильно и вне зависимости от действий писательского и общего начальства резонировали в позднесоветском литературном поле. Подчеркнем, что речь идет о поэтах, которые издавались в отечестве. Принципиально важный вопрос о судьбах поэтов, насильственно отторгнутых от читателя или сознательно отмежевавшихся от «печатности» (ушедших в андеграунд), должен рассматриваться отдельно.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?