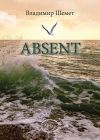Текст книги "Первый советский киноужастик"

Автор книги: Андрей Потапенко
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
И выставки и музеи мы стремимся превратить в настоящий источник знания, сопровождаем их лекциями, давая всякой группе посетителей особого инструктора – гида. /…/
Другие дворцы целиком превращены в музеи. /…/
Но если мы находим быстро ниспадающие ступени от Александра I к Николаю, от Николая к Александру II, от Александра II к Александру III, то мы воочию стоим перед настоящим падением в бездну, когда переходим в безвкусные покои Николая II. Чего в них только нет! Какой-то пестрый ситец и всюду развешанные фотографические карточки – ни дать ни взять как в комнате первой горничной какой-нибудь миллионерши. Тут и распутинский уголок, заставленный раззолоченными иконами, тут и какие-то необыкновенные ванны и колоссальные диваны, и весьма странно разубранные «уборные», наводящие на мысль о грубой животной чувственности, тут и базарная мебель, та самая, которой обставляют свой дом разжившиеся выскочки без роду и племени, покупающие всякую рухлядь, какая понравится их одичалому вкусу.
Как-то причудливо сплетаются здесь два потока: отвратительное безвкусие выродившегося русского барина с не менее отвратительным безвкусием немецкой мещанки.
А ведь мы имеем дело с отпрысками царских домов! Нельзя отделаться от мысли – даже если никто нарочито не наводит на нее – о головокружительном моральном и эстетическом падении династии и общества, служившего для нее опорой.
Наши художники предложили оставить в совершенной неприкосновенности все жилище Николая II как образец дурного вкуса – так мы и сделали, ибо эта прогулка по прошлому, недавнему прошлому времени краха Романовых, сопровождаемая соответственной лекцией, является изумительной иллюстрацией к культурной истории царизма. /…/
В стране, которая переживает революционный кризис, в которой массы, естественно полные ненависти к царям и барам, невольно переносят эту ненависть на их жилища, на их имущество, не будучи притом же в состоянии оценить их художественное, историческое значение по своей темноте, в которой их держали все время те же самые баре, те же цари, – в этой стране остановить волну разрушения, не только сохранить культурные ценности, но уже приступить к тому, чтобы оживить их вновь и из музейных мумий создать живых красавиц, и из замкнутых дворцов и поместий, где, скучая, прозябали ко всему привыкшие и ничего не замечающие выродки когда-то по своему славных родов, сделать общественные дома, с любовью охраняемые и дающие часы радости многочисленным посетителям, – это, конечно, было делом трудным.»
Культурное достояние или экстравагантная причуда?Часть вторая.
…для графа Шемета, или Первый советский киноужастик
Не мудрено, что уже в новое время экстравагантным, на грани безумия, видом дворца воспользовались кинематографисты. В том же 1925 году бывшее «эксплуататорское гнездо» стало съёмочной площадкой для фильма «Медвежья свадьба». Владимир Гардин и Константин Эггерт экранизировали здесь мистическую драму тогдашнего наркома просвещения и одновременно литератора Анатолия Луначарского, переделавшего для этого новеллу Проспера Мериме «Локис». Написана она была, по воспоминаниям самого наркома, в 1922 году на отдыхе в Кисловодске (8 сентября того года он писал писателю П.С.Романову – создателю нашумевшего в то время выражения «любовь без черёмухи», затем автору эпопеи «Русь»: Впрочем я, как всегда, и работаю. Написаны уже две картины новой мелодрамы «Медвежья свадьба», вероятно, для театра «Романеск», которым я интересуюсь…»), и к тому времени имела уже достаточно длинную и весьма драматичную (такой вот исторический каламбур) предысторию.
Сама пьеса вошла первоначально в двухтомник «Драматических сочинений» наркома 1923 года, а в следующем году вышла и отдельным изданием с литографическими иллюстрациями. Но одновременно пьеса рассматривалась ни много ни мало на заседании Политбюро ЦК 18 августа 1924 года. Судя по опубликованным в объемистом фолианте «Власть и художественная интеллигенция. Документы 1917-1953» выдержкам из протоколов, первоначально она была запрещена (впрочем, мотивы запрета остались неизвестными), в связи с чем автор-нарком выступил с протестующим завлением и благодаря вмешательству Г.Е.Зиновьева запрет было отменен, а месяц спустя, 25 сентября 1924 года отдельным пунктом протокола очередного заседания партсинклита (указано, что по этому вопросу выступали Луначарский, Каганович и Мануильский) была все-таки высочайше «разрешена». 11 декабря 1929 года нарком писал Нотори Сёму, японскому литературоведу и исследователю русской литературы, участвовашему в праздновании 100-летия со дня рождения Л.Н.Толстого, о вариантах выбора его произведений для перевода ноа японский язык: «Я буду вам чрезвычайно благодарен, если вы переведете те или другие мои пьесы на японский язык. Я знаю, что один из японских театров давал уже на японском языке мою пьесу «Освобожденный Дон–Кихот». Мне трудно рекомендовать вам ту или другую пьесу, ибо я не знаю, каково в этом отношении ваше желание. Я очень люблю мою фантастическую пьесу «Василиса Премудрая», нечто вроде сказки, не очень подходящей для сценической постановки, но между прочим, по признанию английской критики (пьеса переведена на английский язык), обладающей некоторыми красотами. 2. Если вы хотите пьесу, могущую иметь крупный сценический успех, то я указываю вам на «Медвежью свадьбу», которая до сих пор не сходит с русской сцены и в переделке для кино обошла почти весь мир с единодушным успехом. 3. Если же вы хотите пьесу наиболее глубокую в отношении заключающихся в ней идей, то кроме «Освобожденного Дон–Кихота», относимого мною к такого рода пьесам, я мог бы рекомендовать вам мою пьесу «Слесарь и канцлер».
 Титульный лист отдельного издания пьесы наркома.
Титульный лист отдельного издания пьесы наркома.
С тех пор она не переиздавалась. Последние четыре из девяти действий были, впрочем, перепечатаны уже в наше время в сборнике «Проспер Мериме в России», куда вошли также фрагменты известной статьи наркома о Мериме «Гений безвременья» и выдержки из воспоминаний его супруги, актрисы Н.А.Розенель-Луначарской, о том, как пьеса вначале была поставлена на сцене Малого театра, а затем и экранизирована.
Вообще, заслуживает внимания и сам вопрос, почему Луначарский обратился и к этой теме, и к этому жанру.
Существует исследование на эту тему, относящееся, впрочем, к кинематографии (Е.Диков – «А.В.Луначарский – кинодраматург и теоретик киноискусства»), выпущенное в 1971 г. ВГИКом. Но логику автора можно вполне распространить и на искусство театра, поскольку для самого Луначарского стремление решить собственные художественные задачи было важнее жанровых рамок, в которых оно будет воплощаться, о чем и свидетельствует практически одновременное переложение его пьесы как для сцены, так и для кино.
14 января 1919 г. в газете «Жизнь искусства» публикуется статья наркома «Какая нам нужна мелодрама». Разговор об искусстве кино он начинает с театральной драматургии. Глубоко изучив мировую драматургию, накопив большой опыт в области театрального искусства, Луначарский решил приложить его для использования в жанре, как тогда говорили, синематографа. По его убеждению, кино должно было взять от театра всё лучшее, что было достигнуто сценой, вобрав и переработав его многовековой опыт.
Для Луначарского искусство было хорошим «плацдармом» для того, чтобы в послереволюционных условиях, учитывая новые настроения и веяния эпохи, воспитывать в человеке «чувства добрые», освобождение от условностей и предрассудков прошлого, помочь раскрыть лучшее, что есть в человеческой натуре, для чего воспитывать ее на лучших образцах художественной культуры «всех времён и народов».
Самым подходящим для этого жанром он считал мелодраму, освобождённую от пошлости и вместо этого проникнутую высокими целями. Нарком писал: «выберите какую-нибудь великую силу, содействующую росту жизни в ее борьбе с чем-нибудь разлагающим и представьте эту борьбу животрепещущей… выявляя ее в освещении потрясающих положений, будящих гнев и сострадание… и вы будете иметь душу для вашего драматического произведения».
И далее: «В кино или мелодраме хороший захватывающий сюжет, затем богатство действий, громадная определенность характеристик, ясность и точная выразительность ситуации и способность вызвать единое и целостное движение чувств, сострадание и негодование; связанность действия с простыми и потому величественными этическими положениями, с простыми и ясными идеями. Я полагаю, – продолжал он, – что если бы кто-нибудь захотел построить кино или мелодраму по этим признакам, то он с удивлением убедился бы, что при использовании их правильно (если он талантлив) вышла бы, в сущности, настоящая трагедия, монументальная, простая, типичная в своих действующих лицах и в своих основных линиях».
Иными словами, Луначарский был убежден, что «мелодраматическая форма есть наилучшая форма для кино, разумеется, в соответственной переработке, ибо кино в этом отношении многими своими гранями гораздо богаче театра», что «освобожденная от пошлости мелодрама в талантливых руках может превратиться в ясную, величественную трагедию» (слова Е.Дикова). При этом, как считал Луначарский, в мелодраматической трактовке равно возможны сюжеты совершенно разного плана – и чисто реалистические, и исторические, и фантастика, и даже комедия. Мелодраматическая трактовка должна была помочь зрителю осмыслить, понять и прочувствовать фабулу фильма, опираясь на собственные чувства и представления.
Немаловажное значение нарком придавал и кинодраматургии. «Театр нагляден, в высшей степени нагляден и потому чрезвычайно эмоционален, сильно затрагивает чувства людей. Кроме того, он прямо и непосредственно действует на большие коллективы, сливает в одинаковом впечатлении, в одинаковых чувствах тысячи людей».
Еще больше в этом плане способен сделать кинематограф: «И эта наглядность его так велика, что полуграмотный и даже неграмотный человек захватывается им (что совершенно невозможно для литературы)» – писал Луначарский. И далее: «возможность широкого воздействия на массы у кинематографии… несравнима с остальными искусствами». Так что известная и, увы, затрепанная фраза Ленина про «важнейшее из искусств» имеет в виду как раз наглядность «десятой музы», способность ее именно своей наглядностью, очевидностью и бо’льшей доступностью смысла оказать влияние на умы людей.
Кинодраматургия, по его мысли, должна быть основана на «большой» литературе: «кинодраматургия как бы выросла на литературном древе, являясь неотделимой, хотя и самостоятельной ветвью» (Е.Диков). Иначе говоря, в качестве одного из наиболее продуктивных путей Луначарский призывал идти в кинематограф от литературы, от искусства слова, перелагать на язык кино словесные образы. «По-настоящему сценарное дело может развернуться только в таком случае, – писал он, – если к нему придут подлинные писатели».
Большое значение нарком придавал и экранизациям. При этом в работе над экранизациями Луначарский призывал максимально бережно относиться к литературным прототипам, тщательно передавать литературные и психологические достоинства литературного произведения. Луначарский призывал работать для кино и известных писателей. В условиях крайнего дефицита сюжетов и состоявшихся работ пришлось создавать свои сюжеты и самому наркому. Еще в 1923 году вышел, как мы говорили, двухтомник его драматических сочинений. Но надо иметь в виду, что этим годом не закончилось его драматургическое творчество, да и вошло в него далеко не всё, что было написано. Это к вопросу об объемах собственного вклада Луначарского в драматургию.
О том же пишет и жена наркома: «Анатолий Васильевич находил закономерным развитие легенды, народного предания, новеллы в полноценное драматургическое произведение. Он доказывал эту мысль на примерах шекспировских трагедий, «Фауста» Гете и других /…/ Он считал, что /…/ следует искать во французской, испанской драматургии /…/ то, что имело бы острый сюжет, стремительное действие, захватывало бы зрителей смелой фабулой, яркой формой. Луначарский считал П.Мериме, этого «гения безвременья», автором «стиля романеск», но не столько его пьесы – «Жакерию», «Театр Клары Газуль», – сколько его новеллы».
Переложил он вначале для постановки на сцене и новеллу П.Мериме «Локис» о графе Шемете, полуоборотне, судьба которого должна была наглядно показать судьбу «благородного сословия», обречённого на вырождение.

Открытка того времени со сценой из спектакля

Сцена из спектакля «Медвежья свадьба» на сцене Малого театра. 1924 г.
В 1924-м году пьеса была поставлена на сцене Малого театра актером и режиссером театра Константином Эггертом (запомним это имя!). Панну Юльку сыграла молодая ещё Елена Гоголева (её дублером была супруга наркома Наталья Розенель-Луначарская), а помещика-оборотня… актёр Ленин. Тот самый, Михаил Францевич, по поводу фамилии-псевдонима которого ходило столько легенд, причем к некоторым был причастен он сам. Достаточно вспомнить его фразу, относящуюся к временам после Февральской революции: «Прошу не путать меня с этим политическим авантюристом!». На что, по такой же легенде, вождь ответствовал: «Оставьте в покое этого дурака!».
Про то, что получилось в театральной постановке, известный деятель театра П.А. Марков в статье 1924 года «Накануне сезона» писал:
Одним из рационалистических подходов к современности послужило усвоение новых приемов. В его основе лежит, видимо, сознание необходимости «стиля современности» – новых средств сценического воздействия. При отсутствии их внутри самого театра их приходится заимствовать. Именно такую попытку и произвел Малый театр. По существу, мелодрама Луначарского написана в традициях старого театра вне намека на какие-либо новые формы. Сюжет рассказа Мериме «Локис» натолкнуло автора на создание многоактной пьесы с театральными эффектами: пением, танцами, ужасами, убийствами, монологами и т.д. Тема пьесы – о неважной наследственности молодого графа, толкающего его на ряд сомнительных и неблаговидных поступков вплоть до перегрызания горла собственной супруге, – вполне потрясающа, но лишена революционной тенденции. Наличие же оппозиционно мыслящего доктора не вносит существенных изменений в основную сюжетную линию пьесы. При всем том в пьесе все элементы хорошей традиционной мелодрамы, соблазняющей актеров выигрышными ролями и устрашающей публику количеством невероятных переживаний. Мелодрама требует четкой и ясной постановки. Режиссировать спектакль был приглашен К.В.Эггерт, воспитанный на традициях Камерного театра, недавно демонстрировавший их усвоение постановкой «испанцев». В своей режиссерской работе Эггерт был нечеток и смутен. Он отказался от четкого следования своим принципам, не приняв, однако, принципов Малого театра; методы его режиссуры явно противоречили мастерству актеров театра; общий же художественный замысел оказался смутен и неопределенен; у исполнителей была выбита из-под ног привычная почва и взамен не было дано ничего нового. Актеры растерянно двигались среди традиционных лестниц, по сломанной площадке, представлявшей своеобразное сочетание плоскостной декорации и примитивного конструктивизма. Весь спектакль был эстетически незакономерен.
На этот раз «левизна» не подвинула театр по пути современности. Причина лежала не только в том, что были применены вульгаризированные формы. Художественная тактика театра бессмысленна постольку, поскольку она касается усвоения отдельных приемов вне обусловливающего их принципа. Между тем сила и значение формальных театров не в отдельных приемах, часто неудачных и подлежащих оспариванию, а в ряде утвержденных ими принципов, которые вытекают из существа искусства театра вообще. Спектакль же Малого театра не учел ни драматургического, ни актерского материала; мнимый конструктивизм не обеспечил современности постановки. Данная постановка еще раз подчеркнула, что перед руководителями театра стоит все та же глубокая и сложная задача применения новых методов и приемов лишь соответственно природе и существу каждого отдельного театра, а не их внешнего и рационалистического усвоения. Это – вопрос тактики. Тактика же «завоевания изнутри» обеспечивает рождение пока отсутствующего «стиля современности». Без «левых» мастеров – мастеров формы, вероятно, не обойтись: напрасно компрометировать их и себя неумелым и неразборчивым применением их методов.

Шарж Кукрыниксов на А.В.Луначарского и его «Медвежью свадьбу» (1927 г.). Из тома серии «Литературное наследие», помвящённого А.В.Луначарскому
А карикатура Кукрыниксов того времени остроумно передает сложившуюся ситуацию через аналогию с сюжетом басни И.А.Крылова «Пустынник и медведь». Напомним, встреченный отшельником медведь подружился со своим новым знакомым настолько, что готов был всячески опекать его, буквально отгонять от него мух. Но по его недомыслию получилось то, что благодаря этому сюжету в народе стало называться «медвежьей услугой»: медведь только навредил пустыннику, а «медвежий» сюжет, по мысли карикатуристов – самому наркому.
…Следом за театральными деятелями обратились к Луначарскому с разрешением на экранизацию его пьесы и кинематографисты.
Надо сказать, что стрешневская натура и мрачная замкообразность дворца как нельзя лучше подошли к сюжету «ужастика» о графе-оборотне Шемете (которого и сыграл Эггерт), зачатом от медведя и погубившем, загрызшем в первую же брачную ночь невесту, которая наивно пыталась исцелить его своей любовью (кстати, схожий мотив, но с благополучным исходом, знаком нам по «Обыкновенному чуду» Евгения Шварца). Зловещим замком Шеметов Мединтилтас для кинематографистов идеально послужил дворец княгини Шаховской. Более того, в пьесе Луначарского, послужившей литературной основой для фильма, есть такой пассаж: «На этой страшной дикости и тяжкой бедности нескольких тысяч крестьян, как ядовитый цветок… нет, как ядовитый чудовищный гриб, вырос замок Мединтилтас с его романскими башнями и готическим фасадом, с его угодьями, садом, похожим на лес, парком, теряющимся в пуще, где можно встретить лисиц и волков, с его торговлей лесом, пушниной, льном, с его огромными складами, миллионными счетами у банкиров Варшавы, Дрездена и Санкт-Петербурга…». Сходство описания средневекового замка, который автор-нарком вслед за Мериме поместил в Литву начала XIX века, с дворцом в Покровском, иной раз настолько разительно (тем более что в описании определённо присутствуют и некоторые «местные» подробности, характерные именно для Стрешнева и ее владельцев), что трудно отделаться от иллюзии, что Анатолий Васильевич не имел перед глазами как раз бывшую вотчину княгини. А сама сумасшедшая графиня Шемет в фильме подана так, что создаётся отчётливое ощущение аллюзии на саму же прежнюю владелицу Покровского… Тем более если учесть направленность трактовки Луначарским сюжета, который должен был, как мы уже говорили, через судьбу персонажей наглядно показать судьбу «благородного сословия», обречённого на вырождение.
Поскольку, судя по всему, в обозримом будущем фильм едва ли кто увидит, стоит рассказать о нем подробнее, отвлечься на фигуру того, кто сыграл ключевую роль и в процессе инсценировки, и экранизации – Константина Эггерта (тем более что мрачный замок Мединтилтас и мрачность самого кинофильма – ключевой его мотив – имеет самое непосредственное отношение к предмету нашей работы), и даже рассказать немного о том, как была написана сама новелла «Локис».
По данным автора монографии о Мериме Жана Фрестье, при публикации в 1866-м работ путешественника и естествоиспытателя начала XIX века Виктора Жакмона Мериме наткнулся в старом, еще 1833 года, номере «Ревю да Пари» на соседствовавший с одной из новелл самого Жакмона рассказ «Человек-медведь» и начинает разрабатывать тему.
Это было время, когда актуальными оказались вопросы наследственности, в том числе и невропатической. «Он интересуется всем, что относится к Литве, изучает ее язык, описывая пейзажи, он вдохновляется Мицкевичем, советуется с разными специалистами», изучает литовские реалии, «жмудский язык» – точнее, одно из двух наречий, наряду с аукштайтским, составивших современный литовский язык, причем «жмудский язык» своей древностью должен был придать повествованию особый колорит «темных веков» и «темных преданий» (кстати сказать, по сюжету профессор Виттенбах и приезжает в Литву, чтобы изучить этот язык и перевести на него Библию, иными словами, с миссионерско-просветительскими целями, и сталкивается на своем опыте с «темными силами» дремучей Литвы).

Афиша фильма «Медвежья свадьба». (С кадром из фильма)
Как пишет Ж.Фрестье, первоначально Мериме собирался высмеять некоторые произведения своего времени, вроде «Терезы Ракен» Эмиля Золя с их крайностями «рокового влияния плоти». Но затем его эта тема увлекла и в письме к Женни Дакен он пишет: «Когда я жил в замке, там читали вслух необычайные современные романы, авторы которых были мне совершенно неведомы. В подражание этим господам и написана моя последняя новелла. Ее действие происходит в хорошо знакомой Вам стране – в Литве. Там говорят чуть ли не на санскрите. Некая знатая дама из тех краев, присутствуя на охоте, на свою беду, была схвачена медведем, лишённым «чувствительности»; он утащил ее, вследствие чего она помешалась; это, однако, не помешало ей родить здорового мальчика, тот вырос и превратился в очаровательного, хорошо сложенного юношу; но только порою он впадает в черную меланхолию и ему присущи необъяснимые странности. Его женят. И в первую брачную ночь он убивает свою жену. Но вы-то ведь знаете, в чём дело, поскольку я приподнял для вас покров тайны, а потому Вы тотчас поймете причину происходящего. Ведь этот господин – незаконный отпрыск дурно воспитанного медведя. Che invezione prelibata (Какой изысканный вымысел – итал. – А.П.)».
В процессе работы Мериме советуется с медиками относительно наследственности, со знакомыми по поводу самого образа человека-медведя. Среди его «консультантов» был и Тургенев. Мериме писал ему в 1868-м, когда новелла уже была готова: «Когда я был в Фонтенбло у высокопоставленной дамы, о которой вы знаете, там читали вслух всевозможные страшные и фантастические истории. Я принял на себя обязательство придумать самую жестокую из всех, to out Herod Herod («Переиродить Ирода» (англ.) – А.П.), и льщу себя надеждой, что это мне, в общем-то, удалось, по крайней мере в том, что касается сюжета. Одна дама встретила медведя и он похитил ее. У нее родился ребенок, очень красивый, правда, слишком волосатый и очень сильный мальчик; он получил хорошее воспитание, но отличается некоторыми странностями. Этот господин – еще целомудренный юноша, он читает серьезные книги и влюблен в юную кокетку, белокурую и розовенькую, напоминающую кошечку у камелька. Он и сам не может толком разобраться в своих чувствах, какие она ему внушает: страсть ли это или платоническое увлечение. Он женится на ней и убивает ее. Мне незачем вам говорить, что он не знает, кто дал ему жизнь. История его рождения покрыта мраком, и боязливые читательницы могут даже думать, что все эти медвежьи странности связаны со «взглядом». Самое смешное то, что обдумывал я эту прелестную историю, держа в руках литовскую грамматику. Теперь я очень силен в жмудском, или жомаитском, языке, и действие происходит в Литве. Местный колорит – в избытке!!!».
Тургенев посоветовал изменить некоторые эпизоды и предложил, кстати сказать, и название – «Локис». В конце концов Мериме сгладил наиболее острые места: «Я несколько «облизал» моего медведя, и боязливые особы могут предположить, что странности моего героя порождены страхом или фантазией беременной женщины. Все на свете верят в такие вещи, и моя матушка приписывала многие мои недостатки тому страху, который она испытала при виде какой-то обезьяны».
То есть, проще говоря, писатель решил, говоря нынешним сленгом, просто «постебаться» над ходячими мрачными преданиями.
Известно, что Мериме был известным мастером розыгрышей и литературных мистификаций. Гоголь в «Заметке о Мериме», написанной ещё около 1840 года и, стало быть, подразумевая только «Гузлу», замечал: «Мериме обладает… способностью схватывать верно местные краски, чувствовать народность и передать её». Достаточно вспомнить «Песни западных славян» (ту же «Гузлу»), уловку, на которую поддался даже Пушкин. А в самом «Локисе» пастор Виттенбах, приехавший просвещать дикую Жемайтию и увлеченный местным языком, оказывается одураченным Юлькой Ивинской, которая под видом жемайтского народного сказания «подарила» ему… переведенную на народный язык легенду «Будрыс и его сыновья», написанную Мицкевичем. Вот и созданием новеллы Мериме определенно намерен был отпустить еще одну шутку, в которой переплелись взаимоисключающие составляющие, когда действительное превращается в свою противоположность, а антипод, напротив, проявляет именно те самые качества, которые по идее присущи исходному. Словом, «всё обман, всё мечта, всё не то, чем кажется».
Новелла строится на противопоставлении «цивилизованного» и «дикого», первобытного начал, на их столкновении. Тем самым Мериме ставил опыт, возможно ли просвещением, очищением душ человеческих, образно говоря, убить в человеке «зверя», его дикое естество (один из популярных сюжетов в литературе; сходный посыл был положен Михаилом Булгаковым в его «Собачьем сердце»). При этом Мериме интересовался традициями «нецивилизованных», «диких» народов, пытаясь найти в них истинную сущность человеческой природы. Для чистоты эксперимента он избрал местом действия Литву – места, за которыми в Европе тянулся шлейф в буквальном смысле слова «медвежьего угла», где сохранялись древний язык и самобытные верования, своей диковинностью отличающиеся от остальной Европы. Именно здесь культ медведя сохранялся в своей первозданности, а многие языческие обычаи позволяли долгое время считать ее «дикой» страной, сильно отставшей в своем развитии от остального, «цивилизованного» мира. Исследователи приводят тот факт, что именно в Жемайтии культ медведя отличался особой популярностью, а считающаяся прародительницей Жемайтии черная медведица, стоящая на задних лапах, оказалась на гербе этой земли, который появился в XV веке. Сам медведь определялся в народных верованиях как хозяин леса, в конечном счете – порождение потустороннего мира, мира леса, звериной натуры. Вот как писал Йоханн Давид Вандерер о своем путешествии в Жемайтию в 1589 году: «Далее мы отправились в Жемайтию через густые и необыкновенно большие леса, в которых в разное время при свете дня возникали страшные видения и привидения. Ученые считают, что так происходит потому, что до сих пор многие люди живут как звери, без веры и религии, и не только почитают своих животных и другие змеиные страшилища, но еще и потому, что они с помощью дьявола превращаются в волков и медведей, так что сатана, как мы видим, у них еще имеет большую силу; они тогда в разных видах появляются перед путешественниками, могут напасть на них в облике волка и задрать». Для усиления колорита Мериме вводит образ колдуньи-цыганки Вижи со змеей – культ змеи в самом деле действительно пользовался в Литве необычайной популярностью, вспомним хотя бы знаменитую легенду «Эгле – королева ужей».
В новелле Мериме исследует двойственность человеческой природы, в которой борется первозданная дикость с цивилизованностью, инстинкты и чувства с логикой и разумом, «звериная» природа с человеческой, а мужское начало с женским, для чего сталкивает, с одной стороны, «просвещенного» пастора с графом темного происхождения, на которого оно наложило мрачный отпечаток, и с другой стороны – мрачный колорит самого графа с беззаботной Юлькой Ивинской. В центре всех этих столкновений находится двойственная натура самого графа, в которой борются цивилизованность и дикость, а «звериное» начало, «заваренное» на его происхождении, то есть, проще говоря, наследственность, постоянно напоминает о себе, прорывается сквозь все попытки «цивилизоваться», даже проходя через испытание любовью (вспомним еще раз «Обыкновенное чудо» Евгения Шварца). В результате этой борьбы двух противоположных начал в натуре одного человека «звериная» природа одерживает верх, а жертвой оказывается невинная девушка, олицетворяющая светскость и образованность («литовская муза»).
Но не всё так просто. В свою очередь поведение самой Юльки, в первую очередь затеянный ею «танец медведя и русалки» опрокидывает все первоначальные предположения: под видом имитации народного обычая она фактически сама начинает играть роль потустороннего, губительного начала для Михаила Шемета (поскольку за образом русалки тянется не менее дурная «слава») – Юлька в образе русалки превращается из жертвы в персонаж нечистой силы, демонологическое существо, завлекающее и несущее погибель Михаилу Шемету, который становится в данном случае жертвой женского коварства и должен в итоге потерять разум и самообладание. Таким образом, из невинной жертвы панна Ивинская превращается в коварную соблазнительницу из потустороннего мира, стремящуюся увлечь в омут графа, который сам в свою очередь играет здесь роль невинной жертвы. Идея свадьбы как соединения противоположных начал, объединение мужского и женского, земного мира и потустороннего, символическая смерть и возрождение, приобретает у Мериме мифологическое звучание, и здесь мотив медведя находит идеальное выражение. Превращаясь в медведя, граф становится «священным животным». Принимая медвежью долю и медвежью сущность, он помогает понять, что наряду со Священным Писанием есть и другие истины и традиции, которые также следует уважать. При этом если французские исследователи убеждены в том, что «любая попытка совместить звериную природность и цивилизацию – это нарушение, поэтому оно гибельно и обречено на поражение», а «настоящий пессимизм «Локиса» проявляется в том, что человек вынужден выбирать животворящие, но губительные силы или равнодушную, бескровную цивилизацию», – то литовские наоборот (тем самым и тут сказывается противопоставление Европы и Литвы).
Еще одна каламбурная интрига связана с именами героев. Имя графа «Михаил», нарицательное имя медведя вообще, между тем его этимология – «подобный Богу». Между тем «Юлия» означает «пушистый сноп», то есть семантически отсылает как раз к образу медведя. Но и это еще не всё. В эпиграфе («Miska su Lokiu abudu tokiu» – «Мишка и медведь – одно и то же») обыгрываются два значения слова «медведь» в литовском языке, причем первое (Мишка), заимствованное из славянских языков, и означающее медведицу (и при этом логически увязанное с образом графа прежде всего посредством его имени) стало более употребительным чем второе (Локис), исконно литовское, несущее в себе образ медведя-самца, но перекликающееся с образом, стоящим за именем Юльки. Таким образом, на игре двух значений слова в новелле строится целый ряд столкновений: слияние и борьба не только звериного, дикого и человеческого, культурного начала, но и женского с мужским (кстати сказать, соответственно темное пассивное и светлое активное начала), жертвы и преступника, искусителя и соблазненного, богини-матери и черта-лешего.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?