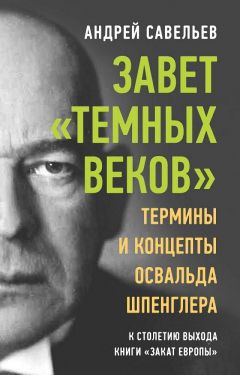
Автор книги: Андрей Савельев
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 45 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Язык, знак, понимание
Язык существует для коммуникации, но не является коммуникацией. Потому что текст – произнесенный или написанный – требует еще и готового к восприятию слушателя или читателя, пусть даже предполагаемого, присутствующего в будущем.
Как возможна коммуникация, если «дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так»? Один и тот же текст понимается совершенно по-разному. Текст и его перевод на другой язык – совершенно разные.
Шпенглер разрешает эту проблему тем, что вводит понятие знака. Мы воспринимаем текст, но понимаем его как набор знаков, которые порождают чувство. И только это чувство ведет нас к пониманию. Слова, словосочетания, предложения – это формальные, бесчувственные записи. Они должны вести к переживаниям смыслов, а те насыщены чувствами; одно из фундаментальных среди них – чувство прикосновении к истине. Оно дано далеко не всем, а в современном мире – ничтожной части населения, которая все еще читает книги.
Язык – это деятельность для другого. Даже внутренний собеседник – это собирательный образ другого. Обобщенно: язык – высказывание для мира, заложенное как внутренняя потребность осуществить себя, засвидетельствовать перед Вселенной и другими свое существование. Даже если это кот, которому хозяин говорит: «Пойду за хлебом».
Шпенглер делит высказывания на язык выражения и язык сообщения. Первое – для Вселенной, второе – для существ. Выражение свидетельствует о существовании «Я», сообщение предполагает наличие понимающего «Ты». «Понять – это значит ответить на впечатление от знака собственным ощущением значения». Может быть и выражение предполагает «Ты» как всепонимающее божество. Мышление наедине с самим собой обнаруживает «Ты» в себе самом. Следовательно, ощущение «Я» уже предполагает «Ты». И выражение – это то же сообщение, но порой с неопределенным, неясным адресом.
Коммуникация возможна, поскольку есть поиск взаимопонимания. Все языки предполагают одинаковые знаки, включая архетипические. Поэтому «смысловой перевод» – это пробуждение этих знаков, а не просто грамматически выверенный подстрочник. Мысль невозможно повторить на ином языке; ее следует уловить! В целом понять – не значит получить отпечаток чьей-то мысли в своем сознании, а уловить ее знаковую природу и прочувствовать.
Язык – это ключ к кладовой знаков, а речь – это деятельность посредством знаков. Она добавляет к тексту тот знаковый компонент, который оживляет все прочие знаки и создает условия коммуникации. Для глубокого понимания текст проговаривается публично, облекаясь тактом, тоном, мимикой и жестом. Древние языки, сохранившиеся в виде текстов, лишены своего живого звучания, и нам не восстановить их знаковой структуры – понимания заложенных в записях переживаний.
Видение знаков за словами, прослеживание контекста, а в устой речи – интонаций и языка тела, – это и есть способность к пониманию.
«Слова лишь называются, а не употребляются как определения, и слушающий должен почувствовать, что имеется в виду». Придворные эксперты-лингвисты, которых привлекают для судебных расправ над оппозиционерами, предполагают отношение к словам как к определениям, которые берутся из кратких словарей, где присутствует только одно, самое бесполезное значение. И этого бывает достаточно, чтобы обеспечить зверствующих судей основанием для карательных приговоров, которые показывают: понимание не просто отсутствует, а намеренно исключается и подменяется фиктивными и злонамеренными трактовками. И это – один из самых ярких признаков краха культуры – репрессирование смыслов родного языка.
Из знаков образуются формы, которые отражаются и на формализации языка. Формы – своего рода законы сопоставления символов, которые принимаются в культуре только в определенных комбинациях. Искусство составления этих комбинаций представляет собой полноту владения языком. При этом застывшие знаковые формы – сформированный язык и его законы, которые требуется знать всякому культурному человеку, осваивающему и углубляющему свое понимание языка.
Похоже, что форма языка – нечто ставшее, закостеневшее. Но это только форма. Содержание всегда находится в состоянии становлении: знаки стабильны, а их значения (лексемы) нет.
Следующий этап становления языка – возникновение грамматики. Предложения образуются, прежде всего, добавлением глагола, который означает включение в мир знаков обозначения действия, а значит – времени: «с „мышлением в глаголах“, доступной для размышления сделалась и сама жизнь». «Мы говорим предложениями, а не словами». Грамматика позволяет уточнить понимание слов, через контекст осмыслить текст. И таким образом мысли превращаются в мышление, которое по-своему формируется у разных рас.
Язык форм в искусстве – это общепринятая знаковая коммуникация, создающая стиль в том случае, если этот язык становится родным для целого сословия творцов, применяющих его безотчетно, как само собой разумеющееся. В язык форм включаются тотемные знаки, расовая красота, общепринятые табу. Слом табу в «эксперименте» убивает искусство, привлекая не прекрасным, а безобразным.
Проблема поиска праязыка, как считал Шпенглер, надумана. Потому что словесный язык не был первым, и возник достаточно поздно. Праязык – несловесный. Он возникает в животном существовании, когда одно существо пытается произвести впечатление на другое – воля порождения впечатлений в другом и воля к восприятию впечатлений. «Ощущение своего одиночества – первое впечатление ежедневного пробуждения. И отсюда прастремление навязать себя друг другу среди этого чужого мира, чувственно удостовериться в близости этого другого, отыскать с ним сознательную связь. „Ты“ – это освобождение от страха одиночества. Открытие „Ты“, когда оно, как и наша самость оказывается органически, душевно выделенным из чуждого мира, – великий миг в ранней истории животного элемента».
Если Шпенглер считал, что так возникает животное, то мы хотели бы видеть в этом ощущении одиночества рождение человека – духа, который вкладывается в него свыше и отделяет его от животных. Животное страдает безотчетно, человек переживает одиночество в мышлении, где оперирует знаками этих переживаний, которые впоследствии переплавляются в слова, которыми не мыслят, но коммуницируют.
Среди знаков, на которые указывают словесные высказывания, основополагающими являются группы, составляющие тотем и табу. Эти сокровенные знаки ведут к пониманию сокровенной тайны жизни. В них «существование и бодрствование, судьба и казуальность, раса и язык, время и пространство, стремление и страх, такт и напряжение, политика и религия». По сути дела, вся шпенглеровская терминология распределяется между двумя знаковыми группами: тотемы – для растительной жизни, табу – для животной. Тотем имеет облик, табу – систему (знаний или, скорее, пониманий). Тотем есть факт, принадлежащий к определенному типу существования, табу – обозначение связей между бодрствующими существами (осваивающими пространство и живущими во времени). Табу создается, хранится, изменяется и составляет тайное знание связей языка со знаками.
Тотем в бытовой сфере обнаруживается в древних культурах, которые раскапывают археологи. Он отражает образ жизни: войны, труда, отдыха. И выражается в формах оружия, одежды, утвари, детских игрушек, оберегов. Все, что касается отделки и украшения относится к сфере табу – в них выражается чувственный мир, язык знаков и религиозные представления. Здесь табуированы, прежде всего, инокультурные образцы. И если встречаются синтетические украшения, то они лишь расширяют ареал применения табу. Любые заимствования – это нарушение табу, нарушение стиля.
Как это ни покажется странным, достаточно развитый язык превращает в знаки «фигуру умолчания» – точно так же, как паузы в сценической речи. То, что можно «прочесть между строк», порой важнее и содержательнее, чем текст.
«Мысль изреченная есть ложь» – это высказывание похоже на парадоксальное или просто неверное. Молчаливое любование безмолвно и ближе к истине, чем высказывание. Понимание через единодушное и безмолвное переживание куда продуктивнее обмена репликами. Многозначность содержания знаков дает простор трактовкам. Сообщение может содержать один смысл, а его восприятие обратится к другому смыслу. «Подлинная вера промолчит».
Говорящий думает как раз в паузах, а не в процессе произнесения слов, которые могут захватить его своей грамматической формальностью, и сказано будет вовсе не то, что задумывалось. Слова должны подчиняться мысли, но зачастую бывает как раз наоборот. Глубина мысли несопоставима со словесным ее выражением, и только там слово совпадает с мыслью, где собеседник синхронно сопереживает смыслам текста.
Нет сопереживания – нет и понимания. Поэтому Шпенглер пишет: «язык и истина друг друга исключают». Чтобы понять говорящего, нужно быть не знатоком языка, а знатоком людей: «увидеть за молитвой сердце, за хорошим тоном личностный общественный статус» и так далее.
Неизреченная истина оказывается важнее изреченной словесной формулы. Вместе с тем, нельзя считать, что тем самым раса (динамика становления) побеждает статический (но сложный) или очень медленно развивающийся знаково-символьный мир, в котором доминирует уже не понимание, а техника речи. Без этого устойчивого мира языковых форм нет исключенных из него знаковых умолчаний. Бытие и становление в органическом существовании совокупно составляют явление, а не противостоят друг другу.
Шпенглер, пытаясь вернуться к своим мыслям о бытии и становлении, заходит в тупик. Ему кажется, что порожденное знаками словесное мышление теряет свою органичность, что принятие некоторых истин как вечных противоречит динамике жизни. «Истинной системы мысли существовать не может, потому что никакой знак не заменяет действительность»; «логика и этика являются системами абсолютных и вечных истин для духа, и именно в силу того обе они неистинны для истории», «в царстве фактов вера в вечные истины оказывает мелочной и абсурдной драмой, разыгрывающейся в отдельных человеческих головах». Ему кажется неверным, что «в качестве действительности теперь признается только познание, а действительное клеймится как кажимость и обман чувств». Надо сказать, что клеймится поделом, но теми, кого не замечают – когда на излете цивилизации кажимость завлекает, а рассудочные суждения вызывают зевоту.
Познание обращается к непознанному, расшифровывает его в словесно-знаковой форме, которая и есть мир человека разумного. Простое переживание действительности – это органическое, но не человеческое, не разумное существование. Это раса в смысле животного мира, мира-природы, но не мира-истории. Вечные истины существуют в рамках мыслимого мира, и без них становление отрывается от бытия и тем самым исчезает из действительности, перестает быть фактом.
Помимо умолчания, которое способны расшифровать немногие, в языке возникают корпоративные и (что важнее) аристократические страты – обсуждение профессиональных вопросов останется непонятным для профанов, обсуждение вопросов в аристократических кругах также будет наполнено такими аллюзиями, которые останутся нерасшифрованными сторонним слушателем. Поскольку современный мир лишен сословного аристократизма, специальный язык в высшем его развитии оказывается у наиболее образованных слоев. И эти слои теперь тоже подвержены деградации, поскольку высший уровень компетентности не затребован ни частным, ни государственным работодателем. Отчего язык неизбежно деградирует до тюремного и подросткового жаргона, который становится нормой.
Шпенглер дал гениальную формулировку: письменность освобождает от диктата современности. То есть, в письменности бытие противостоит хаосу инокультурного становления, который может восприниматься только как деградация, сползание к примитиву. Еще неизвестно, вырастет ли из этого хаоса какой-то порядок, но порядок, на который ушли века, может быть разрушен.
Фактически европейское человечество деградирует до бесписьменного существования. Среднеобразованный человек теперь почти ничего не читает и почти не пишет. Он предпочитает весь досуг расходовать только на визуальные и телесные удовольствия. Художественная литература теряет читателя, образование сводится к угадыванию правильных ответов из набора предложенных. Социум становится преимущественно бесписьменным: сложные языковые конструкции и тексты уже не воспринимаются мозгом, привыкшим обозначать все сложности бытия небольшим набором знаков, быстро делящих авторов на «своих» и «чужих». При этом само авторство, личность автора как социальное явление исчезает. Сегодня он «свой», завтра может оказаться «чужим», а послезавтра снова «своим» – в зависимости от того, на какой фрагмент текста упадет взгляд деградировавшего читателя.
Письменность отражает историю культуры, то есть взгляд в даль прошлого. Но она также претендует на вечную длительность – взгляд в даль будущего. И этот дар доступен лишь малой части языков и их носителей – народов. Письменность – это исторический дар. По Божией воле народ приобретает письменность, и тем самым становится историческим. Дар для европейцев – письменность, отделенная от речи. Это не записанная речь, и лишь в редких случаях – запись будущей речи (что дает худшие образцы бюрократического говорения). Вечные истины закрепляются письмом, а не устной речью, которая сиюминутна.
Шпенглер точно проводит границу между хронологией – записью фактов – и священным писанием – записью истин. Первому положена сухая хроника и пыльный архив, второму – учебник и библиотека. Речь опирается на личную память, письменность – на запечатленный текст, который в своей материализации даже на краткий миг становится вечным – в воображаемом информационном пространстве, из которого время не властно стереть ничего.
Само государство, как пишет Шпенглер, имеет в качестве своего условия письменное сообщение. Из него вырастает историко-политическое мышление народа, и право – условие государственного управления большими массами людей: «конституции заменяют материальную силу редакцией параграфа и придают клочку бумаги действенность оружия».
Крупные исторические сдвиги возникают в сопровождении литературы. Но если нет читателя, история останавливается. Поскольку ее творят идеи, а идеи приходят из текстов, дающих им осмысление и объединяющих ведущий слой общества.
Тотальная безграмотность поколений «эпохи цифр» и циничное пренебрежение законом со стороны чиновничества и суда останавливают историю и прекращают жизнь государства. И мы видим этот процесс уже не как временный упадок, а как устойчивую тенденцию, против которой не выставлено ничего – даже более или менее значимых общественных настроений.
Большой стиль
Понятие стиля Шпенглер выводит из архитектуры как наиболее раннего вида искусства, который сложился в Древнем Египте. При этом египтяне представляют архитектурный стиль совершенно обособленно, не предполагая никакой декоративности и сопутствующих искусств. Античность при строгом архитектурном стиле, который как бы рождается сразу и в готовом виде и допускает минимальное развитие лишь в изобретении коринфской капители, позволят образоваться независимому от архитектуры пластическому искусству. В европейском искусстве в дальнейшем первенство переходит к музыке, соответствующей стилям готики и барокко.
Из стиля выводятся социально-психологические особенности, которые, возможно, являются все-таки первичными. Древних египтян Шпенглер почему-то считал обладателями отважной души, способными дерзать на всё, но либо не осознавая этого, либо просто замалчивая свои душевные порывы. Древний грек, напротив, в момент перипетии испытывал некий «выдох аполлонической души» – в греческой трагедии герой мифа сокрушался безжалостным Роком, не зная, как ему сопротивляться, и лишь успевая занять величественную позу и испытать возвышенные чувства в момент своей гибели. Претерпевание было для грека важнее преодоления.
Шпенглер определял все формы древнегреческого мужества как переодетую трусость. И это нельзя считать справедливым суждением. Исторический материал не дает никаких оснований возносить древних египтян как отважных и гордых людей в сравнении с древними греками. Многострадальный Одиссей, несомненно, был чрезвычайно отважен перед пришедшимися на его долю испытаниями и невероятно горд в противостоянии воле Посейдона (хотя и при поддержке Афины, которая заручается одобрением Зевса). Ахилл же – и вовсе образец капризной гордыни. У Геракла перипетии сопряжены также с невероятной гордыней, в которой каждое испытание становится подвигом.
Если убрать из внимания весь греческий эпос (а с ним и всю мифологию) и рассматривать только одну архитектуру, то также можно прийти к мысли, что строгость форм и не значительное развитие стиля есть отражение какой-то глубинной стойкости аполлонической души. То же происходит с Египтом, о котором мы можем судить в основном только по архитектуре. И от этого может возникнуть заблуждение: архитектурные стили в целом меняются медленно – просто в силу длительности возведения построек. Правда, в одном случае оно удерживает в определенных рамках иные стили, а в других – просто теряет связь с ними.

Стиль выше замыслов художника – он вынужден оставаться в рамках стиля, чтобы не лишиться публики, без которой высокое искусство уже немыслимо. Даже если эта публика – тончайший рафинированный слой эстетов. При этом Большой стиль приходит и уходит, развиваясь как организм – от почти неосязаемого зарождения, через период развития, миг совершенства к постепенному спаду и угасанию. Стили меняются, сменяя один другой, оставаясь как перво-феномен самой жизни.
Готику и барокко Шпенглер предлагает считать соответственно юностью и старостью Большого стиля (аналогично дорийскому и ионийскому стилям античности) – общего стиля Запада, а не отдельными стилями. Тот же статус подразумевается у романтики и классики, у рококо и ампира. Это лишь фазы существования стиля. В таком случае «Большой стиль» – это просто название культуры. Или (в иной терминологии) – цивилизации, культурно-исторического типа. В данном случае – западно-христианской цивилизации.
Признаками конца стиля (и, соответственно, угасания культуры) Шпенглер считал эклектичное и мимолетное оживание архаических форм, торжество имитационных неподлинных форм над творческой артистичностью. И это «банкротство» культуры, которое Шпенглер видел в начале XX века, а мы с полной очевидностью переживаем через столетие – уже практически не последнюю фазу культуры, а антикультуру.
«Стиль в культуре – это биение пульса самоосуществления». Стиль цивилизации – это выражение окаменевшей окончательности. После чего наступает неизменность, а история превращается в кажимость. Гримасы цивилизации могут меняться, но ее лицо остается неизменным – бездушным.
Можно понять, отчего Шпенглер считал античность не основой европейской культуры, а чем-то отжившим и мешающим развитию собственных творчески потенций европейцев. Он в целом крайне негативно относился к эпохе Возрождения и пытался отстоять ценность Средневековья и соответствующей ему готики, в которой видел признаки национально-культурной самости европейских народов. Философ на самом деле противостоял не Возрождению, а Просвещению, которое по политическим мотивам объявило Средневековье – эпохой мракобесия. А еще раньше этот политический мотив сложился в борьбе новой аристократии и ростовщичества со старой родовой аристократией. В России это противостояние вспыхнуло в период правления Петра Великого, но в значительной мере обнаруживалось и в Расколе, и в опричнине. Политическое противостояние повлияло и на оценки культурных процессов и образцов. То, что для одних было исконным и священным, для других оказывалось посконным, архаичным, мракобесным. И, напротив, что для одних было прогрессивным и перспективным, для других представлялось распущенностью, безобразностью, посягательством на основы культуры (или, точнее, культа).
Шпенглер считал, что только античность была прервана в момент наивысшей зрелости, что позволило сохранить под поверхностью новой культуры «подстилающий слой» того, что казалось уничтоженным полностью. И порой проявляется на культурной периферии особым провинциальным колоритом. Но то же самое мы можем сказать и о гибели Российской Империи, которая представляет целую эпоху, прерванную в результате исторической случайности. При этом подспудно Империя существовала, несмотря на жесточайший террор и пропагандистский прессинг большевизма. Сам большевизм с названием «СССР» также был сметен в одночасье, но остался в качестве «залежей» того, что с презрением называют «совком» – постмодернистской тоске по Сталину, расстрелам и нищете на фоне иллюзорной «бесплатности» и никогда не существовавшего «равенства».
Три ключевых слова этого имитационного стиля – «Сталин», «расстрелять» и «бесплатно». Они будут существовать в состарившейся душе до последнего вздоха пострусского финала Русской цивилизации.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































