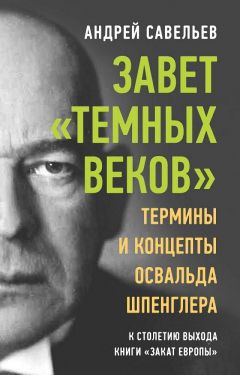
Автор книги: Андрей Савельев
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 45 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Начала музыки моноголосны. Мы, русские, впрочем, знаем многоголосное народное пение как неотъемлемую часть народной культуры. Этот стиль пения окончательно сложился только в XIX веке – в пике развития русской культуры.
Древнегреческая музыка была принципиально моноголосна – исполнялась на одном инструменте. Возможно, когда перед началом битвы исполнялись пеаны, одновременно звучало несколько флейт, но без разделения на отдельные партии. В то же время, мы вряд ли можем судить о том, какие мелодии исполнялись древними греками. Предположение Шпенглера состоит в том, что все искусства аполлонического типа должны укладываться в одну культурную парадигму. В данном случае – в парадигму телесности, пластичности. Но это лишь гипотеза. Несомненным является преимущество ритма перед мелодикой, что также свойственно ранним этапам развития культуры. Или, как мы видим по собственному опыту, деградации искусства.
Культурные границы, о которых упоминает Шпенглер, сегодня стерты. Тем не менее, китайцам вся европейская музыка сегодня, как и в его времена, кажется маршевой, а европейцы не могут уловить в китайской музыке печаль и веселье. Судя по музыке к китайским фильмам, китайцы любят слышать отдельную ноту с богатыми обертонами, а нам повторяющаяся музыкальная фраза, полностью лишенная ритма, кажется выражением глубочайшей печали. Примерно таково же переживание западноевропейцами русской музыки, которая, по заверению Шпенглера, кажется им бесконечно печальной. Для нас же в ней гораздо больший спектр эмоциональных состояний.
Современная музыка, как уже было сказано, отличается расслоением на элитарное музыкальное искусство и массовую имитацию музыки. Порой в современной эстраде музыки нет вообще. Ее заменяет шумовое сопровождение бессвязных монологичных речитативов, дополненное яркими световыми эффектами. Не говоря уже о том, что рэп – это поток бессмыслицы взамен стихов, плюс ритм без музыки аранжированный шумами. То, что теперь называется «шансон» – это продукт алкогольной деградации, слезливые песни для бандитов практически на одну и ту же мелодию. Насаждение подобной «музыки» является дополнением к социально-политической деградации. Интеллектуальное измельчание, культурное одичание и распад политических институтов – все это вместе говорит о закате цивилизации, преодолеть который уже невозможно.
Архетипы и душа
У души есть свой «язык», который отличен от знаково-символьного языка слов. Здесь значение имеют только образы, причем такие, которые сами являются первоосновой, и их можно понять (пусть, в процессе обсуждения и попыток что-то в них рационализовать), но нельзя до конца осмыслить. Архетипический образ представляет сам себя, а не какую-то словесную формулу, «природоведение и человековедение не имеют ничего общего в целях, путях и методах». Если не считать аналогий, которые зачастую бывают продуктивными. Слова в этой области могут указать только на образы-подобия. «Слово, как звук, поэтический элемент, может установить здесь связь; слово как понятие, как элемент научной прозы – никогда». Душа переживает и внемлет картинам, «возникающим из исконного опыта жизни и смерти». «Картина души мифична и служит предметом душевных культов…» Душа – «противомир» по отношению к природе. По этой причине «психология есть своего рода антифизика».
Шпенглер убеждает нас в том, что священные и сказочные образы и сюжеты для разных культур различны. Но персонажи в них имеют в некоторой степени сходство. В особенности, если мы вспомним, что Шпенглеру не довелось дать какое-то собственное имя русскому (восточно-христианскому), индуистскому, буддийскому типам культуры.
Чтобы продемонстрировать это сходство, используем теорию архетипов Юнга и найдем для них примеры в каждой из культур – как из числа персонажей божественной истории, так и из эпических фигур политической истории, в том числе тех, чьи образы еще не поблекли от времени.
Персона у Юнга – это нечто негативное, социальная маска, лицемерно разыгранная роль. В нашей интерпретации образ Персоны двузначен: он и маска, и социальное служение. В позитиве это образец гражданственности. Не святой, но делающий все верно – самоотверженно служащий своей стране. Таких лидеров в качестве образца можно найти очень немого, поскольку память о них довольно быстро остывает. При этом они становятся образцами для ближайших современников именно в своей социальной роли или маске, которую пытаются примерить политики низшего разряда.
Также нами добавлен архетип Великой матери – один из древнейших, но обычно не попадающий в список основных архетипов. В исламе следов Великой матери мы не обнаруживаем. Арабские и персидские предания не имеют подходящих персонажей.
Вдаваться в подробное объяснение таблицы мы не станем, чтобы оставить читателю возможность самому над нею поразмыслить и, возможно, придумать другие примеры, которые покажутся более подходящими. Например, какому архетипу соответствует Шива с его женско-мужской природой и способностями демиурга.

Еще одна мысль может быть почерпнута у Юнга, чтобы дополнить категории, которыми оперирует Шпенглер вслед за Кантом. Пара «пространство» и «время» замкнуты сложными взаимодействиями, а вот для «причинности» пару подобрал Юнг – «синхронистичность». Она сходна с причинностью тем, что одни события предшествуют по времени другим. Причинность связывает их логической операцией, синхронистичность остается вне логики, но также обеспечивает связь. И эта связь не смысловая, а интуитивная. Мы можем не видеть, не осознавать наличие казуальных связей, но мы чувствуем эти связи. Возможно, это какие-то неведомые еще нам типы причинности или новые логики, отличные от простейших, где есть только «истинно» и «ложно».
Если исходить из того, что все события связаны между собой, образуя некий «узор судьбы», то мы просто можем лицезреть этот узор, восхищаться им как творением Божиим, не пытаясь его разобрать на детали и постигнуть взаимосвязь между ними. Когда мы глядим на звездное небо, то не думаем о законах космогонии. Мы просто видим и ощущаем целостность Вселенной и свое участие в ней.
Уступая Юнгу, мы согласимся с тем, что речь идет о бессознательном понимании связи, а не выстраивании причинно-следственных цепочек. Иногда объект нашего внимания понятнее как целостный, и все становится неясным при попытках его аналитического расчленения.
Таблица примеров не означает тождества душевной конструкции, а лишь сходность объектов, которыми душа оперирует. Метод операций с архетипами может быть разный. Но все же не такой взаимно неузнаваемый, как предполагает Шпенглер, сравнивая фаустовскую и магическую (восточную) душу: «что истинно для нас, ложно для них, и наоборот».
Шпенглер касается русской души очень поверхностно – противопоставляя фаустовское «Я» русскому «Мы». Толстовский Неклюдов, который «ухаживает за своим нравственным Я как за своими ногтями», выглядит в его глазах псевдоморфозой – обезьянничаньем у фаустовской культуры, которая русскому чужда. Напротив, Достоевский представляет переживание вины Раскольникова как вины всех, а попытку сделать это переживание чем-то личным расценивает как высокомерие и тщеславие. И это – признак магической души. Философу не приходит в голову, что расщепленность между фаустовской, аполлонической и магической душой – это абстракция, которая как в раз на примере русской души показывает, что западный «фаустизм» – это всего лишь частный случай отклонения от стержневого пути европейской цивилизации, а в русской душе всевозможные отклонения присутствуют как творческий момент. Русская всемирность – это не «псевдоморфозы», а переживание в себе всех «контрапунктов», всех конфликтов и «расщеплений» мировой культуры.
Душа народа, как и личность, имеет свою архетипическую «тень» – то, чем она не хочет быть, но от чего не может окончательно избавиться. Когда Шпенглер приписывает фаустовскому (западноевропейскому) человеку способность вглядываться и устремляться в даль, то у этой способности есть оборотная сторона: слабое различение ближнего плана человеческих отношений и возвышение собственного «Я» до крайней степени эгоизма. Гордость и суверенность перерастают в гордыню и надменность. Отсюда и порождение псевдоморфоз всюду, где западноевропеец соприкасается с иными культурами, которые он считает не просто непонятными, а недостойными понимания.
Русская «безвольность», которую отмечает Шпенглер, – это только теневая сторона русской воли. Просторная русская степь дает примитивной личности ощущение заброшенности и потерянности, а волевой личности – ощущение бескрайней свободы.
Русская простота на фоне высокой культуры невероятно обаятельна. И «простота хуже воровства», когда она остается на фольклорном уровне. Точно такую же примитивность можно найти в фольклоре любой европейской нации – в плясках и песнях, в конструкции сельского дома и прикладном искусстве. Простота становится высшим проявление духа – в простодушных высказываниях Иисуса, в подвижничестве «нищих духом» первохристиан. Первичность может только показаться примитивностью.
Детская простота аполлонической культуры принимается Шпенглером именно за примитивность: коль скоро на росписи вазы отсутствует перспектива, это – будто бы – вместе с другими доводами должно подтверждать неспособность видеть дальше своего носа и упертость взгляда в телесную фигурность ближнего плана. Но здесь лишь свойство юности культуры, ее изначальное состояние.
Аполлоническая душа – это юность европейских наций. И потому культурные слои европейских наций с некоторых пор испытывали к античности жгучий интерес. Можно даже сказать, что мера культурности стала определяться степенью интереса к корням культуры, находящимся именно в античности. Эллинизм потому и захватил примыкающий к Европе Восток, что также был понятен и восхитителен для мистической души, которая еще не сформировалась как нечто обособленное.
Из античного наследия вышли западноевропейские нации и Русь – два сомасштабных явления, различных только разрывом в становлении высокой светской культуры. Задержка Руси в рамках религиозной культуры обусловлена ортодоксальностью русской веры в Христа, а также внешним фактором – игом Орды, удержавшим развитие русской государственности (а с ней и культуры) на два века. Аналогичные «темные века» претерпела Испания под властью мавров и иудеев. Еще более тяжкие «темные века» турецкой оккупации Греции истребили в ней практически все родники античной культуры. Во всех этих случаях простодушие является следствием юности нового культурного подъема, который теперь – на фоне всеобщей деградации Европейского человечества – уже не может сформироваться в какое-либо заметное явление. Взамен локальных «темных веков» приходят всеобщие «темные века».
Мистическая компонента в русской душе возникла не под влиянием Востока – для этого не было никаких исторических условий. Она была там изначально – вместе с прасимволом пещеры, который был и в аполлонической душе – поклонения богам были не только на возвышенностях, но и в подземельях. Пещеры были храмами Зевса, Пана, Диониса, Плутона. Идейская пещера на Крите была почитаема как место рождения Зевса. Образ мира как пещеры с очагом и тенями на освещенной стене – один из самых впечатляющих в философии Платона. У русских аналогом пещеры стала сначала чащоба леса, потом – скит или келья отшельника. В них обитала внутренняя, духовная свобода от всего земного, полная независимость от властей – своего рода альтернатива вольному простору степи, привлекательному для воина, но не для монаха.
Интеграцию истории от античности до современности и интеграцию пространства всех типов культур Шпенглер собственноручно очерчивает, не выпячивая никакого Я – ни эгоистического, ни совершенного, ни бессмертного: «Воля и мышление в картине души – это направленность и протяженность, история и природа, судьба и казуальность в картине внешнего мира. В этих основных чертах обоих аспектов явно обнаруживается, что нашим прасимволом является бесконечная протяженность. Воля связывает будущее с настоящим, мышление – безграничное с наличествующим. Историческое будущее есть становящаяся даль; бесконечный горизонт мира – даль ставшая; таков смысл фаустовского переживания глубины. Чувство направление представляется нам „волей“, чувство пространства – „рассудком“, причем, наподобие каких-то мифических существ, почти на мифический лад; так возникает картина, с необходимостью абстрагируемая нашими психологами из внутренней жизни».
Никакой особенности западноевропейца в переживании глубины не существует. Затруднительно даже говорить о том, что Запад имеет в этом душевном ориентире какое-то преимущество. Если у древних греков не находится аналогов слова «воля», это вовсе не значит, что их взгляд в пространство не видел дали и не содержал притязаний на ее присвоение. Греческая колонизация указывает на то, что это неправда. Как и русская колонизация. Как и походы арабов. Все эти поиски исключительности – скорее свидетельство европейской узости, которая даже в философских штудиях пытается сравнивать всех древнегреческих мыслителей с одним только Кантом, вся оригинальность которого состоит в том, чтобы поставить мудрствования на место Бога.
Орнамент и подражание
Искусство есть язык экспрессии, а экспрессия бывает, согласно Шпенглеру, орнаментом или имитацией. Их трудно различать, но это необходимо, поскольку «подражание одушевляет и оживотворяет, орнамент чарует и убивает. То „становится“, этот „есть“. Оттого первое родственно любви, прежде всего – песне, опьянению, пляске – половой любви, в которой существование повернуто лицом к будущему, а второй – заботе о минувшем, воспоминанию, погребению. Прекрасное ищут с вожделенной тоской, значительное внушает страх».
Смерть делает значительным или обращает в прах. От прошлого остается немногое, что человек может запомнить и удовлетворить свою потребность в безопасном восхищении. В этом причина популярности тиранов – Аттилы, Тамерлана, Ленина, Гитлера, Сталина. При жизни славными оказываются самые подлые и самые жестокие – живые мертвецы.
Орнамент всегда символизирует смерть. Он применяется как оберег от всего, несущего погибель. Но он же опоясывает гробницы, стережет покой мертвых от вмешательства живых. Греки украшали погребальные урны символом свастики, римляне опоясывали саркофаги свастичными орнаментами. Последующие величественные здания и тронные залы европейские монархи интуитивно украшали символами – величия и смерти.
На начальных стадиях развития искусства имитация (подражание, ориентальный период) и орнаментализм почти неразличимы. Тогда же искусство – самовыражение, в нем нет различия между автором и потребителем. Личность или коллективность выражают сами себя для себя. И лишь на высших стадиях развития искусство предполагает свидетеля. И наивысший из свидетелей, как повторяет вслед за Ницше Шпенглер, – Бог.
Подражание – это созревшее понимание «Ты», орнаментализм – осознанное «Я». В «Ты» уже есть элемент «Я», но также и «Иное», а самодостаточное «Я» замкнуто на себе. В подражании есть переживание чужой души и творческое объединении с ней. Нет, слово «имитация» здесь не подходит. Подражание, но не копирование, а обучение, стремление к пониманию. Это физиогномика «иного», которая в орнаментализме замещается символом, а потом его бесконечным повторением (копированием). Символ пересиливает «Ты» и замыкает субъекта в себе, завершая его становления, а значит, и его жизнь. Орнамент отказывается от творчества. Он есть собственная копия. А подражание – это всегда измерение относительно образца.
Знак или его орнаментальная лента, как правило, угрожает смертью – отпугивает нечисть или человека. И это важнейшая социальная функция – напоминания о том, что может быть с тем, кто пойдет против символа. Но в подражании есть более важная функция, которую Шпенглер называет «расовым чувством ненависти и любви».
Невежду обязательно пронзит током слово «раса», потому что ему в мозг внедрен символ: раса-расизм-Гитлер-Освенцим. Это средство убить в человеке мысль. Ему не понять, что автоматизм срабатывания этой цепочки – орнаментальный. В нем – испуг смерти, зашифрованный в пропагандистскую формулу. И более ничего. Но в этой формуле как раз и заключается смерть – смерть рассудка. Рассудок заменен мертвой схемой, которая не знает времен и смыслов. Она игнорирует время Шпенглера и свойственные ему термины и концепты, которые были и должны оставаться средством мышления с историей в несколько веков. Но орнаментированный пропагандой мозг современного обывателя превращает все в пыль. Пылевая завеса отделяет человека от смыслов, и когда он читает, что «имитация является безусловно чем-то более исконным, более расово близким», то с ужасом отводит глаза.
Нет ничего более орнаментального, чем штамп. Штамп во всем, включая канцелярскую печать. «Заштампованные мозги» – те, что перестали мыслить, удивляться и открывать для себя новое. Ритуализация – это вымывание из ритуала жизни. Взгляд скользит по узору, не вызывая чувств. Люди стоят на литургии, не чувствуя обращенного к их душе слова – лишь исполняют процедуру. Клятва верности, слово чести становятся просто словами: обязывают – делаю, но в душу все это не проникает. И тогда ритуал кажется вовсе не нужным. Говорят: надо обходиться без ритуала. Но тогда омертвелым становится весь символизм: в нем исчезает смысл, о котором ритуал должен напоминать. Но если нет креста, то нет и Христа!
Шпенглер: «То, что находят прекрасным, „достойно подражания“. Тихо резонируя, оно соблазняет к копированию, подпеванию, повторению; оно „учащает биение сердца“ и вселяет в тело дрожь. Оно пьянит до избытка ликования, но поскольку оно принадлежит ко времени, то ему „отведено свое время“. Символ длится, прекрасное же исчезает с биением пульса того, кто, следуя космическому ритму, ощущает его таковым, будь то отдельный человек, сословие, народ или раса».
Эта печальная закономерность, но только в ней возможен творческий импульс, связанный с любовью к жизни. И если обломки античности превратились для нас в нечто прекрасное, несмотря на их мертвый символизм, значит, что-то живое преодолело смерть и продолжает жить в наших душах. Поэтому и в орнаменте, если он включен в живое подражание, есть что-то живое. А мертвое может убить и подражание, когда оно копирует с неживого. Точнее, с умершего – безобразное. Как безобразна Медуза Горгона, превратившаяся из прекрасной правительницы в мертвый и ужасный оберег, который эллины размещали на своих нагрудниках, «…подражание одушевляет и оживляет, орнамент чарует и убивает. То „становится“, этот „есть“. Оттого первое родственно любви, а второй – заботе о минувшем, воспоминанию, погребению».
Шпенглер связывает наступление цивилизации (то есть, утрату подлинной живо культуры) с падением как имитации, так и орнаментализма, которые сводятся соответственно к романтизму и классицизму. Романтизм – это мечтания о какой-то более ранней имитации, классицизм – попытка сохранить систему в архаичных правилах. И все же это еще не окончательный упадок, когда наступает бесформенность, когда орнаментализм сводится к штампу, а имитация – к копированию нежизненных форм. Неискусство и нетворчество кажутся новаторством. Но за всплеском всей этой в подлинном смысле слова «бесовщины» (например, новомодных танцев или «авангардизма» 1920-х и 1980-х) следует просто равнодушие – усыхание уже и этих попыток гальванизации культуры, которые не оживить даже щедрым спонсорством со стороны правящей олигархии.
С 2000-х мы видим уже состоявшуюся гибель не только культуры, но и цивилизации, начавшей умерщвлять инженерно-технические области знания и целые отрасли производства.
Оседлые и кочевники
«Изначальный человек – бродячее животное». Но культура предполагает развитие ремесел, и потому у кочевых племен не существует собственных искусств, а с ними – даже оберегов, которые приходится заказывать у тех, кто овладел мастерством оседлых народов.
Кочевой характер скифов сильно преувеличен. Но в своей изначальной истории, когда они выступали «бичом Божиим» в отношении цветущих цивилизаций Востока, скифам приходилось заимствовать все подряд – включая «звериный стиль», который пришел от соседей (возможно, от фракийцев). В Северном Причерноморье греки снабжали кочевых скифов предметами роскоши, а на границе леса и степи существовали центры производства оружия и утвари – этим занимались ближайшие родственники кочевых (царских) скифов – формирующиеся в народы и переходящие к оседлому образу жизни.
Город и городская община становились центрами развития и применения новых технических средств обработки материалов и продуктов сельского хозяйства. И поэтому лидерство города в отношении окружающих сельских пространств было бесспорным. Здесь же вместе с накоплением богатств развивались искусства, которые не имеют других причин возникновения, кроме сочетания богатства и аристократизма, которое создает условия для того, чтобы художник или музыкант мог кормиться и заниматься своим творчеством.
Огражденный крепостными стенами город воспитывает население в духе безопасности: за прочными стенами и с новшествами оружейной техники бюргерам кажется, что им нечего боятся. И когда из безбрежных степей приходят огромные орды, стократно превосходящие вооруженных горожан численностью, то они и с примитивными вооружениями легко разоряют сельские провинции и захватывают города, принуждая их отдавать все, что ими было изобретено и накоплено.
Минойская роскошь была щедрой периферией Египта, удалившаяся от священной власти фараонов и жрецов. Но она пала под давлением более мрачной и обустроившейся крепостями Микенской цивилизации, которой отдавала свои изобретения и приемы творчества. Дорийское нашествие стерло с лица земли тех и других: города сопротивлялись каждый по отдельности и враждовали меж собой. Древние греки чудом спаслись от персидского нашествия – только потому, что Ксерксу пришлось спешно возвращаться домой и подавлять восстания и мятежи в тылу его империи. Роскошный Коринф, как и заносчивый Карфаген, в один год были стерты с лица земли римлянами. Та же история произошла и с Древней Русью, подчиненной Ордой из-за слабости, созданной междоусобицами князей, опирающимися каждый на свою городскую общину.
Шаг от культуры к цивилизации отмечен образованием городов-исполинов, которые перерастают в мегаполисы, отличающиеся тем, что они становятся из авторов технического прогресса и лидеров индустрии в потребителей достижений цивилизации, местом праздности, развлечений, роскоши и разложения нравов. Сначала все это предназначено для «знати», а потом (когда знать отстраивает свои дворцы в предместьях) – для хлынувших сюда потребителей суррогатов «передовой» жизни. Так мега-города населяются кочевниками и приобретают образ жизни кочевников: соседи, живущие бок о бок десятилетиями, не знают друг друга, локальные общины не складываются, общих ценностей не возникает. В одном месте собирается все, что есть в мире – мировой город, размножившийся и одноликий всюду, где он укореняется.
«Всемирная история – это история городского человека». У кочевых народов своей собственной истории нет. Пока они не сталкиваются с экспедиционными корпусами сформированных оседлыми народами государств, они не участвуют во всемирной истории, хотя могут иметь свою собственную локальную историю. Сельские оседлые народы живут жизнью растений – они слишком укоренены на земле и слишком вписаны в природу, чтобы иметь отделенную от природы судьбу. И только город дает сочетание динамизма (хотя бы движения из села в город и наоборот, а также из города в город), чтобы группа объединенных им людей становилась субъектом, который готов к участию в мировой истории. Но в условиях мегаполиса, когда несколько городов сливаются воедино, динамика истории вновь локализуется, охватывая при этом огромные массы населения. Мегаполис становится одной большой деревней или конгломератом деревень. Всемирная история распадается и цивилизация идет к закату и завершению локализованной в пространстве истории.
Шпенглер считает город прафеноменом человеческой истории, и его с проявлением образуется коллективная душа – столь же непостижимым образом, как и душа человека. Уничтожение городов – самый последовательный геноцид, которые ввергает в небытие не только жителей города, но и всей округи, ориентированной на него. Уничтожение дорийцами ахейских городов на Крите, на других островах и на континенте, охваченном микенской цивилизацией, было средством перезапустить историю со своим культурным компонентом и своими аристократическими династиями. Уничтожение Коринфа римлянами и заселение его вольноотпущенниками навсегда разорвало историю города на «до» и «после». Разрушение Иерусалима также делит историю народов Восточного Средиземноморья на древнюю и последующую – новая история становится историей других народов и культур. Древних евреев это событие не сохранило. Другие общности – различные по языку, культуре и антропологиии присвоили себе имя, принадлежащее конгломерату разнородных и разнокультурных племен и объявили иврит – суржик восточных народов – своим собственным родовым языком.
Город физически недвижен, но его население продолжает бодрствование, заменяя телесное движение движением души. Науки, искусства, политика, религия – феномены динамичной души порывающей со ставшей материей. «Крупные партии во всех странах всех поздних культур, революции, цезаризм, демократия, парламент – все это формы, в которых столичный дух сообщает стране, что ей желать и за что ей при определенных обстоятельствах придется умирать». Господство города – как господство аристократии. Качество этого господства определяет, будет жить или погибнет страна. Современные столицы-мегаполисы сообщают стране, что она либо уже умерла, либо должна умереть очень скоро.
Мегаполис страдает душевным расстройством – в нем множество личностей сталкиваются в попытках подчинить себе душу города, отчего она теряет внятные очертания – как и городская архитектура, где эклектика сменяется хаосом, примитивом и подделкой стиля. В течение XX века архитектура практически всех русских городов уничтожена до основания. Остались достопримечательности – отдельные памятники-остовы прежнего архитектурного стиля. То же происходит и в европейских столицах: в центре – мемориальный островок, вокруг – сжимающий этот островок океан хаоса.
Шпенглер предсказывал «много позже» 2000 года «городские массивы по десять-двадцать миллионов человек, занимающие обширные ландшафты, со строениями, рядом с которыми величайшие из современных покажутся карликами, где будут осуществлены такие идеи в сфере средств сообщения, которые мы сегодня иначе как безумными не назвали бы». В то же время, подобные конгломераты вовсе не стали уплотняться и сжиматься к престижному центру города. Напротив, престиж переместился в предместья, где олигархия стала строить дворцы и частные парки. В Москве Красная площадь по большим праздникам стала наполняться инородцами-гастарбайтерами, а центр Вашингтона заселили преимущественно негры.
Мегаполисы – это «место одичания», где зарождается новая первобытность. Но не как начало, а как конец человеческой породы – израсходованный и иссякший природный материал, который востребует только личную сытость, комфорт и безопасность. Но не получает ничего, кроме подделок.
Настоящий город более приспособлен быть родиной, чем деревня. Пока его жизненные силы не высосаны мегаполисами. И тогда за пределами мегаполиса родиной становится именно деревня. В ней ощущаются корни и спасаются от истирания детские воспоминания. Это – родина. А безумный человейник – это не просто не родина, а ее антипод. Даже при наличии следов истории и государственного величия. Его почва искусственна, в ней такт космической жизни исчерпан, а население превратилось в бессмысленных троглодитов с дипломами о высшем образовании.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































