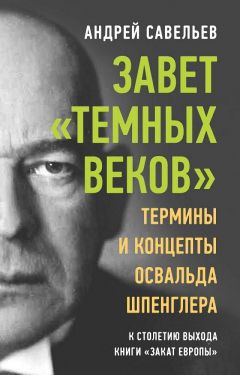
Автор книги: Андрей Савельев
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 45 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Дух и форма
Шпенглер противопоставляет несравнимое: «готический» живописный портрет и древнегреческую ростовую скульптуру, вполне справедливо указывая на «отсутствие духа» у греческих голов, предназначенных для таких статуй. Философ выводит из этого стилистического различия противоположность культурных стандартов, вновь и вновь подтверждая «южный» характер древнегреческого искусства и усматривая в нем исключительно «телесность».
Если все же вернуться к сравнимому, то мы можем с печалью констатировать, что древнегреческая живопись до нас не дошла, утрачена целиком и полностью. За одним лишь исключением, которое показывает нам не только высочайший уровень изобразительного мастерства, но и приемы портретной техники, в которой, несомненно, передается характер изображаемого. Речь идет о фаюмских портретах – многочисленных находках погребальных портретов греко-римского периода (I–III вв.), заменивших традиционную для Египта маску (сегодня известно около 900 таких портретов). Это, несомненно, именно греческое искусство – произведения греческих колонистов, заселивших Египет после завоевания Александра Македонского. Шпенглеру эти находки в Фаюмском оазисе, а позднее и в других местах Египта, должны были быть известны, и он должен был отметить лишь по-южному яркое выражение душевности, сравнивая с более холодными «готическими» или «фаустовскими» портретами.
Краткие описания масштабных полотен Полигнота сохранилось у Павсания (II в.), и все, что мы можем вывести из этих описаний – контурность передачи человеческих фигур и отсутствие перспективы. Условные реконструкции предполагают, что каждая из фигур на картине изображалась отдельно. Можно говорить о своеобразном стиле типа «панно», в котором есть множество равнозначных фигур, что и предполагает отсутствие перспективы и общего дальнего плана живописи.
Шпенглер неоднократно упрекает «аполлоническое искусство» в отсутствии игры светотенью, что имело место в «северном» искусстве. Между тем, среди древнегреческих живописцев был известен афинянин Аполлодор (5 в. до н. э.), который имел прозвище «Скиограф» («Тенеписец») и, как считается, первым ввел в обиход полутона и светотень (свидетельство Плиния Старшего). Можно сказать, что игра светом предполагалась и в древнегреческой архитектуре. Ее самая распространенная деталь – колонны с канелюрами, которые были предусмотрены именно с целью подчеркнуть объем с помощью светотени. Древнегреческие храмы строились с учетом высоты солнца в течение года и специфического освещения в определенные праздничные дни.
Не имея ни одной древнегреческой картины, по свидетельствам письменных источников мы точно знаем, что портретная живопись у греков существовала, и фаюмские портреты – финальная фаза этого искусства. В живописи также воплощались обобщенные образы исторических персонажей (например, Елены Прекрасной на картине Зевксиса). Тем не менее, нас удивляет односторонность скульптурного портрета – до нашего времени дошли в основном бюсты древнегреческих мудрецов, и лишь единичные портреты правителей и стратегов (Архидам III, Мильтиад, Перикл).
Эту загадку мы пока не можем разрешить. Но невозможно считать греческие бюсты исторических персонажей менее одухотворенными, чем живописные портреты более поздних времен. Материал диктует определенную «холодность» мраморных творений в сравнении с живописными, но у каждой изобразительной техники есть свои преимущества.
Мы не можем разрешить и вопрос о том, почему в западном христианстве (а от отчасти и в восточном) Богородица вытесняет Христа даже в храмовом пространстве. Несомненно, образ женщины с ребенком отражает время и судьбу, которые находятся в будущем, и о нем проявляется забота. «Забота есть прачувство будущего, а всякая забота несет в себе знак материнства. Она оповещает о себе в образованиях и идеях семьи и государства и в принципе наследственности, лежащих в их основе».
Относительная малочисленность изображений детей у древних греков объясняется Шпенглером как следствие отсутствия заботы о будущих поколениях. Возможно, в системе ценностей детство не было у древних греков на первом месте, но и в вазописи, и в скульптуре «детская тема» присутствует в достаточном количестве – не только бытовых изображений, но также связанных с младенцем Офельтом, вошедшим в мифологически пантеон. Воспитание и образование детей было в Древней Греции на высоком уровне. Особое почтение проявлялась к беременным и молодым матерям, умершие при родах почитались наравне с погибшими в сражениях. Целая серия детских фигур демонстрируется в музее Браврона – здесь девочки служили жрицами, и поэтому изображений сохранилось довольно много.
По этой причине следует считать ложным утверждение Шпенглера, что «…никогда еще не было другого такого искусства, которое столь же решительно, как греческое, уклонялось от углубленного изображения детей». Что греки в меньшей степени изображали детей, чем взрослых мужчин и женщин, вполне соотносится с их стремлением изображать идеал, а не то, что может в будущем стать идеалом.
В Древней Греции было не принято изображать кормящую мать, которая в эпоху Возрождения воплотилась во множество «мадонн», которым оказывалось почти религиозное почитание. Точно так же и в русской культуре публичное кормление младенца не считалось приличным. При этом дети и младенцы там и там изображались достаточно часто, и никаких ограничений здесь не было. Исключительность западно-христианского изобразительного канона в данном случае нельзя считать каким-то первофеноменом, чтобы делать глубокие выводы.
Нет сомнений в том, что греческая культура предпочитала божественные образы воительниц (Афина, Артемида), но не кормящей матери. Это связано с реальной историей, замаскированной мифами: государство амазонок сыграло существенную роль в формировании аттической общинности. Разделение мужского и женского в самой ранней мифологической истории – это распределение обязанностей: царских и жреческих. Афина – первая жрица, и потому она – верховная богиня, почитавшаяся в Афинах, названных в честь нее. При этом греческая мифология содержит факты не только пренебрежения к материнству (Медея, вообще-то не гречанка), но и жертвенной защиты ребенка матерью (Ино).
Архаичная греческая скульптура, предусмотренная для рассмотрения лишь спереди, как и «четырехфасадная», это вовсе не статика. Смещение угла зрения создает при рассмотрении фигуры иллюзию подвижности. Собственно, ростовые изображения предназначены именно для этого – и в меньшей мере для передачи черт лица. При этом архаичные куросы имеют явные портретные различия, поскольку служили надгробиями конкретных лиц, а не обобщенными образами, которые появились в более поздние времена и повторяли канонические пропорции. Скульптура Ники Олимпийской (Пеоний), едва касающейся земли, – один из самых ярких образцов передачи движения. Правда, Шпенглер видит здесь только момент покоя, когда взмах крыльев уже завершен.
Уверенность Шпенглера, как и современных исследователей, в том, что греки раскрашивали свои мраморные скульптуры, основаны лишь на открытии сохранившихся крупиц краски на отдельных изображениях. Шпенглер критикует эпоху Возрождения за приверженность к белому мрамору, который, будто бы, не возводил ренессансную эстетику к древности. Мы же смеем утверждать, что эстетические нормы не изменились. Раскрашивание потемневших от времени скульптур, видимо, было модным в очень короткий промежуток времени – как раз в период упадка вкуса. Возможно, эту моду застал Павсаний, упоминавший о раскрашивании скульптур их авторами (II в.). Если бы классические скульптуры были изначально раскрашенными, не было никакого смысла заниматься полировкой мрамора. На упадок вкуса указывает совершенно произвольная колеровка, далекая от попыток передачи скульптурной формы, скорее, уплощающая ее. Красные глаза и зеленая борода явно не вязались со стремлением скульпторов анатомически правильно и даже идеализированно изобразить тело человека.
Совершенно несправедливы оценки мировоззрения греков как неисторичного. На что, якобы, указывает отсутствие любви к древности, которое дошло в Европе до сооружений искусственных руин. Греки ценили древности не меньше образованных европейцев. Множество древних ксоанов хранились в древнегреческих храмах и почитались именно за древность, несмотря на примитивность изображений. Излюбленные персонажи для греков – герои Троянской войны, которые, несомненно, воспринимались не как сказочные. Древнегреческие хроники – это тщательное сохранение истории. Почему Шпенглеру пришло в голову противопоставлять историзм «фаустовских» европейцев греческой приверженности мгновению настоящего, одному Богу известно.
Возможно, неприязнь Шпенглера к античности происходит из его критического восприятия искусства Возрождения. В нем, действительно, доходящая почти до гротеска телесность выступает чрезвычайно ярко. Если «готический человек» был устремлен к духовным ценностям и передал это качество «фаустовскому человеку», то ренессансный типаж имел установку в отношении тела – «здесь нечего стыдиться». И оправдывал свое бесстыдство ссылкой на античность, в наибольшей степени совпадая с дионисийством, отрицавшим строгость дорийского стиля.
Как бы то ни было, даже те, кто выходил за пределы стиля Возрождения, оказывались в плену его установок. Великий Микеланджело расписал Сикстинскую капеллу «телесами», в которых следовало узнавать участников библейских преданий. Шпенглер пытается оправдать его: «У Микеланджело, который со всей присущей ему страстностью отдался анатомии, телесный облик тем не менее оказывается всегда выражением работы всех костей, сухожилий, внутренних органов, подкожная жизнь неожиданно приобретает очертания. Он вызвал к жизни физиогномику, а не систематику мускулатуры». «Все средства фрески, широкие контуры, мощные поверхности, напирающая близость обнаженных фигур, вещественность красок – все мобилизовано здесь в последний раз до крайности, чтобы освободить в самом себе все язычество – в высшем ренессансном смысле слова. Но этому противилась его вторая душа, готически-христианская душа Данте и музыки далеких пространств, которая достаточно ясно глаголет из метафизической композиции плана».
Фантастическим «недоразумением» выглядит последний мощнейший пароксизм язычества в цитадели католичества, в ее главном зале. Как и обширнейшее собрание языческих скульптурных оригиналов в Ватиканских музеях. Готический ли человек собирал все это воедино?
А как быть с Рафаэлем, который не написал ни одного значимого портрета? Но зато сотворил великолепнейшие композиции на библейские темы. А также фантастическую «Афинскую Академию», где нет ни одного христианского персонажа. Сикстинская мадонна – это своего рода альтернатива Сикстинской капеллы. Как в нарушении канона изображения младенца-Христа, так и в шестипалой руке Сикста II. Здесь вопрос не в форме и скрытой душе стиля, а в загадке не всем заметного символизма.
Рафаэль в Сикстинской мадонне «резюмирует весь Ренессанс», но его «конвенция» здесь нарушается скрыто (то есть, не всем очевидна, а для толпы этот шедевр и вовсе кажется неинтересным). Шпенглеру чудится в легких утренних облачках фона – головки еще не рожденных детей, которых Мадонна «манит в жизнь». А линия рисунка, которая представляется ему формальным продолжением античной традиции, «представляет собой ничто, размывающееся в пространстве, сверхземное, бетховенское». Следует ли это считать завершением стиля или его кульминацией, высшим образцом для всех последующих культурных эпох? Судя по «Богородице с младенцем» работы Виктора Васнецова во Владимирском соборе Московского Кремля (1889), речь идет именно об образце.
Еще одна альтернатива одновременно и готике, и эллинству – Рубенс. У него даже атлетизм отступает перед бесстыдством плоти. У древних была своя порнография, но она не претендовала на доминирующий и публичный статус. Рубенса в испанском периоде его творчеств, возможно, следует считать первым статусным порнографом. Правда, для него это был своего рода творческий эксперимент. Или просто способ заработать, чтобы иметь возможность творить в других жанрах. Тем не менее, порнография плотно вошла в европейское искусство и транзитом перекочевала в современную эпоху, где не только постыдное, но и безобразное стали выдавать за искусство.
В защиту Рубенса Шпенглер пишет: «Кто подумает здесь назвать Рубенса и поставить его необузданную динамику распирающих телес в какую-либо связь с искусством Праксителя или даже Скопаса, тот просто его не понимает. Именно эта пышная чувственность и удерживает его от статики тел…» «Если кто-нибудь из художников вложил в красоту нагих тел максимум становления, максимум истории, этой цветущей плотскости, максимум совершенно неэллинского излучения внутренней бесконечности, то это был Рубенс». «Рубенс ищет жизнь в теле, а не тело само по себе…» Да, в общем, изваяния Праксителя и Скопаса – верх целомудренности, в сравнении с картинами Рубенса – этими «плотскими натюрмортами». С точки зрения эллина, стиль Рубенса был бы совершенно неприличным, бесстыдным, пошлым. Собственно, как и с точки зрения русского человека, каким он сформировался в своей истории.
Сам же Шпенглер приводит в пример антипода Рубенса – Рембрандта, который никогда не выпячивал обнаженную натуру как передний план. Да и Леонардо, который не написал ни одной значимой работы с обнаженной натурой. Мы имеем дело с почти что антагонистичной стилистикой в рамках одной эпохи. Что должно свидетельствовать скорее о социально-психологических различиях, а не о приверженности «аполлоническому» стилю или его антиподу – «фаустовскому» стилю.
Ренессанс вообще не укладывается в схему. В нем Шпенглер видел аполлоническую форму, но также и неустранимый дух готики. При этом он полагал, что Ренессанс лишен духовного развития. А готика подчиняет себе «чуждый элемент южно-нагого тела». «Микеланджело хотел быть художником Ренессанса, но это ему не удалось».
Такое количество оговорок ставит под сомнение всю шпенглеровскую дихотомию в истории искусств, которой он посвятил десятки страниц и множество повторов одной и той же мысли.
Опровергая доводы Шпенглера, мы можем сказать, что портрет без знания судьбы изображенного персонажа – холоден и пуст. Так же, как кажутся Шпенглеру холодными и пустыми древнегреческие изображения, которым он отказывает даже в достоверности имен, которыми подписаны бюсты (статую Демосфена философ признает аутентичной лишь по особенностям строения тела, но отказывается верить, что к нему «прикручена» голова с портретным сходством, а не произвольная голова «серьезного оратора»).

В России, о которой Шпенглер почти ничего не знал, вся «готика» и весь «Ренессанс» уложились в XIX век. Попытка прорыва Возрождения на Русь была пресечена, прежде всего, патриархом Никоном, который решительно выступил против светских канонов Европы в русской церковной живописи. И поэтому Русь сохранила древний стиль своих храмов, что подкрепляло добрую архаику ортодоксальной веры, огражденной от обновленчества вплоть до начала XX века. Обновленчеству было неуютно в русских православных храмах, и оно просачивалось в жизнь Церкви через расслабление апостольских канонов и увлечение священства хозяйственными практиками. И в наши времена священство в значительной степени – это прорабы и бизнесмены от благотворительности, которые формально не выходят за пределы православной литургии, но душой уже далеко от Христа.
Политические обусловленное раздражение заводит Шпенглера в дебри необоснованных фантазий. Пытаясь отмежеваться от античности, он крайне негативно относится к Византии, полагая, что ее «античный струп» мешал развитию «юного Востока» и распространению арабского стиля. Несомненно, арабская ученость в Испании была на голову выше уровня местных умников. Но арабский «стиль» – это тотальное уничтожение всего, что связано с античностью – включая Александрийскую библиотеку.
Странно читать у Шпенглера, что великим строителям римлянам для возведения Пантеона понадобились сирийские строители, которые в те времена вообще ничего не умели. Странно, что Шпенглер отнимает у Византии первенство создания купола, который, конечно, был известен и в Риме, и в Сирии, но по-настоящему стал архитектурным шедевром в Константинополе. И затем копировался: Храм Святой Софии был скопирован в выстроенной напротив Голубой Мечети. И в этом – очевидное признание первенства Византии перед Востоком.
Довизантийский купол предполагал опору только на четыре точки подпирающей его прямоугольной постройки. Византийские архитекторы впервые начали скруглять верхнюю часть здания, чтобы купол приобретал круговую опору. По углам появились так называемые «паруса». В плане сооружения были дополнены полукруглыми нишами, которые под куполом скруглялись, и купол опирался на полусферические арки.
Сравнив масштабы сооружений и искусство их возведения византийскими мастерами и арабскими мастерами, можно убедиться в том, что первые были учителями, а вовсе не учениками вторых. Точно так же и готический человек с полным основанием преклонялся перед античным искусством, а вовсе не был им скован.

Критикуя религиозные мотивы искусствоведения, Шпенглер сам впал в религиозную предвзятость, пытаясь возвысить западно-христианское культурное своеобразие, идущее от готики, над восточно-христианским своеобразием, идущим от Византии.
Византийский стиль и арабский стиль сосуществуют и разнятся достаточно, чтобы их не смешивать. При этом Византия получила своего наследника в лице Руси, а арабы такого наследника не имели, и соответствующий Большой стиль оставил лишь разнородные следы в Исламском мире.
Из сказанного (и еще больше из несказанного – в силу пространности темы, которая увела бы нас в сторону) следует, что стили, рассмотренные Шпенглером, сосуществуют, и связаны вовсе не с тем, что они возникают и исчезают как все органические явления, а с доминированием в разные периоды времени разных сторон человеческой натуры. И упадок культуры – это доминирование определенных человеческих типажей, а не реализация внутренней логики культуры. Деградированное искусство соответствует политической власти деградантов, которая образуется из логики исторического процесса, не позволяя ни одному государству длительное время находиться в состоянии расцвета. И в то же время упадок не является чем-то неизбежным. У всякого государства и всякого народа есть возможность преодолеть исторические случайности и возродить свою культуру периода расцвета.
Логос культуры
Современные ему политические процессы Шпенглер рассматривал в широкой перспективе как жизнь «высоких культур» и их трансформацию в цивилизации с последующим увяданием. Культура как организм проходит фазы детства, юности, возмужалости и старости. Никакого «прогресса» как поступательного и бесконечного развития в культуре нет и быть не может. Конец культуры связан с реализацией всех потенций «великой души»: «Культура умирает, когда эта душа осуществила уже полную сумму своих возможностей в виде народов, языков, вероучений, искусств, государства, наук…».
Создав морфологическую схему, Шпенглер наполнил ее историческими примерами, доказавшими, что мы имеем дело не с умозрением, а с действительно присутствующей «линией судьбы». Из нее следует возможность прогноза через выяснение физиогномики текущей эпохи. А это – важнейший научный результат.
В Европейской истории Шпенглер выделил четыре стадии упадка.
Первый этап – Реформация, образование протестантизма, дезинтеграция Европы. Религиозный индивидуализм разрушает интегральную Европу, спаянную католицизмом. Возникают обособленные нации, а протестантизм порождает политический либерализм. Мы можем сказать, что на данном этапе разрушается Империя и единство религиозной жизни, а политические нации складываются на основе локального либерализма обособившихся народов. Соответствующий этому этапу стиль в искусстве – барокко.
Второй этап – эпоха Просвещения. Просветительский проект еще не окрепшей буржуазии призывал создать царство разума, из которого проистекала свобода личности. Индивиду предлагалось освободиться не только от традиционного образа жизни, но и от религиозных пут. Религия и церковь объявлялись религиозными пережитками. Это был концептуальный вызов почвеннической феодальной знати и сельскому укладу жизни. В нем образуется «фаустовский человек», отдающий душу дьяволу в обмен на бесконечный прогресс научного познания. Соответствующий этому этапу стиль – классицизм.
Третий этап – эпоха европейских революций. Город доминирует над деревней, крестьяне превращаются в пролетариат, помещики – в промышленную буржуазию. Доминируют настроения, идеализирующие идею прогресса, постоянного обновления и совершенствования, индивидуальные свободы. Соответствующий этому этапу стиль – романтизм, импрессионизм.
Четвертый этап – эпоха империализма, крушение национальных государств. «Бог умер», мораль отступает перед волевыми устремлениями человека, декаданс доминирует в культуре, активизируются низшие слои общества. Соответствующий этому этапу стиль – модернизм: «пролеткульт», экспрессионизм, дегенеративное искусство.
В культуре угадывается тип души, а за ним стоит прасимвол. Такова логика Шпенглера. При этом его подход асинхронен: он ставит античность параллельно со Средневековьем. Он сопоставляет разные жанры, в которых видит проявление души: античную скульптуру и кафедральную фугу. А в искусстве – противопоставляет рисунок и живопись, полагая в рисунке изображение формы, а в живописи – пространства. В первом случае Шпенглер определяет душу как аполлоническую, во втором – как фаустовскую. И дополняет картину еще одним типом души – магическим.
При всей прелести этой игры в наименования и образные очертания различных культур и искусств, подобный подход нельзя признать состоятельным. Не только потому, что сравнивать надо сравнимое. Вполне возможно, что душа лучше выражается в одном случае в скульптурной форме, в другой – в музыкальном произведении. Но если есть антагонизм, он должен проявиться и в том, что сравнимо.
Действительно, древнегреческая вазопись выглядят по-детски. В ней нет глубины, фигуры изображаются отдельно одна от другой. Но подобная манера диктуется материалом – искривленной поверхностью, на которой обращена к зрителю без искажений максимум одна миниатюра. Где уж здесь упражняться в изображении перспективы!
Рельеф всегда «насажен» на плоскость – хоть античный, хоть современный. Его нельзя сравнивать с живописью, играющей на плоскости светотенью и стремящейся создать ощущение пространства. На барельефе это категорически невозможно. Поэтому внимание художника обращено на детализацию одного лишь плана. Пейзажист, напротив, пытается увести взгляд из плоскости и пробудить воображение, которое должно на месте плоскости увидеть глубину.
Шпенглер называет импрессионизм окончательным развоплощением мира. Только потому, что в нем рисунок скрыт за цветовыми пятнами. Но это не отменяет роли рисунка как основы живописи. Импрессионист, не умеющий рисовать, становится экспрессионистом – творцом уродливых, диспропорциональных форм «современного искусства», которое уже не просто развоплощает мир, а оскверняет его уродованием формы.
Мы не знаем греческой музыки. Лишь ритмика стихосложения может нам что-то сообщить о том, какой напев использовали сказители и рапсоды. Но мы точно знаем, что ничего подобного органу или симфоническому оркестру Древняя Греция не знала. Изобретение музыкальных инструментов кардинально меняет музыку. Строительство первых органов ничуть не меньше изменило жизнь людей, чем конструирование паровозов. Можно и паровозы считать указанием на какую-то особенность души, которой не наблюдается в античности.
Загадка, которую Шпенглер хотел поставить на службу своей концепции, относится к провалу «темных веков», куда микенская цивилизация рухнула вместе со своими искусными фресками – ярко расцвеченными изображениями животных и людей. И откуда появилась греческая архаика – с примитивной геометрической техникой на вазах и прочих керамических изделиях, включая мелкую пластику. По Шпенглеру, это связано с рождением иной души, которая даже к архитектуре подступилась уже очень поздно – примерно в начале 7 в. до н. э.
Возможно, исчерченная линиями чашка является отрицанием микенского дворца – с его бюрократической системой учета создаваемых запасов продовольствия, металла и оружия, с его утонченной посудой и церемониальной жизнью. Но все дворцы после краха государства имеют одну и ту же участь: все, что можно из них вынести, отколоть, перетащить, забирается для вторичного использования. Красота, которая могла быть оценена в основном только обитателями дворца, в расчет не берется. Поэтому чашка покрывается каким-то новым оберегом, исходя из особенностей заново формирующегося религиозного культа, а не повторяет то, что можно было увидеть на микенских фресках. Почему возникла эта «евклидова» роспись, мы знать не можем: она образовалась как будто сразу и во всем Греческом мире, постепенно выходящим из «темных веков». Действительно ли в этом примитивном искусстве было заложено древнегреческое мировоззрение и евклидово пространство, которым древний грек размечал окружающий его мир?
Разные изобразительные пристрастия объясняются тем, что мы имеем дело с разными народами – микенские ахейцы и античные дорийцы. У каждого из народов был свой взлет и свое начало. У микенцев начало едва прощупывается по археологическим данным, у дорийцев сохранилось в виде геометрической вазописи. Параллели между началом и расцветом культур разных народов неправомерны, как и сравнение полуденного света Олимпа с полной тьмой Валгаллы. В Тартаре тоже мрак кромешный.
Поскольку всякое искусство – явление органическое, то любой стиль имеет свое завершение, и не может быть повторен. По это причине Шпенглер видит в Ренессансе не возрождение античных искусств, а насильственную «реанимацию». Переходов умершего искусства в последующие стили, как считает Шпенглер, не существует. От Египта в дорический стиль, как он думает, не перешло ничего. В действительности, архаическая скульптура Древней Греции указывает на очевидные заимствования из Древнего Египта – наиболее ярко это видно по фигурам куросов, самое яркое сходство с египетскими изваяниями – фигуры Клеобиса и Битона.
Отрицание ценности античности для современности у Шпенглера доходит до того, что он объявляет его беспространственным. Будто бы лишь в конечной фазе эллинизма (после 350 г. до н. э.) греки начинают выходить из плоскости и отделяться от канонов фресковой живописи, во многом оставаясь на стадии «силуэта на фоне стены» и «рельефа, отслоенного от плоскости». Это хронологически неточно определенное обстоятельство опровергается отсутствием заимствовании у Египта, которые Шпенглер считает лишь «спорадическими».
Использование персонажей греческой мифологии в современной литературе Шпенглер считает формальным, никак не связанным с греческими стилями искусства. Мы же можем сказать, что в греческой мифологии, как нигде более, отражены архетипические образы и сюжеты. В силу общеизвестности (с дополнением более глубокого понимания у знатоков) они оказываются значимыми для современного человека – более значимыми, чем многие образы, приходящие из современных искусств.
Противоположность античного и западного искусства Шпенглер видит в различии взгляда на пространство: в первом случае оно телесно и ограничено, замкнуто в евклидову геометрию; во втором случае устремлено в бесконечность. «Вся античная архитектура начинается извне, вся западная – изнутри». Это противопоставление обосновано какой-то особой впечатлительностью от лицезрения архитектуры «фаустовского Севера», которая создает «лики» своих сооружений («мотив фасада»), отсутствующие у античности и у арабского искусства. С нашей точки зрения, античные храмы имеют свои «лики», отмеченные фронтонами, и их никак не перепутать с боковыми сторонами. Как ни странно, фасад современного здания зачастую украшается античными колоннами, и их «лик» – тут уж никуда не деться – отчетливо напоминает Парфенон.
Проведенные Шпенглером параллели между историей двух стилей не до конца проработаны и не вполне обоснованы. Их можно сопоставить лишь до некоторой степени.

Все аполлоническое (древнегреческое) искусство Шпенглер пытается затолкать в формулу: «храм тела». Действительно, наиболее известная древнегреческая скульптура воспроизводит человеческое лицо по шаблону, обращая больше внимание на остальные детали, которые, впрочем, также подчинены канону. Но, если греки изображали богов и героев божественной красоты, то все они и должны были быть похожи как братья и сестры. Четкое понимание красоты, которого мы лишены сегодня, как раз и притягивает внимание к греческой скульптуре. В то же время, уже Скопас стремится к выражению эмоций человеческого лица, а Пракситель ищет новые средства для отражения телесной красоты, отступая от канона – ровно настолько, чтобы невозможно было говорить о выходе за пределы стиля. Сам же Шпенглер говорит о том, что Поликлет и Фидий преподали особую технику передачи пафоса изображения «чисто вещественного, бездушного тела».
В чем со Шпенглером можно согласиться, так это в насмешке над искусствоведами, которые высшим выражением изобразительного искусства считают свободно стоящую на плоскости обнаженную фигуру человека. Но нельзя согласиться с тем, что этот вид изображения принадлежит только античности и не может быть продолжен в других культурах.
Несомненность лидерства античной живописи относительно пластики мы должны поставить под сомнение, потому что компактный фетиш мог быть принадлежностью каждого жилища и каждого человека, носившего этот фетиш с собой, а вот расписанный камень всегда оставался на месте – чаще всего там, где происходили какие-либо коллективные ритуалы. Также стоит оспорить первенство музыки относительно архитектуры и живописи в том, что Шпенглер называет «фаустовским стилем». Скорее речь следует вести о единстве музыки и архитектуры в храмовом пространстве. Также и готическая живопись имеет отчетливо культовую природу.
Светское музицирование всегда было камерным и распространенным в узких аристократических слоях. Народные инструменты редко воспитывали виртуозов, и общий уровень музыкальной культуры во всю известную нам историю человечества вряд ли существенно менялся. Музыка стала звучать в ушах почти каждого человека только в наши временна – когда примитивный плеер с цифровой звукозаписью и автомобильный радиоприемник напоминают о существовании музыки, хотя одновременно и закрывают от слушателя ее шедевры чудовищным примитивизмом и даже антикультурным потоком звуков, убивающим саму способность воспринимать музыку.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































