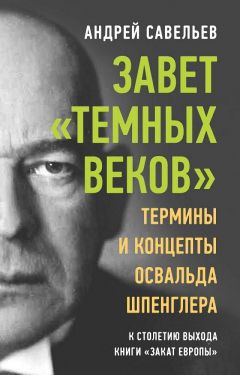
Автор книги: Андрей Савельев
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 45 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Такт и ритм
Одно из ключевых понятий философии Шпенглера – «такт». Такт связывается с космическим, вневременным. Космос пульсирует периодическими процессами, которые задают режим существования всего, на что мог бы обратить взгляд человек. Но как только он обращает внимание на себя, он обнаруживает не столько такт (например, своего бьющегося сердца), сколько напряжение (своих мышц, своего ума).
Такт – это текущий процесс, его антипод – напряжение, в котором процесса еще нет, но есть готовность к нему. Сжатая пружина скопила потенциальную энергию, ее напряжение не реализовано. Но именно это и является ее главной сущностью. Боксер еще не нанес удар, но напряжение уже волной прокатывается по его телу, и он опасен этим потенциальным ударом.
Микрокосм, по Шпенглеру, определяется именно этим напряжением, в котором угадывается противопоставление. Напряжение не может быть безадресным. Существо ищет направления разрядки своего напряжения или даже заранее его предусматривает. Для космического такта не нужен повод, он сокрыт в самой природе вещей. Микрокосм преодолевает этот такт в напряжении, делает его своим союзником: напрягается при вдохе, разряжается при выдохе. В такте образуется еще и ритм, а за ним и мелодия. «Музыка» небесных сфер лишь отбивает реперные моменты времени; микрокосм человека «слышит» между реперами глубинную духовную сущность Вселенной. Через удары сердца космос напоминает о себе, о своем вечном и неизбывном присутствии. Человек заглушает удары сердца трепетом своей души, напряжением своей воли, мощными аккордами духовного творчества. И способен освободиться от космического, утверждая свою свободу. Ценой свободы является конечность существования.
Шпенглер пишет, что спящий человек подобен растению: он отдается космическому существованию. Но это не так. Во сне человек встречается со своей сущностью, которая в бодрствовании сокрыта личным напряжением. Но, помимо личного, есть еще и коллективное. Во сне оно приходит как бессознательное – со всеми своими напряжениями, которые рвут сердечный такт, преобразуют мозговые ритмы, стесняют дыхание. Тот же позыв есть в единодушном вздохе публики, в движении пришедшей в ярость толпы, в поступи слаженного воинского подразделения.
Частотный ритм частного существа может быть настроен на такт космоса, и тогда сущности сольются в единство, станут «оркестром», созвучным мирозданию.
Космос дает разрядку, раскрывая и одновременно завершая внутренний цикл микрокосма. Он придает напряжению цель и направленность, настраивает внутренний мир на внешнее «мы» и «вечность». «Микрокосмические границы оказываются снесенными. Здесь ревет и грозит, здесь рвется и ломится, здесь летит, поворачивает и раскачивается оно. Тела сливаются, все идут в ногу, один крик рвется из всех глоток, одна судьба ожидает всех. Из сложения маленьких единичных мирков внезапно рождается целое».
Стихия массы – это то же, о чем писал Салтыков-Щедрин в своей «Истории одного города», завершенной вихрем мистического Оно. Прорвавшийся в частную жизнь космос стирает все фантазии зарвавшихся жизнеустроителей, а с ними сметает и целые народы и цивилизации. Сильные чувства становятся социальной истиной, отбрасывая смутность частных ощущений, ставших переживанием несвободы в свободном напряжении внутреннего мира индивида. Общее переживается как свобода, представляя собой связанность с космическим тактом, добравшимся до глубин частного существа и втянувшим в свою закономерность массы свободолюбивых индивидуальностей. Общество, государство, нация оказываются следствием космической связанности, дающей рамки частным волениям, обеспечивая тем самым свободу, обрамленную границами обычая и закона. Именно поэтому цивилизации оседлы, а кочующие культуры поверхностны и дики. За возделанным полем начинается мир варварства, дикого существования свободных в движении, но порабощенных примитивным уровнем жизни и мысли, народов.
Великое переселение народов – это великое вторжение варварства в мир оседлой цивилизации. Массовые миграции – предвестник гибели, который либо превращается в приговор цивилизации, либо цивилизация выносит приговор мигрантам: угнетение, изгнание, ассимиляция. Выбор средств невелик, и все они кажутся «нецивилизованными», хотя только они и защищают цивилизацию от кочующих орд.
Потерянное время
Человеку кажется, что он властен над пространством – только потому, что способен перемещаться в нем. Но он не властен над временем. Прошлое не вернуть, а историю можно только оболгать, но нельзя изменить. Время необратимо, и мы хорошо знаем в повседневном опыте «стрелу времени». Разбившуюся вазу уже не восстановить. Можно только прокрутить в обратную сторону видеосъемку. И этот фокус забавляет, но не радует. Подспудно мы знаем об ограниченности своего личного времени и о своей ограниченной способности исследовать собственное время – предпосылки сегодняшнего момента. В природе мы предполагаем неизменный закон и ищем его в социуме. Среди людей общего закона нет. Есть только мудрость, чуткость, общие рекомендации жизненного опыта. И тонкие нюансы всегда ограждают все это от превращения в победный алгоритм. Как взять власть? Если бы алгоритм был известен, он был бы тут же разрушен, потому что претендентов на власть всегда много, и ни один из них не в состоянии завладеть универсальным средством возвышения над другими.
Шпенглеру очень хотелось увидеть время, проведя множество разграничений между античностью и более поздними временами. Ему казалось, что позы античных скульптур театральны, хотя все наоборот: это театральные позы заимствовали осанку древнегреческих и древнеримских скульптур. Ему хочется думать, что лики античных скульптур не несут в себе никакой индивидуальности, которая (будто бы) появляется только в эпоху эллинизма. Это совершенно не так, поскольку характерность лиц в греческих терракотах доходит до гротеска и карикатуры. Божеству же не может быть приписана никакая характерность, потому что ее никто не мог лицезреть. Разница между богами – только в атрибутах. Если же взглянуть на лица куросов, то все они различны – несут на себе признаки индивидуальности конкретных личностей. Нет, греки прекрасно понимали время, и греческая трагедия связана с необратимостью, непоправимостью ситуаций, заставляющих хор петь о том, что лучше бы вообще не родиться.
Логика становления, будто бы постижимая современным человеком, иллюзорна. Загадка жизни и смерти неизменно поражает воображение творческой личности с античных времен. Как считает Шпенглер, греки были привязаны к мгновению настоящего. Но тогда почему же они так хранили нелепости мифологических историй и включенные в них крупицы исторического знания? Почему образованному греку надо было учить «Илиаду» и «Одиссею» и знать почти наизусть, слушая вариации рапсодов сотни раз за свою жизнь? И почему современный человек, считающий себя образованным, не помнит вообще ничего? Почему русский не помнит ни строчки из «Евгения Онегина»? Почему немец знает о Гёте не больше русского? Избыток информации? Но у греков тоже была целая литература, которая утрачена – осталась только в случайно сохранившихся обрывках. Там тоже был избыток информации, но она распределялась на более важную и менее важную. А у современного человека вообще нет важной информации и почти нет ощущения разницы между правдой и ложью.
У греков было чувство истории и любовь к истории, а у современных людей его нет. Кроме занимательных анекдотов, прилипших к системе общего образования, современный человек не помнит и не знает практически ничего. И только необходимость получать средства к существованию побуждает его знать хоть что-то, но ни в коем случае ничего сверх того. Если Шпенглер мог этого еще не замечать, то теперь все это абсолютно очевидно. Человек начала XXI века деградировал настолько, что ему невозможно понять человека начала XX века. Точнее, это дано ничтожному меньшинству, которое сохранило человеческое достоинство – любопытство к феномену времени.
В чем Шпенглер точен, так это в том, что уже со Средних веков европеец старался закрепиться в истории, которую он пытался сделать автобиографией. Античные авторы не были столь заворожены перспективой оставить свой след. Поэтому мы сейчас точно не знаем, где Аполлодор, а где Псевдо-Аполлодор, где кончаются тексты Аристотеля, а где начинаются тексты его продолжателей. Точно так же для летописцев Руси была важна фиксация исторических событий, а не собственное авторство. Нестор – это собирательный образ. Все летописцы – «несторы».
У разных культур свое чувство времени, свое понимание истории. Шпенглер считает, что понимание невозможно. Но во всякой ли культуре есть время? Неизменность жизни не позволяет заметить течение истории. Античность знала историю и понимала невозможность овладеть временем. Именно поэтому Шпенглер замечает приверженность античных греков к текущему моменту. Западный человек возомнил себя способным «оседлать» время, зафиксировав лишь ускоряющиеся изменения в его жизни. Но средневековый человек был в такой же ситуации, как и античный грек. Жизненные катастрофы, связанные с войнами, эпидемиями и природными катаклизмами приучали ценить момент и помнить о смерти. Современный человек перестал считать себя уязвимым, но стал куда более труслив. Он не признает героев, потому что сам хочет быть героем, но без всякого риска – виртуальным сверхчеловеком. Он знает, что защищен врачами, но всю жизнь боится умереть. Античный или средневековый человек знал, что его повседневность неизменна, а смерть рядом. И смело смотрел смерти в глаза, прославляя героев и проявляя личный героизм. Современность тонет в «массовом героизме», из которого извлекают частные истории для плакатных персонажей и пропагандистских подделок. Фронтовик становится античным человеком – он не боится неизбежной смерти. Или боится, но принимает ее как факт, от которого некуда деться. А если не признает, то погибает одним из первых.
Шпенглер путает моду на руины, начавшуюся в XVIII веке, со страстью к истории – будто бы совершенно уникальной. Но древний грек жил в городах, где храмы стояли многие века, а современный человек живет в среде, из которой история изгнана. Античный грек был частью истории, продолжая ритуалы и правила жизни десятков поколений его предков, а современный человек толком не знает, чем жили его деды и бабки. И уже не признает истинными никакие ритуалы, и сторонится их, чтобы оставить время на то, чтобы упиваться текущими моментом – «здесь и сейчас». История стала наукой, а у греков она пронизывала повседневную жизнь. Грек знал свою историю; современный человек – при всех прелестях всеобщего образования – не знает ничего. Он отрекся от своей истории, оставив ее историкам. Он потерял свою культуру, оставив ее узкому кругу эстетов. Он погибает в своем человеческом статусе и превращается в придаток технологий, не разбирающих никаких индивидуальных отличий и рассчитанных на самые примитивные способности.
Несомненной ошибкой Шпенглера является сближение культа Исиды и Гора с христианским символизмом Богородицы и младенца Христа. А также противопоставление греко-римского культового символизма, который, будто бы, состоит только в фаллических и исключительно мужских акцентуациях. Нет сомнений, что Исида-Осирис имеют полный аналог в древнегреческом культе Семелы-Диониса. Это интерпретация одного и того же священного сюжета, восходящего к историческому событию, суть которого мы постигнуть не в состоянии. Греческий вариант сказания можно считать даже более драматическим, потому что в нем мать воскрешает сына, а в египетском сюжете – супруга.
Элладский период древнегреческой истории полон примитивных терракот с изображениями младенцев на руках у женщин с птицевидными головами. Этот культ простирается от Кипра до ареала трипольской культуры в степной зоне Восточной Европы, и вовсе не концентрировался в одном лишь Египте. Более того, птицеголовый Гор должен быть рожден от птицеголовой Исиды. Египетские скульптуры изображают Исиду и Гора людьми, а посмертный облик Гора (скульптурный или рельефный) – с головой сокола.
Возможно, Шпенглеру еще не были известны многочисленные вазописные сюжеты античного периода с матерью и младенцем. Сегодня они есть в любом музее с античными коллекциями.
Можно с уверенностью сказать, что никакого тысячелетнего провала в почитании матери с младенцем не существовало. И попытка связать этот выдуманный провал с кардинальным изменением отношения к истории (времени) оказывается несостоятельной. Напротив, древнегреческое искусство подтверждает, что от него исходят все культурные стандарты просвещенных народов Европы – архетипы европейского самосознания с древнейших времен. Налицо не разрыв, а прямое наследие, которое требует отношения к Древней Греции не как к этнографической диковинке, а как к собственной предыстории. Забывший древнегреческую историю и культуру европеец теряет всякую надежду продолжить свою цивилизацию.
Факт, идея, истина
Что есть истина? Этот вопрос Понтия Пилата, обращенный к Иисусу Христу загадочен, в нем тайна истории. Он мог содержать мучительное переживание бессмысленности собственного существования, интерес римского провинциала к очередному бродячему философу, насмешку над никчемными умствованиями, чванливую надменность распорядителя судеб человеческих. Нам не откроется глубина этого вопроса, если мы пренебрежем историей Рима Первого, вместившего в себя учение Христа, сделавшего христианство мировым явлением.
Шпенглер обращает внимание только на один вариант ответа. Философская истина – нечто оторванное от жизни и в этой жизни ставшее пустым звуком. Потому что истины вечны, а значит, мертвы. Мысль изреченная есть ложь. Животная природа человека признает только факты. И никакого «теоретического понимания». Пока божественная природа озадачивает человека, животная побуждает к действию, опережая всякую мысль. Животная природа опережает, и кажется, что тактическое преимущество и неоспоримо.
«Действительная жизнь, история знает лишь факты. Жизнь, опыт и знание людей направлены только на факты. Деятельный человек, человек действующий, болящий, борющийся, который изо дня в день обязан самоутверждаться перед властью фактов, ставить их себе на службу или им покоряться, смотрит на голые истины свысока, как на нечто незначительное. Для подлинного государственного деятеля есть лишь политические факты и никаких политических истин. Знаменитый вопрос Понтия Пилата – это вопрос всякого человека дела». То есть, Шпенглер видит в словах Пилата только надменную насмешку практика над теоретиком. Но даже если это так, то практик был посрамлен: «теоретик» оказался гораздо более практичным.
Стратегия решает свои задачи медленнее, но всегда одолевает факт, на который так бурно и непосредственно реагирует тактика. В то же время стратегическое мышление может впасть в иллюзию бодрствования, уподобляясь старым богам, удалившимся от человеческих проблем. Истина может замкнуться сама на себя и забыть о человеке. Тогда человек дела получает бесспорное преимущество, а «чистая истина» оказывается бесплодной – гипертрофированной функцией обезумевшего рассудка.
На эту болезнь разума указывает Шпенглер, ссылаясь на Ницше: побеждающий дух уничтожает жизнь, в нем все цепенеет, замирая в непреложных истинах. Барьером для отделения духа от плоти являются идеи. Идеи «принадлежат непосредственной живой самости того, кто их создает, и могут лишь соощущаться». В идеи надо верить, точнее, сочувствовать им. Идеи не доказываются, они захватывают, предлагая неполные схемы решения проблем, чуткие к изменениям и содержащие алгоритмы исключения собственных ошибок.
Сочувствие – это свойство разума, а не души. В разуме, разумении таится творчество. Рассудок же укладывает все в схему. Рассудок очищает истину от сомнений путем критики. Убивая критикой любую изменчивость, рассудок дает простую схему поведения – существование, а не бодрствование. Здесь – конфликт между знанием и пониманием. Полнота понимания (как и взаимопонимания) наступает до полного знания. Риск ошибки оказывается менее важен, чем способность оперативно отреагировать.
Наука, утратив творчество, начинает ходить по кругу, сталкивая истины, которые все меньше соотносятся с жизнью. «Всякая обнаруживаемая рассудком истина представляет собой не что иное, как критическое суждение относительно другой, уже имеющейся. Вследствие полярности нового и старого знания в мире рассудка имеется лишь относительно верное, а именно суждения более убедительные, чем прочие. Критическое знание покоится на вере в превосходство сегодняшнего понимания над вчерашним. А тем, что принуждает нас к этой вере, оказывается опять-таки жизнь».
Проблема состоит в соотношении бодрствования и существования, которые у животного соединены при подчиненном положении бодрствования, а у человека могут быть не только разорваны, но и противопоставлены. Животное бодрствование всецело подчинено существованию, человеческое может ставить даже отдельный момент бодрствования выше существования. Так возникает героическое. Оно свойственно и животным, но скорее как человекоподобная имитация: борьба за существование может выходить за рамки собственного физического бытия. У человека борьба за существование отрывается от биологического закона и обретает статус закона нравственного.
«Таким образом, перед бодрствующим человеком возникает дилемма бодрствования и существования, или пространства и времени, или мира как природы и мира как истории, или мира как напряжения и мира как такта. Бодрствование старается понять не только само себя, но и нечто ему чуждое. Даже если внутренний голос скажет ему, что все возможности понимания исчерпаны, страх все равно убедит каждое из живых существ продолжить искать дальше и удовлетворится скорее кажимостью решения, чем взглядом, упертым в пустоту».
Факт может опровергнуть идею, но не может опровергнуть истину. Потому что истина определяется не фактом, а состоянием исследователя: идея – это не состояние, а путь к истине. Истина также может рассматриваться не как состояние, а как цель. И тогда факт будет отбракован, если он противоречит истине. Потому что просто мешает ее достижению, обретению знания или состояния. Налицо опасность заблуждения, но еще большая опасность – отказ от поиска истины, которую меняют на доверие ничтожному «факту», который сам по себе не существует, а подается в определенной теоретической «обертке» – сам является доказательством какой-либо истины. То есть, относительная и основанная на многих фактах истина меняется на единичный факт, подкрепляющий иную «истину».
Такая ветреность, готовая постоянно менять картину мира, свойственна человеку наших дней: он не закрепляет в своей жизни никакого вектора. И поэтому его бытие становится только существованием: его форма бодрствования мало отличается от сна. Он верит даже не фактам, а их оболочке – картинке, которая на время кажется привлекательной. А вскоре внимание переключается на иную обертку. Думать некогда и лень. Жизнь из космически значимой становится развлечением, толкающим к «испытаниям» человеческой природы грехами. До тех пор, пока человеческое не оказывается сломанным. И тогда уже не до фактов, не до идей, не до истин. От человеческого остается только боль, если смерть не опережает её.
Исчисление и откровение
Природа поддается познанию через ее законы и переводит знание в практику путем приложения законов к сложившимся обстоятельствам – первоначально только к ставшему. То, что проходит становление, кажется не поддающимся принципам казуальности, ускользающим от понимания. Но потом оказывается, что смысл медленно меняющихся процессов все же можно освоить и открыть законы самих изменений. Когда простые процессы исследованы, остается улавливать все более стремительный процессы, и здесь природа тоже оказывается познаваемой, хотя категория «закон» претерпевает изменения: законы включают компонент вероятности: ставшее соседствует со становящимся.
Является ли физический мир ставшим? Всюду ли во Вселенной законы одинаковы? Есть множество пластов знания, которые сложно или вовсе невозможно связать общими законами. «Природа говорит с нами на тысяче языков», – сказал нобелевский лауреат Илья Пригожин. Это значит, что существуют зоны становления, в которых нет даже языка описания. Они разделяют области знания с обособленным формализмом – терминами и законами.
Самое решительное разграничение – между естественнонаучными и гуманитарными науками. Гуманитарии имеют дело с процессами становления, которые не могут быть полностью алгоритмируемы, истина не может кристаллизоваться из различных гипотез. Между тем, история как объект изучения, – это уже ставшее. Исторический факт однозначен, если имеется достаточно сведений о нем. Но неоднозначна его трактовка. Помимо установления фактов, историки постоянно занимаются их трактовками, предлагая ту или иную схему казуальности. Попытка подтянуться к «естественникам» приводит к тому, что трактовкам уделяется больше внимания, чем самим фактам – и это подрывает основы научного подхода. В особенности там, где принцип научности поставлен в зависимость от политической конъюнктуры. Там факты подбираются под концепцию, там не рассматриваются альтернативные трактовки.
В естественных науках истина исчисляется, и только когда проверка исчисления на практике невозможна, в ход идут принципы простоты и «красоты» описания. В гуманитарных истинах – только откровение, а описание гипотез (которые почти всегда выдают за истину) также предполагает простоту и красоту – как аргументы против альтернативных гипотез.
Ошибка исторической науки состоит в том, что «картина прошлого механизируется, материализуется, и из нее в назидание настоящему и будущему вытягивается сумма казуальных правил. Люди верят в исторические законы и их рассудочное постижение». И эта вера затребована процессом становления, в котором действуют люди, воспринимающие мир не как историю, а как свершение. История оказывается оправданием политики, политик – заказчиком определенной казуальности. Рок – не формула, прошлое – не причина, и, «кто трактует их математически, как это делает исторический материалист, тот перестал уже действительно видеть прошлое, которое было живым однажды, и только однажды». «Религиозное мышление постоянно сводится к установлению в последовательностях причин порядка по ценности и рангу – вплоть до самых высших сущностей или принципов, являющихся первейшими „властвующими“ причинами. Рок – это слово, обозначающее наиболее всеохватную каузальную систему из всех, что основаны на оценке. В противоположность этому наука представляет собой понимание, принципиально игнорирующее различие между причинами по рангу: то, что обнаруживается ею, есть не рок, но закон».
Тем не менее, оба пласта знаний не разделены непроницаемой границей – там и там появляются отзвуки: «нет „природы“ без отзвуков живого, как нет и „истории“ без отзвуков казуального». Только факты «стационарны», а теории – это образы. Есть наука (или пред-наука), устанавливающая факты, которые сами суть часть истории (ставшее), и есть наука, которая к исследованию фактов добавляет символизм, в котором казуальность как цель только все портит. Факты живой истории не повторяются, а служат формированию картины мира. И такие картины живы тем, что они постоянно «вибрируют», переставляя детали с места на место, меняя колорит и цветопередачу.
История воспринимается как живая, когда в ней черпается откровение, когда историческое время не только исчисляется, но и чувствуется; и от чувства возникает вдохновение – устремление к творчеству. Тогда история становится судьбой – то есть, будущим.
Мир науки воспринимается обывателем как потусторонний, где оперируют сакральными сущностями. И чем дальше результат работы ученого от обыденной реальности, чем демонстративнее разрыв с повседневной реальностью, тем более уважительно отношение к нему профана.
У Шпенглера проскальзывает тезис о разделении человечества на высшее и примитивное. Несколько переиначивая его соображения можно составить таблицу.

Существуют примитивный миф или высшая техника. Граница зыбка, но она есть – наподобие «горбатого» статистического распределения. Малая часть человечества – высшая форма творения, подавляющее большинство – примитивно или находится в низшей части низшей формы. Возможно, современность дает нам увидеть такое разделение в психологической зависимости, которую навязывают (вместе с определенной точкой зрения и определенным типом поведения) средства массовой информации. Малая доля не подчиняется тотальной пропаганде и способна мыслить самостоятельно, удерживая целостную рациональность от вторжения локальной рациональности – в рамках задач закулисных пропагандистов.
Исчисление может быть у низшей формы человечества, а откровение – удел только высшей формы, где наука и религия неразделимы, где прямое усмотрение истины возникает до всяких теорий и расчетов.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































