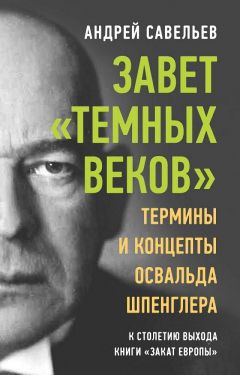
Автор книги: Андрей Савельев
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 45 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Конец культуры
Уже республиканский Рим Шпенглер считал отмеченным не культурой, а цивилизацией. Культурно Рим не создал ничего принципиально нового: «Все римские портретные статуи, мужские или женские, сводятся к совершенно незначительному количеству эллинских типов позы и жеста, с которых более или менее стилистически верно копируется торс, тогда как голова с примитивно ремесленнической точностью срабатывается на „схожесть“. Знаменитая статуя Августа в латах, к примеру, изготовлена по Дорифору Поликлета». «В Риме корчат всякие гримасы: то греко-азиатские, то греко-египетские, то архаические, то – после Праксителя – новоаттические».
Нелюбовь Шпенглера к Риму – это свойство вообще всех европейцев, которые повторяют клевету на Римскую Империю вслед за сплетником Светонием, доходя до совершенно бесстыдных форм сатирического гротеска. Причина этой нелюбви – в исторической обиде: европейские государства лишь на короткое время смогли стать колониальными империями. При этом они не создали ничего такого, что можно было бы сопоставить с Римом.
Рим сохранил древнегреческую культуру, и даже собственную мифологию подстроил под греческие образы. Рим строил по греческим образцам на огромной территории. Рим утвердил общие для целой ойкумены правила государственного управления, хозяйствования, разрешения споров. Европейское пространство «фаустовского» человека было всегда расколото и разобщено мелочными различиями. Современные европейцы не могут простить Риму и России, что у них получилось выстроить империи, которые сами по себе были цивилизациями, а у европейских наций ничего подобного не получилось и уже не получится.
Еще в начале XX века Шпенглеру было нетрудно заметить, что европейская история идет к закату. Даже XIX век – это уже не фаустовский стиль, а более или менее удачное его копирование. Прежние формы утилизируются и смешиваются и переделываются без органического содержания. При этом перемена выдается за развитие. В XX веке за развитие выдаются технические новшества. Но они – для всех культур одинаковы. Даже если европейцы первенствовали в каких-то изобретениях, все они были универсальны, а не специфичны именно для европейцев.
Импрессионизм – это последняя попытка найти продолжение стиля. «Материализм западноевропейских мировых городов подул на пепел и вызвал к жизни это диковинное и короткое осеннее цветение двух поколений живописцев». Импрессионизм пытался еще дальше отойти от пластики и приблизиться к музыке. И последовавшие за ним «стили» отошли от самой живописи, ее смысла и понятия о красоте – в кошмар неискусства, спонсированный ростовщиками, которым было неведомо понятие вкуса. Изобретение стилей стало доходным бизнесом. Ван Гог и Пикассо – это не явления искусства, а бизнес-проекты.
Россия на столетие позже вступила в фазу конечного расцвета культуры, который накладывается и на расцвет цивилизации. XIX век стал высшим расцветом культуры и государственности. Великие русские Государи – эти Цезари русской Империи – подняли Россию на невероятный уровень, когда культура Европы уже лежала в руинах. Великолепная русская живопись и русская музыка вознеслись к концу века на недосягаемую для западного человека высоту. И весь этот взлет был разрушен идиотскими фантазиями недоучившихся «народников», мечтавших подвинуть и впрямь вырождающуюся родовую аристократию. Культурно мертвые Англия и Франция рекрутировали своих почитателей в русском обществе, а Германия в условиях Первой мировой войны прямо наняла бандитские элементы для государственного переворота в России. Совокупность внешних и внутренних факторов сломала русскую культуру, а умертвили ее, забив насмерть коваными сапогами чекистов. На ее место водрузили пресловутый соцреализм, который уничтожил читателя великой русской литературы, а из живописи соорудил плакатный апофеоз, отучив даже образованных людей отличать искусство от неискусства.
Очень современно для нынешней пост-России звучат слова Шпенглера столетней давности: «Чем же мы обладаем сегодня под вывеской „искусство“? Высосанной из пальца музыкой, полной искусственного шума массы инструментов, изолганной живописью, полной идиотических, экзотических и плакатных эффектов, лживой архитектурой, каждые десять лет „основывающей“ новый стиль на сокровищнице форм минувших тысячелетий, стиль, под знаком которого всякий делает все, что ему взбредет в голову, лживой пластикой, обокравшей Ассирию, Египет и Мексику». «Обойдем все выставки, концерты, театры, и мы обнаружим лишь старательных дельцов и шумливых шутов, которые находят удовольствие в том, чтобы поставлять на рынок нечто давно уже внутренне ощущаемое как ненужное»; «…можно было бы сегодня закрыть все художественные заведения, не нанеся этим ни малейшего ущерба самому искусству».
Причина краха культуры – в уничтожении аристократии. Там где вместо народности появляется народ и народники, там не остается ничего, кроме грязи. Пришедшие на смену аристократии деловые люди (при большевизме – практики управления производством) могли быть только благотворителями – в меру своего непросвещенного понимания того, что стоило поддерживать, а что нет. Затем их сменили выделанные из разного рода политических «номенклатур» заведующие – те, кому было поручено управлять искусством. И в итоге все погибло в результате «монетизации», которая стала самой высшей прагматикой самоуничтожающейся цивилизации.
Надежда Шпенглера состояла в том, что цивилизация вызовет к жизни нового Цезаря, и за ним придет славная тысячелетняя история. Объединение Германии и эпоха Бисмарка давали ему основания для таких надежд, но Ноябрьский режим разрушил их. И вместо Цезаря пришел Гитлер, и его «Тысячелетний Рейх» закончился в одно десятилетие, исчерпав последний шанс Европы. В России ту же роль сыграл невежественный до дикости Сталин и его последыши в КПСС, стоявшие «на хозяйственной платформе». Современный чекистский аппарат готов коррумпировать и уничтожать любые таланты, которые попадаются ему на глаза. Здесь все шансы на Цезаря и Империю пресекаются на корню – так, чтобы даже мысль о том, что Русская цивилизация имеет какие-то шансы на возникновение, не могла появиться.
Когда-то советский соцарт мог казаться началом Большого стиля. Но то был не стиль, это было насильственное пресечение даже зародыша стиля – место расчищалось для все более глупой и примитивной пропаганды. «Слава КПСС» – огромные красные буквы, которые воплотили в себе все, что возможно было в рамках этой пропаганды. Постсоветская пропаганда точно так же упразднила все возможности зарождения Большого стиля, превратив все виды искусства в источник пропаганды. Само по себе творчество оказалось обесцененным – оно скупалось каждый раз перед очередной бессмыслицей, имитирующей всенародные выборы. Легко купить одного талантливого художника, чтобы создать массу сложностей другому – тому, который не желал продаваться.
Современный стиль умирающей цивилизации – иллюзия полной рациональности и безнаказанности. Голливуд – это набор штампов сошедшего с ума рационализма с явными психическими патологиями. Без убийц и помешанных уже невозможно представить себе какое-либо видеовоплощение безумства века сего. Иллюзия понимания, готовность объяснить все, что угодно делает из нашего современника круглого дурака, которому через пропаганду внед♥ряют в голову штампованные мысли, которые он как «органчик» повторяет раз за разом, даже не замечая бессмыслицы.
Переживание становления – вот то почти забытое чувство, которое возникает, когда происходит явление стиля. Рационализация искусства – это его смерть. В нем исчезает тайна, оно не побуждает также и к миру относиться как к тайне, которую надо пережить, прежде чем попытаться разгадать.
Мир-религия
Понятие Шпенглером религии исходит из его терминологии: религия есть такое бодрствование личности, которое ставит ее существование под полный контроль – вплоть до готовности жертвенно прервать это существование. Мир-природа своей протяженностью и мощью напряжения делает человеческий такт ничтожным, человеческое время тонет в этом бесконечном пространстве. Что неизбежно порождает ужас, как только существование начинает осознавать себя. Страх перед своей ничтожностью может быть уравновешен только любовью, которая, направляясь на другого человека, оказывается, охватывает всю Вселенную и ментально поглощает ее – мир-природа подчиняется миру-религии.
Культура проистекает из культа, эмансипируясь от него, но никогда не теряя с ним связь. А культ есть переживаемый миф. Именно поэтому культурная биография цивилизации – это биография ее духовной жизни. Деградация религиозности влечет за собой деградацию культуры, упадок не только изобразительного искусства, но и культуры производства, культуры речи, взаимопонимания. Ткань социума рвется, управляющие сигналы перестают пронизывать его. И за этим следуют «темные века». В это время возникает иллюзия, что рукотворными мифами можно управлять, заместив ими священное. Управление в таком случае сводится к незначительным вариациями траектории полета в пропасть.
Для христианской цивилизации вопросы о том, каким образом учение Христа охватило весь мир, как образовалась Церковь, насколько жизнь христиан сегодня близка к догматам Церкви, а сама церковь живет по апостольским канонам, являются как никогда важными, ибо кризис христианства вполне очевиден, а крах христианских империй давно состоялся и даже слегка позабылся. Это беспамятство по отношению к смертельной травме, полученной христианством (даже более существенной, чем утрата Святой Земли и захват иноверцами Константинополя) говорит о том, что называющие себя христианами уже обустроились и пообвыклись в том, что следует считать «смертью».
Религия от рождения до гибели
Первобытные люди и недавно еще существовавшие дикие племена ощущали присутствие некоего невидимого мира рядом с собой – мира, который являлся (о чем и теперь многие не догадываются) миром их собственно памяти. Невидимый мир ощущается как параллельная реальность и обсуждается между теми, кто его обнаруживает, общаясь с давно умершими родственниками, с «духами», с воспринятыми как некие сущности собственными ощущениями и неясными образами-воспоминаниями. Мистический опыт структурировал пространство и время, создавал условие для племенного единства, позволял чутко реагировать на любое изменение в ситуации – в поведении людей и животных, в погодных условиях и т. д. Все, что кажется общим для племени, становится его тотемом и табу – ранней формой религии.
Утрата общности и утрата коллективной памяти – это одно и то же, что для древних, что для современных обществ. Архетип без коллективной его оценки гаснет – теряет подтверждение своего знака в памяти. Очное коллективное переживание в ритуалах религиозной общины, воспринимаемых как напоминание о совершенно реальном мире священного, – вот то, что составляет опору любой Церкви. Нет общины – нет Церкви. И вот мы перед фактом: общины нет. Точнее, нет достаточного количества общин и достаточной коммуникации и согласия между ними, чтобы считать их совокупность Церковью. Это «темные века» для религиозного чувства, которое когда-нибудь будет восстановлено, но теперь оно лишь теплится слабыми огоньками здесь и там – в местах возможного его возрождения.
В убежденности, что все религии сходны, есть логический круг: все религии сходны, потому что они религии. Также и все люди похожи, потому что они люди. Но при этом все религии различны и все люди различны. По той же самой причине: они сходны по одному основанию и различны по другому. Сходство схем, заложенных в мифологических сюжетах, бросается в глаза исследователям, но сама «начинка» мифа в каждом случае своя собственная. Миф – только зародыш религиозности. Он – более или менее структурированное коллективное воспоминание, в котором есть смутные очертания духовного опыта общины.
Греки всех богов других народов подверстывали под своих богов – по атрибутам и функциям. Геродот находил, что функциональное деление богов у скифов даже лучше, чем у греков. Греки до какого-то момента были убеждены, что у всех народов боги одни и те же, просто у них разные имена. Но когда объединенными силами полисов удалось отбросить, а потом и разгромить персов – представителей громадной империи и носителей высокой культуры – оказалось, что у эллинов «особенная стать», и все прочие – варвары, а не просто другие люди. Пусть, они и не звери, не грязные и похотливые силены, не чудовищно свирепые кентавры, но все же люди низшей категории – даже если живут в городах с великолепной архитектурой. Это «другие», и содержание их религии «иное» – неправильное. Таки или иначе, это чувство отделенности своей веры от чужой – признак определенной зрелости. Еще не признак истинности религиозной картины мира, но уже способность делить разные картины мира на истинные и неистинные.
Источником религии является не какой-то одиночный центр, из которого сделаны заимствования, а единичность Вселенной и универсальность вписанного в нее человека:
«природа человека» предполагает наличие религии, но путь духовного созревания в разных цивилизациях и культурах разный. И выводы из своей многогранной природы человек разных культур делает разные: как истинные, так и ложные. В одних случаях он идет к истине, в других – к заблуждениям и лжи.
До нелепости неверна формула: религии у всех разные, а Бог один. Бог, действительно, один, но многие религии славят не этого единственного Бога, а воображаемые или ложные сущности, а то и антиподов Бога. Как Бог един, так и истинная религия может быть только единственной. Человек обладает Божиим даром – рассудком. Но его содержание различно и наполнено бестиарием его заблуждений. Сравнительная мифология не нашла путей к открытию какого-то универсального мифа. Но она обнаружила универсальные средства мышления – архетипы коллективного бессознательного. Они соединились с внешним миром через тотемы, из тотемов выросло понятие об антропоморфных богах, управляющих сначала некоторыми, а потом и всеми тотемными животными (Потния Терон).
Религиозный миф и даже простонародное суеверие кодифицируют мысль: в одних случаях верную, в других – неверную. И даже неверные мысли структурируют социальное поведение, снимая вопрос выбора – точно так же, как и при гадании, дающем случайный выбор из альтернатив (скажем, гадание по внутренностям жертвенных животных или принятие решения в зависимости от того, с какого фланга пролетели птицы). Любой социальный процесс закрепляется символом, который напоминает о нем, избавляя от расшифровки в каждый конкретный момент времени.
Долговременной общности не существует без эмблемы, а также множества мифем, служащих знаковым языком, который короток и ёмок. Но он исчезает, как только из мифем перестают складываться смысловые конструкции. Это происходит либо когда социум серьезно поврежден внутренними конфликтами, либо когда внешний поток мифем смывает прежний порядок взаимопонимания. То и другое – наша реальность. За истинное принимают кажущееся. Малые группы и даже отдельные индивиды создают свою религию-реальность, свои «языки» из произвольно нахватанных отовсюду знаков. У кого в данный момент больше возможностей для тиражирования своего набора мифем, тот и «церковь».
Философия находит в религии понятие, преобразуя в них некоторые мифемы или соединяя их в концептуальный текст, который становится более систематическим, но теряет животрепещущую связь со знаком. Иного источника у философии нет. Вся философия религиозна, даже когда она отрицает религию – просто тем самым к прежним знакам, мифемам и мифологемам прицепляются собственные понятия философа (что хорошо видно на примере марксизма). Также и логика науки возникает из логики мифа, порой минуя стадию философствования – прямо заимствуя всю знаковую систему и перелицовывая ее под собственные понятия. Наука полностью изгоняет из своего языка переживание, чтобы остаться с холодными понятиями и логическими операциями. Это дает возможность позабыть о знаках и мифологическом происхождении понятий и гордиться открытием обособленных от религии истин. Тем не менее, религия, как бы ни пытались ученые от нее обособится, остается предпосылкой для науки. Все общественные науки (очевидно, ненаучные, с точки зрения математиков и специалистов естественнонаучного профиля) совершенно не могут обходиться без связи с религией, которая внимательному наблюдателю научных излияний вполне очевидна.
В отличие от науки, религия более щепетильна к сфере неистинного. Наука зачастую теряет грань между истиной и неистиной, неистина представляется просто одной из исследовательских альтернатив или допустимым мнением. И таким образом наука снова уподобляется религии: у каждой научной «конфессии» своя истина и своя связка ключей к знако-символической системе, которая превращается в специфический язык-жаргон для обособленной группы ученых, существующей до тех пор, пока кто-то готов ее финансировать.
Как бы ни пытались наука и политика имитировать религию, в них есть воля, но нет (или недостаточно) любви. В науке есть воля к истине, в политике – воля к власти. И только в религии есть любовь к истине и любовь к человеку, от которой образуется богоданная власть. В религии есть любование истиной, любование мирозданием, любование человеком. И в совокупности все это составляет любовь к Богу, который сам есть любовь.
Смерть религии наступает задолго до того, как прекращается ритуал. Рутинные требы могу здесь и там исполняться по привычке, но рассудок нации уже не озабочен бытием Бога, душа нации замерла и не переживает священных сюжетов в каждом своем вздохе. Богословие становится таким же рутинным и бестрепетным, как и литургия; проповедь повторяет то, что будет благосклонно встречено начальством. Священство переживает бытие, а не житие. Слова Писания остаются только словами…
Предчувствие Христа
Профанное знание о древней истории приписывает ей однозначный политеизм – многобожие. В том числе и для русской дохристианской истории, которая была многоплеменной и многобожной по этой причине: в каждом племени был свой «бог» и свой набор инфернальных суеверий. В действительности все было не так, совершенно не так. Монотеизм прорывался через множество разнообразных верований и оболочек божественного. Воззрения древних греков или древних русов были подготовлены к христианству, и поэтому оно столь легко вошло в душу древних народов Европы.
Гесиод определял человека как существо, исключенное из времени богов – утратившее «золотой век», когда жили какие-то другие «люди», род которых прерван, а современные греки являются людьми потому, что они сходным образом ведут себя: обрабатывают землю и живут совместно в родовом ойкосе. Гомеровский человек познает себя в сравнении с богами и разными человекоподобными существами. Главной отличительной чертой человека является то, что он питается хлебом. То есть, он не каннибал и поддерживает жизнь, прежде всего, продуктом своего земледельческого труда. Человек – не только земледелец, но и скотовод. Он отличается от диких «людей» тем, что приносит жертвоприношения и ест жареное мясо, потребляя его при посредничестве богов. Без жертв богам «голодно», поэтому они так чутки к аккуратности соблюдения ритуалов.
Понимание человека и его отношения с Богом в данном случае ничем не отличается от христианского: он добывает в поте лица свой хлеб и не забывает о ритуальной жертве для Бога. Совершенно неверно представление о том, что размер милости богов зависел от количественного выражения жертвы. В таком случае все должны были бы стать либо нищими, либо безбожниками, а бедность порицалась бы как недостаточное внимание к богам. В Древней Греции ничего подобного не было. Более того, ветхозаветная жертва выглядела в глазах грека просто ужасно – нужно пожертвовать самым дорогим, выбрав из стада любимого агнца. Что подобно ритуалу даков, которые отправляли посланников к Богу, бросая на копья самых красивых юношу и девушку. У кельтов аналогичный ритуал – принесение в жертву царевичей. Лучшее – Богу. У греков такого не было. Богам – лишь запах жареного мяса, и лишь подземным богам – всесожжение. Ветхозаветное «оправдание» жертвы состоит в том, что она – только подсказанный Богом путь к спасению. В конце концов, Авраам готов зарезать любимого сына – из любви к Богу, которая выше любви к своему дитя. И в этот трагический момент возникает замещение: на жертвеннике оказывается не ребенок, а агнец.
Христианство предполагает заместительную жертву. Прежде всего, в подвиге самого Христа, «умершего за грехи наши». Тем самым обрядовая часть закона Моисея была исполнена, и умерщвлять животных не осталось никакой надобности. На место этому ритуалу пришли совершенно другие способы жертвования Богу – самопожертвование, «что вы сделали одному из наименьших Моих братьев, вы сделали Мне», «возлюби ближнего твоего как себя самого», «нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя». Именно такая этика жертвы присутствует уже в гомеровском эпосе.
Судьба древнего грека предопределяется тем, помнит ли он о богах: один из соперников забыл пообещать жертву богу, а другой не забыл. И пообещавший побеждает, если эти люди вступают в конфликт. Но это в локальных вопросах. Над случаем стоит судьба, которую боги изменить не властны. Да и сами боги непоследовательны. Зевс намеревался помогать троянцам, но уступает мольбам Нестора. Он также воспринимает просьбу Аякса не губить ахейцев в ночном штурме, который намеревались предпринять троянцы. Все это меняет обстоятельства, но не меняет судьбы. Если у христиан волос с головы не упадет без воли Бога, то и у античных греков расчетливость – это гордыня и даже дерзость. Нравственное увещевание, которое греки проповедовали через трагедию и философскую мысль, призывает смирить гордыню и жить по воле богов (то есть, случая).
Боги влияют на второстепенные детали. Приам полагает, что тело Гектора в течение 9 дней издевательств над ним не подверглось тлену, потому что Гектор не забывал приносить жертвы богам. Но эти жертвы не отвратили его гибели от руки Ахилла. Афина отводит копье Гектора от Ахилла, но не спасает Ахилла от смерти в скором будущем – от стрелы Париса. Афродита спасает Париса и, накрыв облаком, уносит от яростного Менелая. Но не предотвращает гибели Париса от отравленной стрелы Филоктета. Судьба предопределена, и, сколь ни моли богов, она не изменится. Также и у христиан Господь имеет свой замысел о человеке, который невозможно отменить никакими мольбами. Важно спасение души, а не человеческие проблемы, в разрешении которых молят Бога. Он разрешает эти проблемы, если они совпадают с Его замыслом, который имеет целью спасение души; и поэтому меняет текущее состояние дел, если человек меняется – делает свободный выбор.
Суеверия, свойственные всем народам во все времена, ничуть не более «ужасны» у древних греков в сравнении с христианами. Древнегреческое трепетание перед хтоническими существами уже у Гомера выглядит анахронизмом – все ужасы обращаются в сказку. И лишь изредка эпическая картина истории подхватывает хтонические (земнорожденные) черты божеств из глубокой древности: мощь Афины, под которой скрипит колесница Диомеда, ужасный крик Распри, сзывающей воинов на бой, крик Ареса мощностью в 10 тысяч глоток, совместный крик Ареса и Афины, разгоняющий войско, размеры раненного Ареса, который, упав на землю, занял семь гектар. В остальном же хтонические существа – вроде Сциллы и Харибды – присутствуют в сказочных сюжетах, которые носят уже не религиозный, а развлекательный характер. Притом что эпос представляет их реально (как и все прочие чудесные события), но никто не обязывает верить всем тем картинам, которые рисует своим изощренным слогом хитроумный Одиссей. Рассказывая небылицы в своей «Истории», Геродот прибавляет то, что мог сказать любой слушатель Гомера: «А вот в это я уже совсем не верю».
Ужасные существа, о которых рассказывают сказки, не объясняют явления природы, а позволяют их пережить. Сказочные образы смягчают ужасы, потому что любое ужасное существо имеет некую слабину, и его можно победить. Отсюда и рождаются героические сюжеты. Образы отпечатываются в сознании как реплики действительности, и сознание придумывает, как разрешить проблему – принять ужасный образ так, чтобы он не сводил с ума и оставлял шанс на победу.
Калидонская охота и подвиги Геракла показывает, что животные – прообразы хтонических фантазий – становятся из демонов предметом состязания. Охота как вид человеческой деятельности бросает вызов природным ужасам и рождает героев, попадающих в эпос вместе со своими подвигами. Уже в гомеровском эпосе все эти образы скорее напоминают, чем пугают. Даже пришедший из глубокой архаики образ сирен развлекателен для самого рассказчика:
Боги микенских ахейцев стали богами всей Эллады, освободившись от элементов хтонизма и представ перед последующими эпохами блистательными антропоморфными существами – сверхлюдьми. Все их странности и проступки были превращены в занимательные и сказочные сюжеты, лишь подчеркивающие роль демиургов, не стесняющих себя никакими условностями, установленными людьми в культах и религиозных догматах.
Разлом между цивилизациями, обозначенный «темными веками», в религиозном плане как будто вовсе не был замечен. Ужасы и страдания оставленной столетия позади эпохи переплавились в высокую поэзию, звучавшую не только у рапсодов, но и в музыке, скульптуре, архитектуре. Давно угасшая цивилизация сформировала сознание эллинов, ее боги и герои заполонили их святилища, отзвуки ее истории стали ее божественной предысторией. И все это перекочевало как высшие образцы культуры в Рим, сохранивший бесценное наследие и положивший его в основу европейской цивилизации. Так и после наших «темных веков» будет кому верить в Христа.
Античные образы точно так же незаметно используются нами, как и христианская этика, воспринятая Россией от Византии. Без того и другого невозможно мыслить продолжение нашей собственной цивилизации. И насколько мы будем владеть этими открытыми для нас сокровищницами, настолько впечатляющими будут наши перспективы как исторического и культурного народа. Сегодня мы не владеем ими, и потому не имеем перспектив. И дело не в экономике или негодных правителях, а в прямом и недвусмысленном отказе каждого конкретного человека и всего народа в целом от религии и понимания ее культурных истоков. Народ нехристей Богу не угоден – и поэтому его история заканчивается.
Религиозность Гомера носит героический характер. Герои – главные действующие лица, а боги лишь сопровождают их. При этом проявляя разного рода слабости: Зевс – нерешителен, непоследователен и невсеведущ, Гера вздорна и лжива, Арес и Аполлон даже людьми обличаются как бессовестные преступники, Афина суетлива. Герои первенствуют уже потому, что боги несовершенны. Что означает: они вовсе и не боги, а неясные образы Единого, поисками которого занимались греческие философы.
Ошибочно представление о греческих богах по их совершенным антропоморфным образам, известным нам по древнегреческой скульптуре. Пока Зевс молчалив и сидит на троне, он может выглядеть совершенным существом. Но стоит ему заговорить, и образ рассыпается. Он вдруг начинает грозить другим богам, напоминая о своей силе. При этом обнаруживается необходимость пригласить сторукого титана Бриарея, когда Гера, Афина и Посейдон выступают против Зевса. Его сила оказывается ограниченной, его непобедимость – сомнительной. На восстания богов, почерпнутые из архаических сюжетов, указывает история о наказании Геры, которую Зевс повесил на облаках связанной золотой веревкой, а к ногам прикрепил две наковальни. Сочувствие богов было в данном случае на стороне Геры.
Афина – главная богиня древних греков – формально находится во втором ряду после Зевса и его братьев, а также Аполлона и Артемиды. Афина гомеровских времен – богиня, чье происхождение очевидно критское. Ее атрибуты – змеи, а «великая мать» критян – прообраз Афины греков. При этом оказывается, что кроме мудрого совета, Афина никак не может вмешаться в судьбу героя. Зевс может – разбив молнией его корабль (и тут же «уснув» и забыв о своей роли в этом эпизоде), Посейдон может – устраивая ужасные штормы. А вот Афина только советует – Телемаху или Одиссею. Причем в начале «Одиссеи» поминается, что Афина имеет копье, которым избивает неугодных ей героев. Но за всю поэму она ни разу это копье в дело не пускает. Афина из богини превращается в довольно странное существо, которое сопровождает сюжет, а не создает его. Она оказывается неспособной быстро выполнить решение совета богов, которым открывается поэма, и вернуть Одиссея домой – после десятилетия мытарств. Вместо божественного повеления Афина отправляется не к Одиссею, сладко томящемуся по Итаке в объятьях Калипсо, а к Телемаху, которого побуждает искать отца. Получается, что Афина – просто божественная мудрость, которой человек одаряется свыше. Это образ посредника между Богом и людьми – точно так же, как Эрот в «Пире» Платона. Ангелы и святые христиан – это тоже посредники.
В греческом предании (мифологии) присутствие героев среди богов и даже выдвижение героев на первый план повествования говорит, что ценностная система у греков претерпела изменения в связи с наступлением «эпохи героев» – периода большой войны, которая могла не прекращаться много десятилетий (Троянская война), а в классическую эпоху повторилась в противостоянии Спарты и Афин. Герой становится центральной фигурой, боги – вспомогательными персонажами героических сюжетов. Лишь «Теогония» Гесиода распределила богов в священной истории и увязала их деяния между собой. Но это не означало образования общепринятой нормы религиозности, в которой оставалось очень много местного. По аналогии у христиан распространены местночтимые святые.
Гомеровским героям слишком много «можно», отчего они страдают и погибают, представляя нравственный урок, а не пример для подражания. Точно так же, как и Ветхий Завет состоит из поучительных притч, требующих толкования. И учение Христа опирается на притчи и придает им смысл.
Гомер ищет и находит богочеловека – человека с элементами божественного и бога с элементами человеческого. Герои несовершенны, иначе они жили бы на Олимпе. Боги несовершенны, иначе им нечего было бы делать среди людей. Поэтому вся греческая мифология (да и вся философия) – это предощущение единого совершенного Бога. И при этом чаяние увидеть его в облике человека, понимающего и испытывающего чисто человеческие страсти.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































