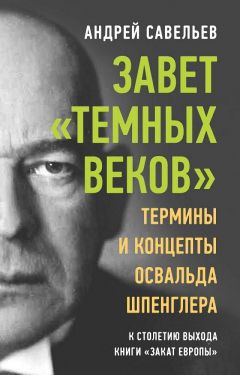
Автор книги: Андрей Савельев
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 45 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Не забудем, что знание языков и культуры античности на многие века было основой образования, обязательного для высших сословий – то есть, нации – в тех политических реалиях. Христианская аристократия была глубоко осведомлена о греческой мифологии и поэтике. Ослабление присутствующей в этом обстоятельстве связи времен в течение последних двух веков сопровождалось и явными процессами апостасии – отпадения от христианской веры.
Непознанность божественного
Древнегреческие верования были раздроблены, но античная религиозность чиста – в ней нет потустороннего бестиария, и всюду – только антропоморфные божественные сущности (которых, впрочем, никто не видел). Даже культ Аида – брата Зевса-Диоса, о котором просто ничего неизвестно – в источниках указывается крайне редко. Весь бестиарий переместился в сказки и сказочную подкладку преданий о героях. Сами предания – история, их сказочный фон – не средство вселить ужас, а только способ развлечь (то есть, не религия, а литература).
У Гомера все творится по воле богов, но не конкретного бога. Собственно, это и стало впоследствии официальной религиозностью, оспаривать которую было опасно для жизни. В личном восприятии мифологических героев почти нет именных богов. Все это «боги вообще». И только когда Гомер представляет сцены божественных сфер, абстрактные «боги» приобретают имена и ответственность за те или иные действия. Фактически боги Гомера для людей – их собственная психика.
Одиссея погружает в сон Афина, но он говорит о том, что это дело божества, которое он явно не знает по имени. То же самое происходит с Пенелопой. Афина помогает Одиссею, но Амфимедонт говорит, что это делает божество. Снова безымянное. Афина омолаживает Лаэрта, но Одиссей говорит в этом случае об абстрактном «боге» – он ничего не знает про Афину и даже никогда не призывает ее на помощь. Афина обеспечивает Телемаху попутный ветер, а тот неблагодарно рассматривает это как деяние некоего бога. Люди если и знают о богах, то очень редко имеют представление о том, что тот или иной бог замыслил или сделал. И когда раздраженный Менелай кричит проклятье Зевсу за то, что тот не дал ему победы над Парисом, это обращение к абстрактному «Зевсу» – к «богам вообще».
Приам не винит Елену за развязанную ахейцами войну, зная, что это воля богов – не конкретного бога. Елена же знает, что обольщению ее Парисом способствует Афродита и другие боги – в целом это божественный замысел, а не план какого-то конкретного божества. Агамемнон винит богов за свою ссору с Ахиллом, Ахилл обвиняет Зевса за безумства Агамемнона – относит безумие к неизвестному замыслу верховного божества. Также Ахилл считает, что не он, а боги повинны в гибели Гектора. Он – только исполнитель их воли. Не конкретного бога, а богов вообще.
Женихи Пенелопы не знают, что рядом с ними стоит черная Кера – погибель. Гектор не понимает воли богов, которые сообщают Полидаманту мысль о том, что наступление надо прекратить. И обвиняет его в трусости.
Из всего этого следует, что ахейцы, а затем и эллины вообще не знают богов. Ни их образов, ни их замыслов, ни конкретных деяний богов. Для них есть «боги вообще», и только в сказаниях о богах возникает какое-то разнообразие. Дела богов в отношении людей непонятны и неизвестны. Более того, люди противятся воле богов. Диомед нападает на Афродиту и Ареса, наступает на Энея, которого защищает Аполлон. Патрокл наступает на троянцев, хотя Аполлон отводит его нападение, и после троекратной попытки Патрокла вынужден издать яростный вопль. Ахилл тоже готов сразиться с Аполлоном. Одиссей сомневается, что без плотного обеда воинам хватит в бою божественной помощи.
Боги могут и не заметить обращенных к ним просьб. Зевс исполнил просьбу Ахилла отогнать троянцев от кораблей, но не исполнил просьбу оставить Патрокла невредимым. Афина не приняла молитвы троянок даровать победу их мужьям. Мольбы Одиссея Зевсу вернуть его домой долго оставались неуслышанными. Оказывается, молить можно только по поводу того, о чем боги уже приняли решение. И очень редко они меняют это свое решение. К тому же, надо знать, о чем просить. Без определенной информированности о ситуации просить богов бесполезно. Пока для киклопа Полифема имя Одиссея – «Никто», он бессилен в своих проклятьях, но как только Одиссей, считая, что находится в безопасности, называет свое настоящее имя, мольбы Полифема доходят до Посейдона, и Одиссею приходится прочувствовать всю опрометчивость своего поступка – объявления своего имени.
У Гомера боги невидимы, но они не бестелесны. Видеть богов – почему-то очень опасно. Тем не менее, простые смертные имеют с богами общих детей, и от этого никакого вреда для себя не получают (видимо, боги приходят в виде «золотого дождя» или иным способом, безопасным для людей). Боги воюют вместе с людьми, и даже получают раны в бою. Собеседник Зевса – критский царь Минос (видимо, беседа заочная). Боги присутствуют на свадьбе Пелея и Фетиды (видимо, присутствуют незримо), Афродита вручает свадебное покрывало Андромахе (что не защищает ее от злосчастной судьбы). Как выглядят боги, никто толком не знает, хотя богообщение, судя по числу общих со смертными детей, достаточно часто. Боги появляются среди людей обычно в виде странников. Или, если точнее, проявляются – в незнакомых странниках или в знакомых достойных людях. И лишь немногим народам дозволено видеть богов – феакам, киклопам и диким гигантам. Причины такой избирательности неясны. Поскольку феаки набожны, а киклопы знать не знают богов (за исключением Полифема, которому рассказали, что он сын Посейдона, но знание его об этом нетвердо).
Самое поразительное в гомеровских богах – это их вполне человеческие пороки. Зевс становится центром семейных склок, и при всем своем величии чуть было не лишается власти, ибо надоел другим богам. Афина постоянно морочит ему голову и без стыда признается перед Одиссеем в своей лживости: «Ведь оба с тобою // Мы превосходно умеем хитрить». Хитроумный Одиссей, выдумывающий небылицы для людей, подражает своим лукавством Афине. И только так – из аналогии – люди хоть как-то понимают, что такое боги.
Следовательно, культ – это лишь ритуал, который страшно нарушить, исходя из принципа «как бы чего не вышло». Что, собственно, может выйти, толком неизвестно. В общем – все, что угодно, из набора, представленного в мифах. Любой бог может сотворить все, что угодно, их власть неспецифична, а оттого, как замечает Шпенглер, древние греки практикуют культы, но не принадлежат к ним – нет никаких античных религиозных общин. Поклоняются божеству места, у которого есть имя какого-либо бога с прозвищем, соответствующим данному месту. Человек обязан верить во всесилие именно этого божества, а перемещаясь в другое святилище – во всесилие другого божества. Совокупно во всех божеств древний грек верить не может, ибо тогда гений места может ему навредить. Есть только иерархия популярности святилищ, не более того.
И все это очень похоже на современные христианские верования – храмы своеобразны тем, что приписываются не столько Христу, сколько различным святым или архангелам. Из католических храмов Христос зачастую вообще вытеснен изображениями Богородицы. Молиться в популярном храме или более популярному святому считается порой важнее, чем молиться Христу – как будто Бог может не услышать человека, будучи занят, а вот святого непременно послушает. Получается, что Бог-то один, но у него с людьми какие-то непростые взаимоотношения. Храм или икона могут быть «намоленными» и «ненамоленными» – почему-то первые ближе к Богу в сравнении со вторыми. Так и у греков более древние изваяния считались более ценными, даже если они были примитивными. Это означает переживание собственно истории вместе со священной историей.
В христианстве невероятное множество святых и различных Небесных сущностей. Включая и те, имена которых неизвестны, – скажем, архангелов, число которых точно не установлено, и не вполне понятно, каким образом возникло почитание не только указанного в Библии архангела Михаила, но и других архангелов, часть из которых поименована по пророчествам святых. Все очень сходно с античным порядком, в котором есть «неизвестный бог (боги)», есть более или менее популярные боги, есть верховный бог Зевс, которому почему-то молятся гораздо реже, чем другим богам, и далеко не во всех храмах Зевса вообще вспоминают.
У греков облик богов неустановлен, но все же греки хотели быть сотворенными «по образу и подобию» – искали возможностей изображать богов как людей, и – в конце концов – решили так и поступать. При этом пришлось придерживаться некоего канона изображения лиц богов, поскольку они не могли быть разными – более привлекательными для одних, менее привлекательными для других. Силы Небесные, впрочем, у христиан тоже не имеют точного облика: если ангелы и архангелы антропоморфны, то серафимы и херувимы скрывают свой лик за скрещенными крыльями. Что такое «силы», «власти», «престолы» и так далее понять уже совершенно невозможно – скорее всего, для людей они не представляются в каком-либо образе. Как и Бог-Отец, который изображается на иконах лишь условно. Как и Дух Святой, который является в виде голубя или огненных языков – это, скорее всего, также условность (на разных языках Святой Дух может быть мужским, женским или средним родом). Тем не менее, Святой Дух имеет личное начало, а не является атрибутом Бога-Отца, от которого исходит. Троичность, однако, олицетворена только в облике Христа. Попытки найти место Духа Святого в Небесной иерархии признаны ересью. Это один из ликов Троицы, но его облик нам неизвестен или не может быть изображен человеческими средствами. Это подобие «золотого дождя» у древних греков – символа, который никто не видел.[Ч
Главное отличие Небесного мира христиан в том, что он заселен множеством исторических персонажей – Христос, Богородица, пророки, святые. Все они имеют свою судьбу и в земной жизни (житие – более или менее достоверная биография). Если облик Христа сегодня приблизительно может быть реконструирован по плащанице, то облик Богородицы, апостолов, пророков и святых, несмотря на множественные иконографические изображения, остается условным. И только примерно столетие назад фотографические изображения могли сохранить облик того, кто после смерти был канонизирован. Таким образом, лишь совсем недавно появилась возможность зримо представить себе обитателей Царства Небесного. Редчайшее исключение из более отдаленных времен – облик Николая Угодника, имеющего в иконографии некоторые портретные черты.
В религиозной повседневности мы видим в христианстве своеобразный «эллинизм». Что и не удивительно. Ведь христианство родилось вовсе не в изолированном анклаве. Иудея и Израиль были многоплеменными государствами, хотя позднее их населению и приписано имя «евреи». Здесь было множество различных восточных верований, которые к временам Христа сильно эллинизировались. С проповедью христианства апостолы отправились, прежде всего, к грекам и римлянам, язык которых хорошо знали.
Осмысление собственных верований приводило греков к монотеизму. Их философские штудии, как правило, вообще не обращали внимания на богов, исследуя божественное. Мы очень мало знаем об этом – от философии греков сохранились (как и от всего остального) лишь обрывки. Но ни у Платона, ни у Аристотеля мы не видим никакого интереса к политеизму. А в диалоге Платона «Пир» умозаключения Сократа доказывают, что Эрот не бог, а посредник между людьми и богами. По аналогии подобные размышления должны определять всех богов древних греков как посредников между единым и единственным Богом и людьми. Философия Сократа, за которую судебным решением он был принужден к самоубийству, это «демоний» – в нем нет богов, но есть божественное. В Элевсинских мистериях есть то, что потом оказалось и в христианстве – бессмертие души и посмертное воздаяние за праведную жизнь. И здесь нет никаких богов, кроме Деметры и Персефоны (чисто сюжетно упоминаются, но не прославляются Плутос, Геката, ипостаси Диониса – вроде Иакхоса, Тлептолема и других). Здесь нет ничего общего с унылым Аидом Гомера, нет никакой теогонии, известной от Гесиода.
Божественный мир, как для античных греков, так и для христиан, является в основном невидимым, невыразимым и непознаваемым. У греков история этого мира известна только по некоторым мифологическим эпизодам, у христиан – только по низвержению Люцифера (Творение, Богоявления, Воскресение связаны непосредственно с земной жизнью). У древних греков теофании возникали в воображении только до тех пор, пока трагедия оставалась сходной с ритуалом. При этом она разрушалась комедией, позволявшей пережить эту теофанию, упростить и даже опошлить. На Руси же сатирические изображения священства отражали его неразвитость и поверхностность в своем деле, а порой и горькое сожаление о том, что храм пуст и холоден – в нем не призывают Бога всей душой.
Греческий ритуализм самодостаточен: он есть напоминание, а не переживание. По сути дела, у древних эллинов так и не образовалась догмата и не сложилась универсальная священная история. Культы всюду были разные, но, в силу интенсивного взаимодействия между полисами (от торговли до войны), сложилась общая культура. Место религии в ней заняла философия, а в самой философии выделилось искусство полемики, которое и стало признаком образованности. Тем самым религия не превратилась в источник национального самосознания, и по этой причине эллины не сплотились политически, не образовали нацию в масштабе своей цивилизации.
То, что Шпенглер называет «магической нацией», также не имеет политической солидарности – это община верующих, не знающая родины и политических границ. Такова «арабская нация» в период становления халифата. Шпенглер полагает, что некая «арабская культура» на своих западных границах была придавлена Римом, отчего Ближний Восток в культурном отношении стал псевдоморфозой: по форме – римскими провинциями, по культуре – местом рождения и стремительного развития нового синкретизма, новых наций.
В данном случае не стоило бы употреблять термин «синкретизм», который означает смешение различного. Правильнее было бы говорить о «синтезе» – слиянии в новую целостность того различного, что позволяло переступить через синкретизм. При множестве духовно-религиозных экспериментов, на пограничьях культурных ареалов возникло христианство и охватило всё европейское человечество. Иные духовные практики оказались потомкам ариев и европейских автохтонов чужды. И это был не случайный и не рациональный «выбор вер», а душевно-духовная готовность принять именно учение Христа, сложившаяся еще в античности.
Шпенглеровский «античный человек» оказался гораздо более склонен к христианству, чем «магический человек». У него любовь к истине не отторгла любовь к родине. Теперь же античность оказывается гораздо ближе к Христу, чем современный религиозный формализм, отодвинутый на периферию сознания или превращенный в набор правил, которыми можно самого себя определить в святые. Поиск своего пути к Богу, который есть Истина и Любовь, для современного человека перестал быть делом всей жизни. И без Бога современность отыскивает не путь к бессмертию, а путь к полной и окончательной погибели.
Культ героев
«Илиада» и «Одиссея» отражают полностью сложившиеся героические культы, остававшиеся неизменными вплоть до V в. до н. э. – до наступления «классической» эпохи. Культ героя представлял собой трансформированное почитание предков, консолидирующее демос вокруг прославляемых типовых фигур, заменивших многочисленные семейно-родовые культы.
Греки не испытывали смущения от того, что в их любимом эпосе оружие сплошь медное, а герои разъезжают на вышедших из употребления колесницах. Они прекрасно понимали, что это другие времена – «времена героев», в которых мир был другим. И одновременно это – их мир, который они узнают по многим признакам, включая культы богов и героев. Две реальности совмещаются в эпосе через оставленный без упоминания культ героя (за исключением похорон Патрокла с признаками глубокой архаики). И сами поэмы Гомера – тоже своего рода культ.
Классическое время для древних греков – это время не героев, а фаланги. Личная доблесть отмечалась, если она не противоречила сплоченному военному коллективу. А если противоречила, то это отмечалось как недостаток, и решение о первенстве в проявлении героизма в битве отдавалось тому, кто не покидал строй.
Культ героев оказался в рыцарские времена более актуальным, чем культ воинского порядка. Да, в битве решающую роль продолжал сохранять боевой порядок, утрата которого влекла за собой почти неизбежное поражение. Но индивидуальная доблесть оценивалась отдельно – выше, чем безличная позиция в боевом порядке. Потому что боевой порядок – всецело принадлежность военного вождя, полководца, царя. «Себе чести, а князю славы» – это формула из русского «Слова о полку Игореве» является универсальной и подчеркивает коллективное приобретение статуса дружиной и индивидуальное возвышение ее главы. Честь распространяется на сословие (у Гомера – на своеобразное «сословие героев»), слава принадлежит только суверену.
Древнее предание о том, что герои ведут свой род от богов, требовалось подтверждать личными подвигами. И, если они «богоподобны», то и сам герой «богоподобен». В христианстве все христиане, если они того хотят, – чада Божий. Но отсутствие специальной статусной позиции для героя становится проблемой: индивидуальный героизм, насыщающий воинскую службу славой, смазывается. Хотя «воин Христов» – изредка встречающаяся формула – она не делает христианского воителя ближе к Богу. И это – упущение христианской традиции, богословской мысли.
Гомеровские «герои» более жестко противопоставлены «полубогам», имеющим этот статус по рождению. «Герои» уже не вписываются в прежний мифический сюжет, а разрывают его. Герой вклинивается в отношения богов и вмешивается в их конфликты. Суд Париса вносит раздор между превознесенной им Афродитой и оскорбленными Герой и Афиной. В этом сюжете обозначен общий принцип равновесия: при многобожии хвала без хулы не существует. Восхваляя Афродиту, тем самым хулишь Геру и Афину. Что подтверждает: у греков не было актуального многобожия. Каждому божеству предназначался обособленный культ и обособленная религия. Попытка свести богов в одном сюжете неизбежно порождает конфликт – если он существует на Олимпе, то отражается и среди людей. И тогда боги – как люди, только бессмертные. Следствием подобного «обмирщения» может быть только «гибель богов», наступление «темных веков». Именно это и произошло после крушения Микенского мира. Заново открыть для себя божественное – богов с теми же именами – удалось лишь через три столетия.
Таким образом, культ героев приемлем, лишь когда он не порождает конфликта в мире богов. То есть, этот мир строго иерархичен и, по сути дела, является проявлениями одного и единственного Бога. Чтобы подчеркнуть идеальность Небесного, служит сюжет о низвержении Фосфороса-Люцифера, который лишается своего светоносного статуса не в порядке наказания, а автоматически – в результате отпадения от воли Божией он «сам» низвергается в преисподнюю.
Этот единственный «герой» христианской догматики создает сомнение в достоинстве героизма в целом. Хотя достоинство недеяния – одно из глубинных проявлений мудрости и духовной героики, но Христианский мир должен найти для героев место на Небесах. Оно обнаруживается для Георгия Победоносца, Дмитрия Солунского, Андрея Стратилата, но в роли мучеников, а не воинов. Собственно, их боевой статус тем самым отрицается: в битве они имеют только тщетную мирскую славу, и лишь в смерти получают свое достоинство. И только иконография требует: воин должен быть изображен именно в воинском достоинстве – при оружии и во вдохновенном героическом порыве – сражающимся со Злом.
В результате сходства в греческом эпосе герои и боги противостоят друг другу. Антагонизм сопровождается культовым симбиозом, образуя мифический сюжет. Притом что гнев Аполлона убивает сына Ахилла Пирра (Неоптолема) в собственном святилище, герой прославляется в Дельфах как культовая фигура. Поверженный враг бога подчиняется ему в культовом действе и тем самым обретает священное достоинство.
Деяния Геракла в гомеровских гимнах (скорее всего, приписанных Гомеру) именуются как «отчаянные». Аналогичной характеристикой наделяются самые кровавые деяния Ахилла в «Илиаде». Герой оказывается аморальным и преступным. Его оправдание лишь в том, что он готов жертвовать собой ради славы, чем отличается от обычного человека. Ахилл утверждает, что все богатство, которое можно добыть в Трое или в Дельфах, не стоит его жизни. При этом он готов пожертвовать жизнью ради kleos aphthiton – «нетленной славы». Парадоксально, но слава – вовсе не связана с представлением о вечности, а означает лишь материальное благосостояние и «возвращение домой» (nostos), определяет именно вечность жизни. Личное бессмертие в греческой архаике связано с материальным благополучием. Срок жизни (aion) становится неопределенно долгим, если герой возвращается домой.
Ликийский царь Сарпедон говорит, обращаясь к своему соратнику Главку, что почести (time) – такие как особое место на пиршестве, отборное мясо и полные чаши, а также выделение священного надела земли (temenos) с прекрасными виноградниками и хлебородной пашней – это награда за то, что они стоят в первых рядах воинов и приносят с собой подлинную силу и славу. В этом отрывке «Илиады» просматривается несколько пластов реальности – общинная и мифическая. Социальная роль царя – быть в первых рядах и доказывать свою славу в битвах, за что полагается и особый имущественный статус. Мифическая роль – быть богоподобным символом бесспорного превосходства над соплеменниками. Если учесть, что эти слова приписываются Сарпедону постфактум, то можно предположить, что социальная роль со смертью отпадает, а мифическая превращает героя в божество, чья слава подобна божественной, но зависима от демоса, учредившего культ. Имущественный статус переносится в ритуал: герою жертвуют отборные куски мяса, a temenos в данном случае означает уже «священный участок, святилище». Time у героя есть еще до смерти, а после смерти, попадая в эпос, он получает kleos – посмертную славу. В эпосе и культе то и другое становится «нетленным». Бессмертным не стать, если не умереть.
Из этого следует особая роль эпоса. Без эпоса бессмертная слава отсутствует. Эпос есть способ передачи эмоционального единения с героями – олицетворением прежних поколений предков. Никакие изваяние не заменят искусства декламации эпоса и сопереживания актеров и слушателей. Это тот самый культ, которого не хватает в христианстве, чей пантеон переполнен забытыми святыми, в память которых повторяют разве что их имена.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































