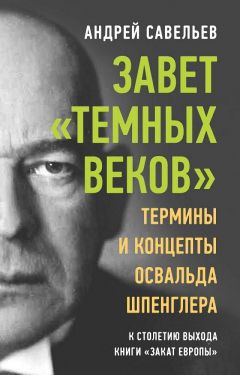
Автор книги: Андрей Савельев
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 45 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Псевдоморфоза
Шпенглеровская концепция культурно-исторической псевдоморфозы может быть прията только после серьезнейшей поправки, исправляющей превратное представление философа об империях. Псевдоморфозой он называет доминирование чуждой культуры, которая не дает сложиться собственному самосознанию и подавляет все самобытные культурные формы. В силу чисто немецкой мелкодержавности, Шпенглер приписывает империям – самым крупным субъектам мировой истории – именно эту деструктивную функцию.
Империю Александра Македонского и проблемы эллинизма и ответного превращения эллинской культуры в набор путанных синкретичных культов Шпенглер просто игнорирует. Между тем, именно здесь и следует говорить о псевдоморфозе – непрочном и искаженном усвоении чужих культурных норм, становящихся своего рода модой, но не основой мировоззрения. Синкретические культы как раз и есть псевдоморфоза, а эллинизм Ближнего Востока и Египта – это следствие не столько моды, сколько мировоззренческого перелома, который не угнетает, а возвышает культуры.
Римскую Империю Шпенглер считает связанной уже не с культурой, а с цивилизацией, а римские культурные формы – подавляющими то, что он называет «арабской культурой», а мы назвали бы «ближневосточной культурой». Тем самым культура как бы отделяется от истории, из нее исключается культура политическая, достижения государственно-правового творчества и геополитика, охватившая огромные пространства. Упадок в разных концах варварской периферии и был псевдоморфозами, а римский порядок – напротив – подъемом этой периферии до высших культурных форм, которые она сама не в состоянии была породить. Мощь Рима склоняла к усвоению этих форм и в целом римского стиля. А у Шпенглера уже времена первых римских императоров связаны с «эмансипацией Востока от делающегося неисторическим Запада». Он считает, что в битве при Акциуме должен был победить Антоний, и в его лице «арабская» периферия, магический дух и халифат. Несомненно, это было бы громадной мировой катастрофой, а вовсе не раскрепощением культуры.
Культурный стиль Российской Империи Шпенглер считает совершенно чуждым русскому народу и противоречащим его «примитивности» (соответствовал ей, будто бы, «примитивный московский царизм»). Именно этот стиль он и называет «псевдоморфозой», демонстрируя плохое знание русской истории и русской культуры, которая впитала все, что было имперского в распавшейся на небольшие или вовсе крошечные государства Европе, перехватив у европейских народов имперскую миссию. «Народу, предназначением которого было еще на продолжении поколений жить вне истории, была навязана искусственная и неподлинная история, постижение духа которой прарусскостью – вещь абсолютно невозможная. Были заведены поздние искусства и науки, просвещение, социальная этика, материализм мировой столицы, хотя в это предвремя религия – единственный язык, на котором человек способен был понять себя и мир; и в лишенном городов крае с его изначальным крестьянством, как нарывы угнездились отстроенные в чуждом стиле города. Они были фальшивы, неестественны, невероятны до самого своего нутра».
Трудно найти что-то более нелепое о русской истории, в которой города были самым естественным явлением со времен «Гардарики». На Руси любой город был сгрудившимися помещичьими усадьбами – большими деревнями. Как все эти высказывания у Шпенглера похожи на безумия русофобии наших времен, охвативших Россию как эпидемия чумы!
Византийское христианство усвоилось русской душой, проникнув в ее глубины, а европейский костюм, введенные Петром Великим для дворянства, лишь демонстрировал переход в статус Империи – наглядно его декларировал. Ни глубины народной души, ни русской культуры он не затронул, поскольку действительный взлет этой культуры полностью уложился в XIX, отмеченный становлением русского литературного языка, классической русской живописи, классической русской музыки. Не говоря уже о самом впечатляющем образце культуры государственно-правового строительства, далеко опередившей европейские стандарты. Псевдоморфозой для России стал СССР – со всем его антикультурным «стилем», давившим что есть силы наследие Империи, и так до своей кончины и не додавивший. Уже русский народ умер, а русская культура еще жива и оставляет надежды на русское возрождение после «темных веков».
Полностью прошел Шпенглер мимо быстротечной, но величественной истории Испанской Империи, которая была действительным наследником Первого Рима. В отличие от Священной Римской Империи, погрязшей в мелкодержавии и борьбе папства с царством, Испанская Империя шагнула через океан и создала целый цивилизационный регион – Латинскую Америку, возвысив ее до форм высокой культуры. Именно здесь была доблесть и порыв фаустовского человека, а вовсе не в англо-французских и франко-германских распрях.
Самой масштабной псевдоморфозой наших дней является американизм, проникший всюду, но изувечивший больше всего Европу и Россию. Именно американизм и его своеобразный повтор советского интернационального заражения национальных культур – самый большой враг европейских наций. В нем и безвкусица, и разложение нравов и чувства прекрасного, и подмена духовной полноты переживания культуры развлечением без переживания, и антигосударственные, антинациональные, антиобщественные инициативы.
Шпенглер, как оказывается, совершенно не понял русской литературы, объявив Достоевского крестьянским писателем, а Толстого городским. В действительности Толстой – это сельский помещик, и его герой – не адъютант-аристократ Андрей Болконский, а артиллерист штабс-капитан Тушин, повторяющий то, что Толстой сам пережил и отразил в «Севастопольских рассказах». Болконский в романе «Война и мир» перед Бородинским сражением говорит дикие для Толстого слова, о том, что надобно не брать французов в плен. Чаяния высшей аристократии для Толстого совершенно чужды.
И его роман «Анна Каренина» – это перенесенная в высший свет совершено провинциальная интрижка.
Напротив, Достоевский – это исключительно городской писатель, и его повествования исключительно городские. Переживания его героев – это муки рождающейся нации и предвидение краха: «Алеша убьет царя» – так Достоевский пишет о своем герое, которого представляют чуть ли не идеалом задушевного русского человека, русского монаха, антиподом собственным братьям, чьи мятущиеся души преступны, потому что уступают бесам. Но уступают в малом. Алеша – это сельская душа, которая будет сломлена, как и Россия, в момент наивысшего расцвета.
Не имеет смысла детально разбирать шпенглеровские нелепости о России и русской литературе. Он остался в рамках незнания-ненависти к России, которая переняла от Европы славу творца европейской истории. Европейскому местечковому чувству требовалось доказать себе, что все это какое-то недоразумение, что история – это достояние, попавшее не по заслугам каким-то «примитивным» людям.
Рим спас Европу от Аттилы и цивилизовал германцев и галлов. Испанцы спасли Европу от мавров и исламо-иудейского синтеза в религиозной жизни. Россия спасла Европу от Орды и очистила ее от турок, приняла на себя удар безумств Наполеона и Гитлера и уничтожила их. Без этих побед никакой европейской культуры не существовало бы. А сами эти победы вдохновили культурное творчество, не позволив «арабским» псевдоморфозам стереть или исказить самобытность европейских национальных культур. Зато эти псевдоморфозы медленно и постепенно разлагали властные институты, заразив их иной этикой. И весь XX век – это выживание подлинных религии, культуры, народности вопреки властвующим кругам – как в европейских государствах, так и в СССР. Теперь же духовная гангрена распространилась повсеместно, и население приобрело те же черты, что давно уже сложились у европейских правительств.
Узость и ширь
Запад готов был стиснуть в железных объятиях весь мир, и на короткий период это получилось – до тех пор, пока Запад не самоистребился в мировых войнах, став из глобального явления локальным. Но даже в этот короткий период ему не покорилась Русь – она сама готова была обнять весь мир и была Империей, прежде всего, высокого духа. Европа, переродившаяся после того, как в нее был запущен вирус ростовщичества, поделилась им с недоступной Россией, и это вирус поразил дух русского человека, который не стал ростовщиком, но превратился в западника – объект порабощения ростовщическими технологиями. Именно по этой причине СССР стал великой угрозой всему миру, как была недавно Европа, передавшая эту миссию также и США. Русский дух скрылся в малых группах и тайных уголках души. От широты русской души не осталось ничего. Разве что унылые воспоминания тех, кто все еще является носителем ценностей древнерусского культурно-исторического типа.
Узость европейской доминанты определялась ее расизмом и расиализмом: все неевропейские народы были для европейцев «не вполне люди». Широта русской души, напротив, всех считала равными себе и достойными того, чтобы принять в себя русский дух. Оба цивилизационных ориентира стали губительными крайностями. Европа погубила других, Русь погубила сама себя.
У европейцев интерес к истории был модой, у русских – частью вероисповедания. Поэтому европейские революции отрицали только социальный порядок, а «русские» (антирусские) революции отрицали всю историю России. Европейская узость видит «золотой век» культуры только в истории европейских наций – в своем собственном настоящем, русская широта видит «золотой век» в прошлом и будущем – не только своем, но и всего человечества. Сохранись русский дух – и Россия не знала бы предела и была бы любима всюду.
Часть этой любви пришлась на СССР, но угасла повсеместно: это была не широта, а хитрость, которая перехитрила сама себя и ушла в историческое небытие.
Только фаустовскому мировоззрению Шпенглер приписывает оценку человека по характеру – целостному опыту оценки его деятельности, направленной как вовне, так и внутрь. Но само представление о характере происходит не от фаустовских людей, а от древних греков. О характерах, правда преимущественно по внешним признакам, писал Аристотель – представляя в своих описаниях, скорее всего, конкретных своих оппонентов: их внешние черты и их манеру поведения. То же касается воли, которая по Шпенглеру есть картина души. Думать, что греки не имели представления о воле – это значит расписываться в том, что нам недоступно понимание героев Гомера или героев древнегреческой истории. Хотя греки и не пользовались нашими понятиями, мы в своих понятиях вполне можем описать их характеры. Были характеры, значит, были и описания. Пусть и в других терминах и понятиях, но это лишь проблемы смыслового перевода, которые касаются любых языков.
Шпенглер находит множество того, что из античной культуры не было передано (как он думает) в культуру западноевропейскую. И все это считается, по крайней мере, «иным», если не «чужим». В античности нет «характера» – сравнительные жизнеописания Плутарха содержат только хронологически выстроенные «анекдоты». Красота в понятии аполлонической культуры – это публично явленная осанка, величественный жест, «персона», «равнение на пластический идеал бытия». Оба эти воззрения Шпенглера – попытка оправдать обратный перекос: психологизм, заменяющий факты, оценки, превалирующие над сюжетом. Так поток биографических событий выстраивается под задачи биографа, который навязывает свою трактовку событий. Что касается осанки, то эти рассуждения следует отнести к впечатлительности от публично выставленной скульптуры, задавшей стиль также и современным памятникам – они точно также имеют осанку, отражающую публичный статус изображаемого (если, конечно не обсуждать «современное искусство», которое по отношению ко всему остальному искусству является его опошлением, осквернением и отрицанием).
Несложно при недостатке информации найти различия между древнегреческим и современным европейским, которые, будто бы, делают их не связанными между собой явлениями и даже противоположностями. Греческий театр – это продолжение мистерий, это надмогильный плач, это речитатив с минимальными эмоциями. Греческий театр это один, два, потом три актера, чьи лица закрыты масками, чтобы не было видно никакой мимики, а тела закутаны длинными одеждами, чтобы минимизировать движение. Что же это для современного западноевропейца? Скучнейшее действо, в котором нет того, к чему он привык – развлечения. Грек приходил в театр снова пережить священную драму; европеец приходит в свой театр, чтобы растревожить заснувшие эмоции.
Попробуйте прочитать гекзаметр Гомера с эмоциями шекспировской драмы. Ничего не выйдет, кроме стыдной пародии. Представьте себе, что в греческий театр пришли сценические пляски современности. Грек расценил бы это как святотатство. Так же он воспринял бы и игру голосом и лицом, которые подменяют воображаемый им персонаж конкретным артистом, который в этом случае превращается в самозванца.
Аполлоническая трагедия – это напоминание, а не творение. Она оперирует тем, что известно любому греку, который прекрасно знает с детства сюжет, интерпретированный в трагедии, знает по именам всех героев. Он переживает в трагедии то, что привык переживать с юных лет – священный трепет перед судьбой и сочувствие тем злосчастиям, которые постигли не выдуманных, а исторических персонажей.
В современном театре дозволено играть известных исторических персон вразрез с тем, чем они были – искажая до неузнаваемости их внешность, придавая им совершенно не свойственные им характеры. При всех условностях театра и кинематографа это осквернение памяти, выставление истории на посмешище. Император представляется скоморохом, святой – психически больным, воин – палачом, и так далее. В современном театре есть границы интерпретаций, но его основа – выдумка. Греческий театр – это не выдумка. Это переживание мифической реальности. Не выдумка, не зрелище, а священнодействие. Именно из него и вырос театр наших дней. Из того, что священно. И театр остается театром только в том случае, если священный исток не забыт. В противном случае это не театр – из него уходит даже воображаемая подлинность. И остается только набор эстрадных номеров, где ничто не завораживает, не заставляет сопереживать.
Отказывая грекам в ощущении и понимании истории, Шпенглер приходит к утверждению, что человечество казалось им «неизменной массой». Тем не менее, греки хорошо отличали более ценные для них древние изображения божеств от более поздних. В гомеровском эпосе присутствуют черты микенских времен периода купольных гробниц, которые любой грек мог отличить от того, что видел вокруг. Не говоря уже о культурных границах, которые с полной очевидностью присутствуют в «Истории» Геродота. И там же присутствует, пусть и примитивная, историософия: попытка понять причины войн между греками и персами – с чего Геродот начинает свой труд.
Шпенглер не хочет видеть в древнегреческой истории какой-либо «логос»: «…все города и городишки боролись друг с другом до полного уничтожения без плана, без смысла, без пощады, тело против тела, из какого-то абсолютно враждебного истории инстинкта». С этим совершенно невозможно согласиться. Борьба за гегемонию между Афинами и Спартой имела совершенно отчетливый смысл с обеих сторон – контроль морских и материковых путей для подчинения торговли и утверждения своих интересов в греческих полисах. Война Спарты с Аргосом также была обусловлена борьбой за гегемонию: аргосцы препятствовали спартанцам в выходе в Северный Пелопоннес и Центральную Грецию.
Помимо этих – отнюдь не инстинктивных – интересов, греки остро переживали покушение на их честь. Шпенглер ошибался, когда писал, что греки были далеки от того, чтобы сделать борьбу этическим принципом. Он считал, что вся эта межполисная борьба велась вопреки известному тезису Гераклита: «Война отец всего, царь всего; одних она явила богами, других – людьми; одних она сделала рабами, других – свободными». Война неизбежна и судьбоносна, хотя, как считали некоторые философские школы греков, от нее можно и нужно отказываться. Что же еще может столь ярко представлять этический принцип, лежащий в основе борьбы, как не столкновение мнений о том, есть ли в войне смысл и возможно ли от нее отказаться?
Осквернение святилищ, захват пленников, неуважение к послам – все это становилось причиной ожесточенных столкновений, в которых вовсе не было стремления к тотальному уничтожению. Спартанцы вообще не имели привычки преследовать опрокинутое и бегущее войско противника. Мы не знаем тех, кто стер с лица земли микенские города с их огромными дворцами, но зато мы хорошо знаем, что полностью разрушить древние Фивы приказал Александр Македонский, который применял такую же практику в своих походах против персов. Вот это, действительно, была бессмысленная и беспощадная жестокость, которая у греков встречалась крайне редко.
Фаустовский императив Шпенглер видит в основополагающем принципе борьбы – подавлении сопротивления и самоутверждение. Да, в западноевропейской цивилизации эта борьба более беспощадна и имеет множество изощренных обоснований и зафиксированных исторических примеров.
Но все то же есть и в древнегреческой истории, не говоря уже о Древнем Риме, история которого – просто кладезь военных и политических сюжетов, вполне понятных для современного европейца.
Шпенглер декларирует отказ признавать античность предысторией современной ему Европы. И это одна из множества попыток отсечь прошлое, объявив его чужим или несущественным. Что свойственно революционному мышлению, в котором разумным и нравственно оправданным считается ниспровержение прошлого и начало истории с чистого листа. Потратив на обоснование своего варианта усечения истории много сил, Шпенглер проявил фантастическую эрудированность и вовлек в свои рассуждения огромный материал, в том числе и античные источники и исследования античной истории и культуры. Тем самым он опроверг сам себя: его доводы потребовали расценивать античную историю как средство возвысить «фаустовскую» культуру и личность. Без этой оппозиции Шпенглер не нашел бы средств оттенить преимущества культуры в обозначенных им самим временных и пространственных рамках. Но тем самым он включил античность в круг самых обсуждаемых культурологических тем. И это значит, что европейская история без античности малопонятна и трудно объяснима.
Шпенглер слишком привязан к пространству. У него все архитектурные формы должны быть интерпретированы именно в пространственных эпитетах. Готические соборы возносятся, купола мечетей – накрывают… Каким эпитетом оснастить «луковицы» русских соборов? У Шпенглера они «торчат», как будто «приземляя» в плоскость строения, над которыми возведены.
Западные философы всегда очень плохо знали Россию или вообще ее не замечали. И Шпенглер – не исключение. Он позабывает тысячелетнюю историю русского православия и ее византийские корни. Он забывает, что русская религиозность гораздо древнее немецкой-протестантской. Поэтому просто не находит в русской церковной архитектуре никакого стиля – только предвестие стиля. Может быть, он даже на картинках никогда не видел Покрова-на-Нерли или храм Василия Блаженного. Он просто не заметил стиля, ничуть не менее древнего и глубокого, чем готический.
Русские соборы непространственны. Они – здания-воины. Русский пятиглавый собор с колокольней – это дружина. «Луковицы» – это шеломы, шлемы воинов Христовых. А не «торчащая» невнятность, так и не ставшая ни шпилем, ни куполом.
К сожалению, Шпенглер не заметил и того, что произошло с русским стилем в XIX веке, полагая, что Россия находится в междустилье. Ему не хватило глубины, дальности взгляда, чтобы заметить, как русское искусство перекрыло европейское, закончив ученичество у него во всем – в живописи, в музыке, в светской архитектуре. А уж в воинском искусстве России и учиться не нужно было. Она сама была учителем европейцам. Христианство же на Руси было самобытным с самого начала. Оно чуралась западного манера исповедания веры, считая его даже скорее постыдным, чем опасным для себя. И в Расколе изжила оба уклонения – как светско-протестантского, так и католически-иерархичного.
Русская историософия не требует такого напряжения рассудка, поскольку легко определяет Русь как продолжателя линии Византии, а Византию расценивает как продолжателя одновременно и Древнего Рима, и Древней Греции. Таким образом, вся античность – наша предыстория, и в этом нет ничего постыдного для нас и никакого ущерба для понимания особенностей русской культуры и русского исторического пути. Это поистине имперская широта исторического сознания, совпадающая с широтой русской натуры. К сожалению, то и другое было растоптано и физически истреблено в революциях и войнах XX века, и теперь отказ от истории – не только античной, но и собственной – самое обычное состояние ума среднего русскоязычного россиянина. Одни вычеркивают всю историю до 1917 года, другие до 1991 года, третьи считают, что история Руси вообще не начиналась, потому что «русские всегда были рабами» (и откуда в таком случае у русских набралось сил на Империю и одну из ведущих экономик мира?).
«Темные века» русской истории, государственности и культуры, несомненно, будут гибельны для всех секвестирующих типов исторического сознания – они самоистребительны. Поэтому русское будущее никак не связано с доминирующими ныне воззрениями на историю и политическими склоками вокруг символов различных исторических эпох. Отрицание истории сменится ее принятием не в результате победы историзма, а в результате вымирания всего, что неисторично, что не приемлет историю. Поэтому самый надежный рецепт сохранить русское самосознание – решительно принять как свои античную, византийскую и русскую историю до момента ее насильственного прерывания в 1917 году. Стремление вернуть себе историю выжигалось и вытравливалось из русских людей – сначала методом тотального истребления всех носителей исторической памяти, потом – замещающей память пропагандой, которая с нарастающей интенсивностью работает и теперь.
Та незначительная группа поистине русских людей, что пройдет через «темные века» с прежним, дореволюционным культурным стандартом, принятым как незыблемый догмат, составит ядро будущей русской нации в новой исторической реальности. Русским не надо и просто поздно кого-то убеждать или побеждать. Русским надо сохраниться, отделившись от падающей в пропасть эпохи.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































