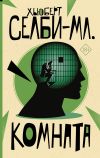Читать книгу "Сестры Карамазовы"

Автор книги: Андрей Шилов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Телефон Господа моего
Свои первые стихи я назвал просто – «Владимир Ильич Ленин с ликом на запад и выходом в треугольник», посвятив нежнейшие зарифмованные рулады маленькому лысому лучику света в непролазной кромешной тьме прошлого, о котором вычитал в какой-то запыленной книге.
Редактор поинтересовался:
– Но почему Ленин? Это же неактуально. Ну, Пиночет хотя бы, Путин, или Фидель Кастро. Господь Бог, на худой конец!
– Ленин – это всегда актуально! – я грубо пресек его оппортунистическое либретто и поднялся с кресла. У дверей я оглянулся и хмыкнул. – А Бога нет. Скорее всего, нет.
* * *
Двое – старый и молодой – переглянулись. У старого тут же погасла едва зажженная сигарета. Он тщательно выбил оставшийся табак на дно миниатюрной хрустальной пепельницы в виде летающей тарелки и потянулся за пачкой «Космоса», лежащей у телефона.
– Тебя кто-то вспоминает, папа, – мальчик указал на скомканную сигарету. – Сама погасла, значит, вспоминает. Примета у них такая.
– Нет никаких примет, сынок. Скажи-ка лучше, что задали на завтра?
– «Происхождение видов» Дарвина…
Отец взялся за телефон, свободной рукой перелистывая записную книжку, и набрал номер.
– …И «Трансмутацию людского тепла» Льва Шестова.
– Не слыхал, однако.
В трубке послышались короткие гудки. Старший положил ее на место и, будто бы обращаясь к себе, равнодушно процедил сквозь ровный ряд штифтовых зубов:
– Да и людей никаких нет.
* * *
Редактор исчез.
* * *
Сын улыбнулся неожиданному повороту беседы и принялся поспешно собирать учебники в ранец.
– Значит, завтра я так и скажу Передонову, если вызовет: нет, мол, никакого Дарвина. И Шестова тоже. А возникнут проблемы – на твой авторитет сошлюсь!
Отец молча усмехнулся. Выйдя из комнаты, он некоторое время размышлял о ситуации в Персидском заливе, но, дойдя до своего кабинета, махнул рукой и отворил дверь. На рабочем столе одиноко горела зеленая грибовидная лампа, закрытые матовые жалюзи создавали иллюзию глубокой ночи. Он подошел к огромному компьютеру, кряхтя уселся в роскошное мягкое кресло и, достав сверкающую вставную челюсть, набрал в командной строке: www.lenin.ru.
На экране высветилось невнятное лицо некоего прищуренного гражданина средних лет. Лихо задранная на затылок кепка выдавала молодецкий нрав гражданина, а низкий лоб, раскосые глаза и придурковатая ухмылка наводили на мысль его незаурядном уме. Под изображением заплясали желтые строчки:
В.И.УЛЬЯНОВ (22.04.1870—21.01.1924) – великий русский советский писатель-софист эпохи атеистического мракобесия, лучший друг и защитник угнетенных масс.
Подписывался псевдонимом – ЛЕНИН.
В своих главных произведениях (таких как «Лучше меньше, да лучше», «Шаг вперед, два шага назад» и «Декрет о Мире») он, вывернув наизнанку все ужасы нелепой действительности, пресек предательские вылазки ревизионистов, пригвоздил к позорному столбу ренегата Троцкого, открыл массам величайшую тайну партии и указал широкую дорогу социалистических преобразований всему советскому народу, а также мордве, чувашам и татарам…
Подло отравлен на партийной усадьбе в Горках неизвестным злопыхателем. Вероятен грузинский след…
– Как исказили историю, сволочи! – выдавил из себя старший. – Надо бы что-то делать с этим. Надо, однако.
Какая-то мысль не давала ему покоя. Он вновь придвинул к себе телефон, вновь набрал номер, вновь ему никто не ответил – гудки. Уставился на невнятного гражданина в мониторе…
(короткий сигнал: пи-пи-пи-пи)
…и уверенной рукой нажал на кнопку DELETE. Изображение пропало.
И решил он, что это хорошо.
* * *
Я не знаю, почему свои первые стихи я назвал именно так – «Владимир Ильич Ленин с ликом на запад и выходом в треугольник». В конце-то концов, дело не в названии. Дело – в том высокомерном тщедушном человечке, что прячется за строфами и рифмами. Может, в этом я и наговариваю на себя, но в другом уверен на все сто: я – Поэт. С большой буквы!
Вы спросите – каково это, быть Поэтом с большой буквы?
Отвечу – нет ничего проще, если, конечно, судьба удосужилась отметить вас своим избирательным знаком.
Меня – да. А началось все с телефона.
Простите, а у вас есть телефон? Даже если нет (воспользуйтесь жетоном, 2-копеечной монетой или пластиковой картой) – попробуйте набрать незнакомый номер, и вам откроется бездна любопытного… Однако сначала ответьте на вопрос: вы верите в сверхъестественное?
В соседние цивилизации? В смежные миры?
…Бездна любопытного – не больше. Ведь вам никогда не попасть по телефону, даже междугороднему, в параллельную реальность. В лучшем случае вы попадете в параллельную линию, где сотни таких же идиотов пытаются перекричать друг друга.
Поверьте мне: вам ни за что не дозвониться до параллельного мира, а это значит, что его либо не существует, либо в параллельном мире нет телефонов. Впрочем, звоните куда хотите – здесь я вам больше не советчик. Я поэт.
Поэт!
* * *
Его первый звонок прозвучал во вторник, десятого. Я долго не мог уснуть, все думая, где же он разыскал мой номер. Я спрашивал у знакомых, не звонил ли он им. Они издевательски пялились на мой новенький аргентинский галстук и советовали взять отпуск. Недоноски!
В среду я сдал рукопись редактору…
Мир — ночен!
Он прекрасен очень.
Мы как сельди в бочке
И бычки в очке.
Я страдаю почкой,
Я дошел до точки,
И я так задрочен,
Как рыба на крючке!
…И был очень удивлен, когда редактор исчез.
В четверг, двенадцатого, звонок прозвучал снова.
Мы говорили долго, не спеша, заостряя внимание на некоторых темах. Помню, я даже цитировал Федора Сологуба, а он благосклонно поправлял меня там, где я по слабости памяти ошибался. Закончился наш диалог какой-то досадной нелепостью.
Сначала он критиковал мои воззрения на богостроительство по принципу Гектора Свазилендского, а когда я сказал ему, что Бог есть любовь, если он, конечно, есть, он грубо отрезал:
– Бог не есть любовь. Бог есть Бог, однако!
Я нагрубил ему, на что он с явной угрозой в голосе прошипел:
– Дождетесь вы у меня…
И бросил трубку.
* * *
В пятницу, тринадцатого, я обрезал провода, уселся за стол и, проглатывая неразжеванные крекеры, неровным почерком вывел на белом листе бумаги:
«Алексей Толстой как золотой ключик русской контртеррористической операции».
Дальше рука строчила сама собой, а вялотекущая мысль не поспевала за быстрым, но все таким же корявым почерком. Когда в нижней части листа появилось последнее многоточие, рука обессилено повисла, а я с изумлением вчитался в абсолютно незнакомые мне строки. Я был воистину поражен!
Так, должно быть, чувствовал себя гонитель тьмы Даниил Андреев, когда в сырой промозглой камере он, проснувшись в ночи, обнаруживал ворохи бумаг с вдохновенными непронумерованными главами «Розы мира». Он внимательно нумеровал страницы и до самой обеденной баланды, уже успокоившись, гадал – что такое уицраоры, кто такие гуингмы и почему Б. Вавилонской особенное удовольствие доставляет секс с водородной бомбой… Мне было проще. Передо мной лежали стихи, умещаясь ровно на страничке. Поразмышляв, причем тут золотой ключик, я еще раз сосредоточенно вчитался в текст:
Это правда, что город грустен,
Просто тешится чья-то грусть.
Отчего-то от этой грусти
Задрожала и стихла грудь.
Это в мраморном трауре ночи
Кто-то выронил звезды-бусы,
Это день, как больной рабочий,
За собой убирает мусор…
Это дремлет в ночи ненастье,
И по городу бродят листья,
Это время, великий мастер,
О картину ломает кисти.
Это весть о моей болезни
Отражается в море синем.
Это звуки последней песни —
Дзинь…
Я резко отпрянул от страницы – звонок повторился. Трясущимися руками я снял трубку…
– Алло.
…тупо уставясь на обрезанный провод. В трубке раздался знакомый голос. И прежде, чем я спросил, как ему мои новые стихи, голос простужено хмыкнул, внезапно обдав меня лавиной презрительного хохота.
И сказал он, что это плохо.
Блюдо из Лазо
Саквояж… Салфетки, спирт, скальпель. Шприц.
Что еще? Ах, да! Конечно же, сакэ. Настоящий самурайский сакэ, подаренный…
Кем? Разве это важно…
Где я? Кто я? И почему мне так хочется есть?
Жажда…
Облокотившись о холодный борт ялика, я зачерпнул ладонью воду и попробовал ее на вкус. Соль.
С зеркальной водной поверхности на меня глядело осунувшееся небритое лицо незнакомца. Я уселся на корме, пытаясь что-нибудь вспомнить… Морская бесконечная гладь. Бездонная небесная синь. Штиль. Мачта без парусов. И нет весел.
Я свесился с бортика и взглянул на затертую белую надпись – «Kudzira Bune». Под английским текстом – мелкие закорючки иероглифов. Нет, в японском я был явно не силен.
В ялике, кроме перечисленного, валялись скомканные газеты, окровавленные бинты, прожженный бушлат.
Я оглядел себя и успокоился – ран не было, хотя ныло все тело. На этом бушлате, видимо, я и провел… Сколько часов? Или дней?
Пошарил в карманах – щепотка вонючего табака и мятый мандат. На обратной его стороне – ничего не говорящие мне буквы:
ЛАЗО Сергей Георгиевич, член Реввоенсовета, Владивосток, 1920.
Я повертел мандат в руках и бросил его на дно ялика. Лазо…
В хирургическом саквояже, помимо всего прочего, оказалась маленькая жестяная банка с желтоватым порошком, весьма противным на вкус. Должно быть, обезболивающее, подумалось мне, и я не нашел ничего лучшего, чем высыпать все содержимое банки в десятилитровую флягу с сакэ.
Странно, я не помню своего имени, но уверен наверняка, что фляга именно с сакэ. И откуда вообще мне известно это слово? Я сделал глоток и мгновенно почувствовал, как уходит голод. Глоток, еще глоток. Тело перестает ныть. Еще…
Я слышал свой смех и видел себя со стороны. Разодранная гимнастерка полетела в неподвижную воду, а с кровоточащей татуировки на бамбуковой сякухати мне играл «Яблочко» сам Сейсю Ханаока, и в глазах его притаилась великая благословенная ложь.
Сэй дзюцу хонгэн тайе кюри рекай синсэй нике ехоки прости меня Господи…
Кожа у человека тонка – пожалуй, всего полфэня. Циркулируя под нею, ярко-красная горячая кровь стремительно течет по кровеносным сосудам, которые переплетаются между собой, как шелковичные черви, плотными рядами ползущие по стенам ханьгу. Кровь разносит тепло.
Этим теплом жертва смущает убийцу, влечет к себе, ищет прикосновений, желая обрести пьянящую радость жизни.
Но стоит ударить острым ножом и пробить эту тонкую розовую кожу, как горячая струя ярко-красной крови стремительно, словно стрела, вырвется из раны и своим теплом обдаст убийцу. Леденеет дыхание, белеют губы, жертва теряет ясность чувств и обретает величайшую, царящую в высях радость жизни; жертва навеки погружается в нее и неземным разумом осознает, что самурай со вспоротым животом, лежащий у подножия Фудзи, и есть тот самый убийца, перешагнувший через тень Бога в поисках белого безмолвия.
Прямо над своим ухом я услышал отборный русский мат, потом – стон. Паровозная топка напоминала огнедышащего дракона. Я заглянул в глаза своего врага, мне стало страшно, затем – жарко, и я очнулся.
Секунду назад я не чувствовал боли, теперь же боль проникала в самое сердце. Я с ужасом смотрел на свои руки, залитые кровью, и не мог понять, что же здесь произошло. Ялик тихонько покачивался на слабых волнах. Штиль…
Превозмогая боль, я дотянулся до саквояжа, извлек из него ампулу спирта, смочил им салфетку и осторожно коснулся изрезанного скальпелем живота. На обработку раны ушло еще две ампулы. Три я опрокинул в себя и замер, зажав живот салфетками. Боль немного отпустила, я осмотрел рану и убедился – порезы не смертельны. Если я пытался сделать себе харакири…
Господи, откуда эти слова? Я даже не знаю их смысла.
…то значит, я схожу с ума. Сколько же я провел времени в этой лодке?
Должно быть, дня два-три, не больше. И как я в ней оказался?
Белая чайка нагло уселась на верхушке мачты, напомнив мне о моем голоде. Сакэ?
Лишь пару глотков…
Вновь провалившись в небытие, я с изумлением наблюдал, как грязный человек, облокотившись о борт деревянного ялика с мачтой без паруса, сделал себе инъекцию, взял в руки скальпель и произвел первый надрез.
По колено ампутировав ногу, он занялся перевязкой. Меня удивило, как ловко он управлялся со сложными медицинскими манипуляциями; все в его движениях говорило о том, что он отменный хирург.
Корчась от боли, он принялся за страшную трапезу, поглощая куски сырого мяса.
Я снова вгляделся в безумные глаза этого русского – мне стало не по себе, жалость наполнила все мое существо. Сделав успокаивающий жест, я раскрыл саквояж, достал шприц и уколол пленника в вену. Кажется, ему быстро стало легче. В глазах появились проблески сознания; через пару минут он окончательно пришел в себя, сказав:
– Я должен передать товарищам…
Голос его был глух, но приятен. Я не мог понять, о чем он говорит, но выслушал до последнего слова. Именно это слово я и запомнил – Лазо.
Оно напомнило мне милые моему сердцу благозвучия из хокку Есио Цунэдзо. Вы должны помнить этого автора, погибшего при испытании своего взрывного устройства.
Я кивнул, повторил успокаивающий жест и развязал ему руки, указав на проносящиеся мимо поезда пространства. Убедившись, что часовые все еще спят на платформе, я перестал подбрасывать в топку уголь. Поезд пошел гораздо медленней.
Сунув трофейный пистолет в карман куртки, я вернул русскому его прожженный бушлат. Он благодарно похлопал меня по плечу и прыгнул вниз. Подбросив в топку угля и обхватив руками драгоценный саквояж, я последовал его примеру. В отличие от этого русского, я даже не упал, мягко приземлившись на мокрую гальку. Поезд медленно удалялся, а впереди мирно дымились крыши Муравьево-Амурска.
До войны я был медиком…
Без ноги я чувствовал себя несколько неуютно, благо быстро адаптировался к боли. Небольшие глотки сакэ придавали мне сил, а звезды, отраженные в безмолвной воде, вселяли надежду. Кто я? Откуда? Эта ночь
не дала мне ответа, но к удивлению своему я вспомнил имя того, кто подарил мне спасительную флягу. Его звали Тое Амаваки, и он очень любил рассуждать о добродетельной сущности пьянства.
Должно быть, он же и дал мне лодку, хотя…
Большего вспомнить я не мог. Спать не хотелось, и на всю оставшуюся ночь я остался один на один со своей амнезией, разбавляя одиночество глотками сакэ.
К утру я доел свою вторую ногу.
– Товарищ Лазо, проснитесь! – я протер глаза, силясь понять, что нужно этому оборванцу. – На станции желтые.
– Что, Семенов опять бузит? – промычал я, потянувшись
за маузером.
– Да к черту Семенова, кончили его. Говорю же, желтые!
Оборванец пулей вылетел из хаты. Во дворе раздались выстрелы.
Кто-то закричал, совсем рядом послышался иностранный брех.
– Ну, дела, интервенты, беляки! – я скатился с печи и осторожно выглянул в окно, но тут же отпрянул. Узкоглазый со страшным шрамом на лбу пялился прямо на меня.
Он что-то крикнул своим, и едва я успел спрятаться за печь, дверь с грохотом отворилась, в хату влетела бомба. Раздался неимоверной силы взрыв, и я забыл все, что случилось перед этим…
Я не знал имени моего доктора, не мог понять, почему меня лечат. Но когда в белой просторной комнате появился японский солдат с переводчиком, мне все стало ясно.
Они сказали мне мое имя, сообщили, что я большой русский командир и пытались выведать какие-то секретные сведения, связанные с последним восстанием в Приморье. Поначалу меня не били, затем стали бить. И довели до того самого состояния, когда человек готов продать душу дьяволу, лишь бы его оставили в покое. Но разве я мог что-то вспомнить… Однажды в подвал, куда меня перевели сразу после выздоровления, вошел тот самый узкоглазый со шрамом и через переводчика сообщил, что смерть моя будет страшна, и он дает последний шанс выжить, если до захода солнца я сообщу им требуемое. Естественно, я ничего не сообщил, и с первым же ударом в пах потерял сознание.
Сквозь пелену безвременья меня продолжал сводить с ума нестерпимый лязг вагонных колес.
И я уже не слышал божественных звуков, извлекаемых из бамбуковой сякухати самим Сейсю Ханаокой, а с давней татуировки мне уже не улыбались его хитрые глазки с притаившейся в них великой благословенной ложью.
О, где ты, моя милая небесная Молдавия?
Жажда…
Сквозь слезы я заметил, как из фляги на дно ялика вытекают последние капли сакэ, но нечем было до них дотянуться.
Голод…
Я взглянул на себя со стороны и понял, что есть больше нечего. На корму взобрались две гейши, невозмутимо обмахиваясь веерами.
Я посмотрел в небо и увидел плавающий в облаках мост. На мосту сидел хмельной Тое Амаваки, рассуждающий о добродетельной сущности пьянства. Я помахал ему съеденной рукой и отправился дальше – в страну великой и благословенной лжи.
Должно быть, небо сошло с ума…
Порой мне кажется, будто каждый вечер после артобстрела я сажусь за это одеревеневшее от ужаса войны жалкое подобие стола, сколоченное одноногим Расулом из заплесневевших ящиков, в которых когда-то ждали рамадана «гуманитарные» марокканские апельсины – НЕ КАНТОВАТЬ! – и пишу это письмо, полное отчаяния и боли, страха и непонимания. Письмо, в котором мне хотелось бы рассказать своему не родившемуся сыну о тех недолгих событиях, что произошли со мной…
Когда? Какая разница!
Должно быть, это совсем не важно, когда время теряет свой смысл, а смысл ускользает из контуженного накануне сознания, и автономная некогда область сливается с автономной нервной системой.
Я совсем не помню, какого цвета были те двери, не помню, что за слова мухами облепили почерневшие от потерянного времени стены и какие узоры украшали выцветшие обои по левую сторону мрачного коридора грозненской средней школы, наспех превращенной в военкомат. Запомнились лишь печальные лермонтовские глаза, с одинокого портрета провожавшие меня до тех самых дверей, да надпись, что зловеще свешивалась с них.
«Как в стереокино», – подумал я тогда, и надпись, словно потревоженная моей мыслью, с неимоверным грохотом обрушилась на меня:
ПОЛКОВНИК СМОГУЛИА, ВОЕНКОМ РЕСПУБЛИКИ
Двери распахнулись. Прежде, чем я сделал шаг в душную комнату, где дурно пахло мужиком, табаком и чесноком вперемешку с армейским гуталином, мне бросилось в глаза испуганное, в какой-то мере даже затравленное выражение лица того мальчика, что сидел в холле у окна, придерживая рукой большую серую кепку, будто опасаясь какого-то мистического коридорного ветра. Должно быть, я нарушил его очередь – и сделал шаг первым.
* * *
Потом был вечер. И была ночь. Были дети, стрелявшие в меня из рогаток. Были камни, больно бившие меня по голове. «Дезертир», – кричали какие-то люди в черном и снова бросали в меня камнями.
Затем был ветер, шел медленный, очень медленный дождь. По его лицу текло нечто горячее, липкое, живое. И звали его Имран… Громко стучали ставни. Нет, должно быть, это эхом в горах отдавали редкие залпы орудий, и пули свистели совсем не у Терека, а там, за далекой родной Волгой. Почему? Имран приподнялся на локтях и тихо сказал, что русских здесь больше, чем одичавших собак. Потом он о чем-то кричал мне в ухо, но я не слышал; я глупо смотрел в надвигающееся на меня небо и со счастливой улыбкой маньяка считал яркие, будто окровавленные, звезды, падавшие на родной волжский квадрат. Их было девять. Ровно девять.
Имран приподнялся на локтях и тихо сказал, что русских здесь больше, чем собак. Он так и сказал:
– Больше, чем собак.
– Аллах Акбар, – беззвучно ответил я и вспомнил, что когда-то меня звали Ваней.
– Ванюша, – ласково, очень ласково позвала мама…
Ей было сорок. Отцу – сорок семь. Она была ветеринаром. Отец – учителем. Она умерла в сорок шесть, отец – в пятьдесят три. Должно быть, они так и не дождались моей «похоронки». А перед тем, как на них обрушился тяжелый ночной потолок, отец дважды снимал телефонную трубку и угрюмо молчал; еще ровно двенадцать минут в ушах его звучал зловещий южный акцент:
– Как вам спится перед смертью?
* * *
…И сделал шаг первым. В душной комнате пахло дешевым табаком и армейским гуталином. Полковник Смогулиа, военком республики, из-под черного карниза-козырька сверкнул на меня такими же черными безучастными глазами и протянул мне свернутую пополам бумажку. Я вздрогнул. Я чуть отступил назад. Я развернул ее:
Буйнакск, погранвойска.
Я посмотрел на полковника.
– Зови, – поморщился он, кивнув на двери и смачно отрыгнув застоявшейся чачей. Имран был следующим…
Затем шел дождь. Тяжелый, очень тяжелый дождь. И свинцовые капли медленно сползали по моему лицу. Должно быть, это были слезы, но я думал о священном камне Каабы, упавшем с небес, и поэтому не замечал их. У меня были ноги, чтобы снять с них грязные кирзовые сапоги, провонявшие потом и порохом, размотать и забросить в никуда мокрые портянки; у меня были ноги, чтобы стать на колени и предаться молитве, обратившись к Мекке… Но я поднялся в полный рост и, не обращая никакого внимания на свистящие над головой пули, медленно побрел к одинокому буку, что зловещим идолом возвышался над едва видневшимся холодным потоком Хулхулау. Я был уже совсем близко, когда Имран догнал меня.
– Зачем, друг? – спросил он, сжимая мой локоть.
– Я больше не могу, – из моих карманов посыпались гильзы, невнятные свидетели метких попаданий в живую мишень; их было девять, ровно девять. Я вспомнил каждого, убитого мной, и ноги мои подкосились. Через минуту я поднялся, сжимая в руке сорванную зелень полыни.
– Я с тобой, – Имран полуобнял меня за плечи и так, поддерживая друг друга, мы, словно пьяные араваки, побрели к зовущей нас речке.
Потом был плен. Русский плен. Я сидел в грязном подвале кинотеатра имени Челюскинцев и смотрел в развороченное окно, за которым в зловещем полумраке одичавшие драные собаки, не обращая внимания на редкие взрывы, поедают разлагающиеся трупы солдат. Несколько раз меня вывернуло наизнанку и, блюя в и без того загаженный угол, я вспомнил, что Имран перешел на их сторону. Его матери было сорок…
Я уснул, и со стен Топкапы свесилась жилистая рука Иоанна Крестителя. Освещенный неземным сиянием османских рубинов, благословленный ржавыми клинками мудрых имамов, я пожал эту руку и, должно быть, умер. И привиделась мне чудная страна, где нет ни героев, ни национальностей, ни городов с улицей Энгельса, ни деревень с кишащими в небе «крокодилами». Ко мне приблизились удивленные моим странным появлением звери: куница-белодушка, кабан, ласка и лисица-корсак, – протянули мне доверху набитый конопляной кисет. Я выкурил треть и вспомнил, что Имран перешел на их сторону. Кто эти люди? Когда это было? И с кем?
Должно быть, это совсем не важно, когда время теряет свой смысл, а смысл ускользает из контуженного накануне сознания, и автономная некогда область сливается воедино с автономной нервной системой.