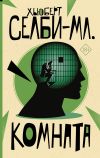Читать книгу "Сестры Карамазовы"

Автор книги: Андрей Шилов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
* * *
На вид я дал бы ей пятьдесят. Но она была много младше. Она, шведская журналистка с огромными карими глазами и традиционным северным именем Эльза, сидела напротив меня все в том же загаженном полутемном подвале и не спеша, мило коверкая слова, хладнокровно рассказывала, как пьяные ополченцы на берегу быстрого Аксая играли в футбол его головой. Голова предателя-Имрана, моего друга Имрана, выпученными, ничего не понимающими глазами с ужасом следила за каждым движением обезумевших от азарта и ненависти правоверных и быстро перекатывалась от одних ворот к другим. В той игре было забито три гола. Ровно три.
Эльза рассказывала и рассказывала, не отводя от меня своего немигающего взгляда, ни один мускул не дрогнул на впавших щеках Эльзы.
А за час до игры, продолжала шведка, уже лишенный семи пальцев и очнувшийся предатель Имран истошно вопил, моля своих палачей о пощаде. Кажется, он кричал: «Только не Аллах Акбар!». Но воины джихада были непреклонны, и через час с небольшим забили ровно три гола…
И я бежал. Бежал от Челюскинцев и Эльзы, бежал от русских и одичавших собак, от засранного подвала и солдатских трупов, от собственнойблевотины и страха. Должно быть, в этот миг с белого облачка смотрел на меня полковник Смогулиа, расстрелянный военком республики, и считал дни до высшего небесного приказа.
Я пришел в себя от легкого толчка в спину, чуть приподнялся на локтях, перевернулся, сел, облокотившись о сырую и древнюю как мир стену кинотеатра-мечети, увидел наконец толкнувшего меня человека, сказал:
– Аллах Акбар!
– Воистину Акбар, – глухо проговорил человек и поцеловал меня в щеку. Отстранившись, он указал рукой на траурную процессию, что под трубные звуки Шопена двигалась в нашу сторону. – Ты ведь искал того пацана?
Я ничего не ответил. Я лишь вспомнил открытки из прошлой жизни. Открытки, что присылали мне отец и мать до того, как на них обрушился ночной потолок: величественный рейхстаг со сверкающем полумесяцем на шпиле, выросший на развалинах Капитолия гигантский минарет, зеленые знамена пророка над башнями Кремля, Родина-мать в парандже…
Я закрыл глаза и заплакал. Шопен приближался, Шопен пел все громче и громче. Послышался тихий плач. Я открыл глаза и увидел, что вся процессия смотрит на меня. Сомнамбулой я подошел к гробу и в ужасе отшатнулся, осознав страшный смысл этой войны, найдя в этой войне себя.
Я упал, чтобы встать. Я встал. Я умер, чтобы воскреснуть. Я воскрес. Я сражался с самим собой. Я искал самого себя. Я умер. Я воскрес, чтобы прочесть на своей могиле… Где только шестнадцатый век… Я пожал протянутую мне руку Крестителя… В страну, где нет героев… Имран… Я нашел самого себя…
И все бы ничего, только одним из этих пацанов был я, а второй жив до сих пор. Должно быть, жив.
Настоящая любовь
Медленная, очень медленная лыжня оборвалась на углу двух улиц, безжалостно раздавленная тяжелыми колесами грузовиков. Один из них трижды просигналил Гаврику, тот вздрогнул и нехотя повернул к дому.
У калитки он обернулся – большие, грустно-бирюзовые глазки, вздернутый конопатый носик на раскрасневшемся личике, выбившаяся из-под ушанки конопатая челка – никто не шел вдоль покосившегося забора по заснеженному утреннему тротуару. И мальчик толкнул калитку.
По воскресеньям он всегда поднимался чуть свет, ведь в этот сладкий день маме не нужно было спешить в школу к своим шестиклассникам, а детский сад давал Гаврику редкую возможность ощутить себя хозяином дома.
«Какой из меня хозяин? – думал Гаврик, стоя у низенького окошка кухни, за которым колдовала мама. – Но я ведь так тебя люблю…»
Он стукнул кулачком о стекло – мама не расслышала. Тогда Гаврик снял варежку и костяшками озябших пальцев ударил сильнее.
Шторки распахнулись – Анна Павловна Лосева ласково кивнула сынишке и на запотевшем стекле вывела два странных знака – ЮЛ.
Гаврик непонимающе замотал головой. Мама улыбнулась, стерла надпись, подышала на стекло и повторила – Гаврик радостно кивнул, удивляясь собственной несообразительности. На окошке таяли две знакомые буквы: ЛЮ.
Когда изображение растаяло, мама поманила Гаврика рукой, приглашая на завтрак. Но он отвернулся, и сам не зная отчего, заплакал. Откатившись на лыжах за угол дома, он поскользнулся, ударившись об обледенелую водосточную трубу. Тут же Гаврик скинул лыжи и, потирая ушибленное место, исступленно принялся жевать снег.
Из 298 известных науке способов, которыми люди перестают жить, Гаврик Лосев знал два, усвоив их из учебника истории для шестых классов. С какими именно личностями эти способы были связаны, он, конечно уже не помнил, да и мама после тех стремительных и страшных событий стала регулярно убирать со своего стола все книги, которые могли бы принести их немногочисленному семейству несчастье. Все, кроме Главной.
Уже умудренный житейским опытом, связанным с невеселым итогом просмотра «Белого Бима» в «Родине», Гаврик наотрез отказался от первого способа. Чересчур страшным теперь казался он ему, страшным и очень несподручным за неделю до Нового Года – река давно покрылась толстым слоем льда, а от зияющей проруби вместо желанного «навсегда» веяло холодным «никогда». Концом – вместо продолжения. Ответы на вопросы, касающиеся вечности, Гаврик Лосев получил этим летом, сидя на коленях мамы и всем телом впитываято, что обещала самоубийцам Главная книга: НИКАКОЙ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ!
И тогда он решил обмануть Библию. Оно и верно, казалось Гаврику, кто ж подумает, что мальчик, объевшийся пломбира, – самоубийца!? Нет, нет и еще раз НЕТ! Батюшка у маленького гробика отпустит грехи – за папу и за маму, и благословит в последний путь. В бесконечный и светлый. Промчалось лето. Пришла угрюмая зима. Гаврик с мороженого перешел на снег – так, из привычки, окончательно позабыв о своем желании перестать делать то, что называется жизнью. И по всякому поводу и без – жевал снег. Но особенно, когда переживал, а переживал он всегда. Соседские детишки посмеивались над ним:
– Смотрите, Гаврик-то опять снег жрет! Того и гляди, в снежки играть нечем будет.
Гаврик приходил домой со двора, валился на старенький дырявый диван и тихо плакал. А все больше оттого, что не было у него друзей.
– Гаврюшенька, почему глазки мокрые? – Анна Павловна присела на корточки перед сыном, когда тот появился на кухне, взяла за руку и поцелуем согрела каждый пальчик.
Гаврик, успокаиваясь в теплоте материнских губ, тихонечко спросил:
– Мама, когда же елочку наряжать будем?
В тот же миг он вспомнил, как накануне прошлого Нового Года пьяный отец перебил в ящике из-под апельсинов все гирлянды. Это была последняя встреча Гаврика с тем, кто изредка назывался его папкой и дарил шоколадные конфеты с маленькой девочкой в красной шапочке на обертке… Гаврик пожалел, что задал вопрос, и чуть было снова не разрыдался.
– Хороший мой, обязательно будем, – Анна Павловна с нежной грустью погладила его по взмокшим волосам и усадила за стол. – Ты кушай пока, а я тебе сейчас гостинчик вынесу. Завуч, Светлана Петровна просила передать для тебя.
Когда мама вышла, Гаврик попытался вспомнить, когда посторонние люди дарили ему подарки, но так и не вспомнил. Он отодвинул в сторону тарелку гречневой каши, пулей выскочил на крыльцо, набил рот грязным снегом и поспешно вернулся, пережевывая свое успокоительное.
Вошла Анна Павловна.
– Ты покушал?
– Да, мама, – совсем забыв о недоеденной гречке, ответил Гаврик.
– Ну, тогда заходи в свою комнату.
Гаврик недоверчиво взглянул на мать, – та улыбалась, – поднялся со стула, подошел к двери и трепетно коснулся ручки; дверь плавно отворилась, почему-то даже не скрипнув.
Гаврик только и вымолвил:
– Бимка…
Солнечный лучик, выбившись из-за туч, скользнул по стеклу, упал на подоконник и, окунувшись в заросший зеленью безрыбный аквариум, бесноватыми зайчиками заиграл в хрустальных глазках Бимки.
Анна Павловна насторожилась, с болью в сердце вспомнив минувшую весну и три страшных дня, проведенных у холодных дверей реанимации. «Может, напрасно?» – промелькнуло у нее в голове. – «Ведь не забыл же тот фильм…»
Лес коротким эхом повторил несколько раз:
не надо… не надо…
И замолк. А была весна. И капли неба на земле.
И было тихо-тихо.
Так тихо, будто и нет на земле никакого зла.
Но… Все-таки в лесу кто-то выстрелил.
Кто? Зачем? В кого?
Трижды выстрелил…
Может быть, кто-то из охотников зарыл собаку…
И ей было три года…
Весь этот вечер Анна Павловна проплакала, слушая, как Гаврик возится со своим долгожданным пушистым товарищем. К полуночи она заснула неспокойным, чутким сном. Сквозь его зыбкую пелену Анна Павловна почувствовала, как в комнату вошел Гаврик, шепнул что-то доброе Бимке, поставив коробку рядом с кроватью, и забрался к ней под одеяло. Затем поудобнее устроился на подушке, чуть мокрой от слез, и долго еще гладил густые материнские волосы, пахнущие одиночеством и дешевым детским шампунем.
Ощутив тепло, исходящее от сынишки, Анна Павловна, наконец, провалилась в глухую ночную бездну.
И приснился ей удивительный, но пугающий сон.
Будто с белого облачка сорвалась тоненькая радужная гусеница. Но вот это уже не гусеница, а она, Анна Павловна, а рядом – ее Гаврик. Но нет, и не Гаврик вовсе – юный Каракалла, с любовью и мольбой взирающий на нее. Обняла она сына своего, прижала к горячей груди, но вместо слов мудрости стон страсти вырвался и превратился в гром. Помрачнело в небесах – это прекрасная дева с окровавленным отроком спустились в Низейскую долину, всю в золотых соснах и сверкающих елях.
– Кто вы? – спросила Анна.
– Я женщина, как ты. Имя мне – Кибела, – ответила ей грозная богиня богинь.
– Я мужчина, как ты, – ответил ей окровавленный отрок. – Аттис мое имя, сын Кибелы. Но сегодня я супруг ее.
Анна затрепетала, устыдившись наготы своей пред ликами Вечности.
– Не бойся, Юлия, – сказал ей Аттис. – Благословенна ты отныне во веки веков, да святится имя твое!
– Меня зовут Анна, Анна Лосева, – едва прошептала, и сон развеялся. Гаврик безмятежно спал, с головой зарывшись в каракулевое одеяло. Жаркий пот съедал все ее тело, жутко хотелось пить. Она осторожно встала с постели, – «Какая еще к черту Юлия!» – тихонько открыла холодильник и, утолив жажду леденящим квасом, улеглась было вновь. Но, вспомнив о Бимке, поднялась, заглянула в его уютное гнездышко и, убедившись, что с ним все в полном порядке, юркнула в кровать.
И сон поглотил ее.
– Анна Павловна, я возмущена вашим равнодушием по отношению к сыну! Разве вас не волнует его нездоровая привязанность к этой бессловесной дряни? – до учительницы едва доходили слова, извергаемые новой воспитательницей детсада с невостребованной фигурой и физиономией обезумевшего Шекспира. – Гаврик не отходит от него ни на шаг. От обеда отказался – сардельки, видите ли, ему отдал. Это же уму непостижимо: сардельками пичкать игрушку!
– Бимка не дрянь и не игрушка. Он мой друг, – со злостью процедил сквозь зубы Гаврик.
Анна Павловна строго взглянула на сына и, как ни в чем не бывало, принялась нахлобучивать на него изъеденную молью ушанку:
– Он же еще ребенок…
– Но вы-то взрослая женщина. Педагог. Кому, как ни вам, должно быть известно, что подобная тяга травмирует и обезьянивает детей – они дичают! Становятся жизненно пассивны и нелюдимы… Конечно, понимаю – безотцовщина, «я и баба и мужик» и так далее, но лучше бы ему шапку новую купили, чем эту гадость!
– Но…
– Дождетесь, плюнет однажды он вам в лицо из-за такой вот дряни, если будете потакать ему во всем. Дождетесь!
Анна Павловна со вздохом отвернулась от невостребованной фигуры, усадила сынишку в санки и неторопливо покатила прочь по звонкому снегу, не замечая, как Гаврик не стесняясь прохожих лепит неказистые снежки и тут же их выбрасывает, откусывая изрядную порцию холодного допинга.
«И все-таки это счастье!» – подумала Анна Павловна, но так негромко, что даже сама еле услышала.
– Мамочка, не напугай Бимку, он спит, – Гаврик погладил его за пазухой, а когда поднял глаза, обнаружил, что санки-то катятся совсем не к дому.
– Куда мы едем?
Анна Павловна остановилась перевести дух.
– В игрушечный магазин, сынок. Гирлянды на елку выбирать, Новый Год ведь на носу.
Гаврик вздрогнул от неожиданности, промолчал, и весь остаток пути до магазина никак не мог взять в толк, как это Новый Год, такой большой и торжественный, может уместиться на его маленьком курносом носу…
Наутро, с тяжелым сердцем проводив Гаврика в сад, уже в школе Анна Павловна – как бы невзначай – поинтересовалась у своей подруги, завуча Светланы Петровны, не помнит ли та весталки Юлии времен правления Каракаллы.
– Это не весталка, дорогая моя, это мать императора – Юлия Домна. Историю учить надо, – пошутила завуч, дружелюбно похлопав по плечуисторичку.
– И чем же она так известна?
– Ну, как тебе сказать!? В сущности, ничем. Разве что, сына своего очень любила… Правда, несколько противоестественно, – с улыбкой пояснила Светлана Петровна.
– Разве материнская любовь может быть противоестественной? – не поняла Лосева.
– Кровосмешение, дорогая моя, кровосмешение! – завуч искоса взглянула на коллегу. – Что-то ты не нравишься мне сегодня. Не заболела ли?
Анна Павловна отмахнулась.
– А как подарок-то, понравился Гаврику? Обрадовался?
– Еще как! – Анна Павловна опустила глаза. – Только странно все как-то. Нехорошее у меня предчувствие.
– Ты, подруга, о плохом не думай. Плохое в прошлом осталось. А теперь иди в класс, звонок через две минуты. А после поговорим…
Целых три дня Гаврик, мама и Бимка жили в любви и согласии. Эти дни действительно были особенными – все уличные обиды сынишки и ночные слезы матери отступили сами собой, мир вокруг уже не казался враждебным и несправедливым. Отстала даже новая воспитательница детсада с физиономией безумного Шекспира.
Для Гаврика это маленькое счастье было и вовсе живым, одушевленным: он до боли в коленках возился со своим маленьким черным комочком, росшим не по дням, а по часам. Иногда Гаврик с трепетом разглядывал новенькие разноцветные домики-гирлянды, доставая из поблекшего комода деревянный ящик из-под прошлогодних апельсинов. Казалось, гирлянды только и ждали своего звездного часа, и до него оставалось совсем немного.
Анна Павловна все не могла нарадоваться на Гаврика, который восхитительно преображался на ее глазах. И так продолжалось целую вечность, чудесным образом поместившуюся в эти три счастливых дня.
А на четвертый день – это случилось накануне Нового Года, когда Гаврик последний раз перед каникулами проснулся в детском саду во время тихого часа – исчез маленький Бимка.
Сначала Гаврик не поверил, что коробка пуста. Он сонно разворошил пушистые одеяльца, перевернул картонную спаленку своего любимца вверх дном – пусто! Потом решил, что Бимка где-то играет рядом, и поскольку все дети еще спали, играет он очень негромко.
Гаврик позвал шепотом: «Бим-ка».
Тишина.
И тут в его послушную головку закралась страшная недетская догадка. Настолько страшная, что морозная бездонная прорубь в сравнении с ней показалась всего лишь недоброй забавой. Уже через секунду Гаврик – как был, босиком и в трусиках – ворвался в кабинет новой воспитательницы и истошно завопил, разбудив самых неисправимых сонь:
– Это ты, я знаю, ты забрала Бимку!
Дикая ярость перекосила лицо воспитательницы. Она в два прыжка покрыла расстояние, отделявшее ее от мальчика, и больно ударила его по щеке.
– Как ты смеешь, щенок? Раздавлю твою гадину!
Победно оскалившись, она бросилась вон из комнаты. Гаврик безжизненно заскулил и повалился на холодный кафель кабинета. Сквозь его мокрые ладошки еле-еле пробивалось тоскливое: Б-И-М-К-А.
Наконец, Гаврик оторвал руки от лица, присел на корточки и уже ни у кого жалобно попросил:
– Отдай… Он без меня не сможет.
И в чем был – в трусиках и босиком – выскочил на заснеженную улицу.
Его нашли поздно вечером, в сугробе, у самого дома. Пушистые хлопья нега застилали улицу переливающимся в свете фонарей ровным саваном, и если бы не дворник, заинтересовавшийся торчащим из сугроба темным предметом, тело Гаврика, возможно, обнаружили бы лишь весной, когда солнечные лучи обнажают страшные зимние трофеи.
Ни в новогодний праздник, ни на Рождество в опустевшем доме Лосевых так и не зажглись елочные огни.
В школе с тревогой ожидали появления Анны Павловны, но когда она переступила порог учительской, даже Светлана Петровна ужаснулась ее виду: грязные спутавшиеся волосы, осунувшееся кирпичного цвета лицо с бурыми мешками под глазами, тряпье вместо одежды. От Анны Павловны несло водкой и прежде, чем она успела выдавить из себя «здравствуйте», ее подхватили под руки и отвезли домой.
Светлана Петровна помогла ей принять душ. Утром на работе они появились вместе.
– Сможешь вести занятия? – еще раз поинтересовался директор.
– Да, – сухо ответила Лосева.
Шестиклассники встретили ее с беспокойством, однако первые 10—15 минут ничего необычного в поведении «спившейся исторички» ученики не выявили.
– Что на сегодня задано? Древний Рим… Кто хочет ответить? – Анна Павловна безучастно оглядела класс. – Если…
Вдруг до боли знакомый писк раздался где-то рядом, будто восстав из недалекого прошлого.
– Что? Где это?
Учительница судорожно ухватилась за край доски, едва не потеряв сознание: прямо перед ней, на первой парте, у отличника Кузнецова в руках копошился маленький черный комочек.
– Бимка? – шепнула Лосева.
– Что с вами, Анна Павловна? – удивился Кузнецов. – Никакой это не Бимка, это Куджо. И вообще, у него батарейки садятся.
Анна Павловна смерила Кузнецова безумно презрительным взглядом:
– Запомни, у любви не могут сесть батарейки.
Кто-то в конце класса повертел пальцем у виска, и громко, чтобы все слышали, гаркнул:
– Совсем училка спятила!
Школьники весело загалдели. Анна Павловна неловко улыбнулась и опустила глаза.
– Бимка, – повторила она и взяла его на руки. – Что, кушать хочешь?
Под нарастающее улюлюканье шестиклассников она погладила стеклышко и нажала желтую кнопку.
– Ешь, милый. Сейчас уже Гаврик вернется. На лыжах только покатается и вернется. Кушай…
На маленьком мониторе Бимка обрадованно завилял своим электронным хвостом, высветив два зеленых иероглифа.
Анна Павловна опустилась на стул, положив перед собой «Тамагочи», и не обращая внимания на галдящую детвору, монотонно стала повторять странные слова, только что произнесенные собственным внутренним голосом:
Когда на сводах Царьградской Софии сквозь белую известку Великой Китайской Стены проступят игривые лики золотых архангелов, пробьет небесная полночь, и Юлия Домна под рождественской елкой поцелует своего уснувшего сына… Однажды уснем и мы. А когда мы уснем и вернемся на Родину, в ту благодатную землю, где боги были детьми, то, может быть, эту райскую елку, всю в поблекших звездных огнях, снова зажгут для нас Аттис и Кибела, наши Папа и Мама…
Синефагия, или Автомобиль, скрипка и немножко нервно
Детям до 16 лет не рекомендуется…
Что это?
Газель обернулась – катафалк умчал новобрачных в кварцевый грот, где зеленая зебра полоснула хвостом Млечный Путь, и из окровавленной раны небес вырвался смысл, лишенный корней крика. А во рту у газели зацвели незабудки.
Андалузия… Валенсия… Кармен…
Долгая проба смерти. И никогда ее тело, неуязвимое в беге.
Стоп? Снято?
А постаревший на целую вечность юноша, которого хоронили сегодня утром, так громко плакал, что пришлось позвать собак, чтобы те заставили его замолчать.
Не живое… Но и не мертвое… Уже черно-белое…
Что же это?
Ах, да! Это KODAK оборвался на двухтысячном кадре, как и предсказывала Библия. Сволочи!
– Стоп! Снято!
Все началось с того самого интервью, которое великолепный Вэл Килмер взял у бледноликого, напудренного тальком Тома в этих роскошных апартаментах «Люксора» на глазах у сотни VIP-зрителей, а закончилось «Котенком с улицы Лизюкова».
Хотя, нет.
Началось все гораздо раньше – с «Андалузского пса» Бюнуэля, что подсмотрел первый полномочный и представительный посол Советской республики в Испании тов. Луначарский в 1933 году, – и не закончится, наверное, никогда. Ведь синематограф бесконечен…
Нацеленные на посла объективы двух «Родин» вспыхнули вечным огнем, зафиксировав факт старческой несостоятельности на его красном, еще не глупом лице, и он, интеллигентно юродствуя перед камерами, уверенно начал:
– До тех пор, пока кино находится в руках пошлых спекулянтов, оно приносит больше зла, чем пользы, развращая массы отвратным содержанием. В реалистическом, подлинно народном искусстве, будут использоваться все технические и художественные возможности кино как НЕТРАДИЦИОННО-НОВОГО средства отображения и познания действительности.
Тов. Луначарский смачно сплюнул в объектив «Родины», развернулся, собравшись уходить. Но остановился, одернул форменный китель, осторожно наклонился к объективу, словно пытаясь разглядеть что-то по ту сторону кино, и из нагрудного кармана со значком «отличник ДОСААФ» извлек аккуратно сложенный вчетверо носовой платок. Снова плюнул – и протер линзу объектива.
– Не так! – он истерично затопал ногами и повторил плевок. В самую цель – еще более смачно!
Воинов отпрянул от белой простыни экрана, которую по старой доброй кинематографической привычке навесил на ковер для просмотра вновь прибывшего из Москвы архива.
– Вы бы, Анатолий Васильевич, еще дворники прицепили на простыне, – утирая большие крупинки пота со лба, пошутил начальник местной культуры Евгеньев. – С «Вольво» бы своей сняли да прицепили.
В прокуренном кабинете почувствовалось оживление, кто-то подавил робкий смешок.
– Понимаете, знатный ценитель черного юмора был мой прародитель, – будто извиняясь за родственную выходку Луначарского, промямлил Воинов. – Шутить очень любил.
– Черный юмор, любезный Анатолий Васильевич, это больше для Африки подходит, а мы с вами в России живем, в Центральной, так сказать, ее части, – Евгеньев многозначительно описал в воздухе рукой пируэт и продолжил, – хотя и Черноземной. А вот насчет нового средства – это он хорошо подметил, сильно. Так что, будем по-новому познавать действительность?
Представители киноэлиты нервозно заерзали в своих креслах. За окном, будто в ускоренном режиме просмотра, туда-сюда сновали прохожие, по проспекту мчались автомобили, а напротив, у «Рубина», новые конквистадоры намывали золотишко, пряча честные глаза за темными стеклами модных солнцезащитных очков.
Посмотрев на то, как бурно продолжается жизнь, Евгеньев не замедлил на мажорной ноте завершить свой увлекательный монолог:
– Именно сейчас, когда кинотеатры пустуют, когда обыватель
по уши погряз в голубом эфире и видео-болоте, вы должны привлечь его исключительно нестандартными, новыми формами подачи. Придумайте что-нибудь, свершите чудо! Ну, я не знаю – свет там, звук, шоу… Все, что угодно, так сказать, но чтоб через месяц хотя бы этот зал был полон!
Он вновь утер со лба пот.
– Но сначала скажите, как все же полагаете назваться?
– «Пролетарий-Люксор»! – не задумываясь, выпалил Воинов.
– Так, так… Допустим, почему «Люксор», я понимаю (Амон-Ра, фараоны там), но почему «Пролетарий»?
Воинов с досадой взглянул на Евгеньева.
– Как же, Емельян Палыч! Не подумайте, что идем на поводу у коммунистов. Совсем нет, совсем нет. Всего лишь добрая традиция – дед-то мой, было время, корреспондентствовал в меньшевистской газете «Пролетарий» – до того, как министром стал.
– А-а-а, – со знанием дела зевнул начальник местной культуры. – Преемственность, так сказать, дело хорошее. Ладно, валяйте, но учтите: чтоб через месяц зал был полон! Повторяю – ПОЛОН!