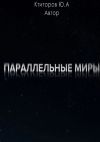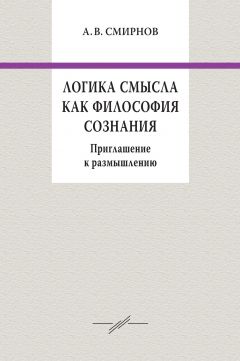
Автор книги: Андрей Смирнов
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Следовательно, может быть поставлен вопрос о том, что нейронное обеспечение механизма ККБ специфично для человека и лежит в основе способности строить высказывания.
Что касается арабского языка, то, как уже отмечалось, грамматический строй арабского языка таков, что исключает связку «есть». Почему арабский язык не просто не нуждается в связке «есть», но исключает её? Если коллективное когнитивное бессознательное в пределах арабо-мусульманской культуры не носит пространственного характера и не может быть проиллюстрировано картинками типа кругов Эйлера или делённого пополам прямоугольника, то и нужды в использовании связки «есть», смысл которой – попадание субъекта в пространственную область предиката, этот язык не испытывает. Если коллективное когнитивное бессознательное, характерное для арабо-мусульманской культуры, может быть представлено как интуиция необходимой связанности двух сторон, действующей и претерпевающей, неким процессом, то и базовая структура арабской фразы будет воплощать именно эту интуицию, и именно она отражена в концептуализациях, представленных в АЯТ.
Коллективное когнитивное бессознательное, находя своё отражение в логике языка, воплощается и в логике культуры. Логика культуры задаёт критерии осмысленности всего, что может рассматриваться как феномен культуры, определяя в первую голову систему ценностей и картину мира, разворачиваясь, далее, в нормативных системах (этика и право), в теориях политического устройства и т. д.
Вот небольшой пример. Едва ли не через всю историю средневекового Запада проходит достаточно строгое, и в этом смысле дихотомическое, разделение на светское и духовное. Здесь мы видим ясное разделение духовной и светской власти, церковного права и светского права, духовной музыки и светской музыки, духовной поэзии и светской поэзии, церковной архитектуры и гражданской архитектуры и т. д. Если средневековая западная культура в общем и целом отдавала приоритет духовному над светским, то Новое время лишь поменяло знаки этой иерархии, воспроизведя сам принцип строгой дихотомии (достаточно вспомнить психофизический декартовский параллелизм, прослеживающийся вплоть до современности).
Что касается арабо-мусульманской культуры, то при ясном разделении земной (дунйа̄) и потусторонней (’а̄х̱ира) жизни арабо-мусульманская теоретическая мысль не предполагает их дихотомизации и иерархизации. Это означает, что ни одна из них не может рассматриваться в ущерб другой, здесь невозможны построения, напоминающие августиновскую идею «града земного» и «града небесного», здесь невозможна христианская монашеская аскеза, полностью отвергающая плотское ради духовного (см. подробнее Размышление II.4). Место этого занимает базовая идея гармонического увязывания двух противоположностей при отсутствии подавления какой-либо из них: ни материальное не берёт верх над идеальным, ни идеальное не одерживает конечной победы над материальным. Почему? Потому что подобная дихотомизация и иерархизация означала бы для арабо-мусульманской культуры обессмысливание целого, поскольку уничтожала бы самое главное – процесс, который связывает воедино две стороны, действующую и претерпевающую. Это верно для тех областей этой культуры, которые определены и заданы вторым из рассмотренных вариантов ККБ, базирующимся на интуиции протекания. Вместе с тем арабо-мусульманская культура включает обширные области, заданные первым из рассмотренных вариантов ККБ, задействующим интуицию пространства. Эти области связаны преимущественно с влиянием иранской культуры и персидского языка. В недавно опубликованной книге Г.Б. Шамилли [Шамилли 2020] показано, как интуиции двух типов определяют логику выстраивания музыкальных композиций жанра «макам» – одного из основных жанров классической исламской музыки.
ККБ задаёт глубинную логику культуры, влияние которой может быть обнаружено в массовых явлениях на поверхности событий. Поверхностный слой событий всегда производит впечатление бурлящей стихии, в которой сталкивается неисчислимое множество интересов, мотивов, страстей, причин – как индивидуальных, так и коллективных, – разобраться в которых представляется подчас невозможным. Однако «в глубине» мы обнаружим достаточно простые механизмы ККБ, которые пробивают себе дорогу сквозь всю массу бурлящих «на поверхности» противоречивых событий и задают основной вектор их развития. Следовательно, понять генеральную линию развития можно, если принять во внимание эту определяющую роль ККБ в формировании общего вектора развития культуры.
Проиллюстрирую это общеизвестными фактами новейшей истории исламского мира последнего столетия, расположив их в хронологической последовательности.
Поражение Османской империи в Первой мировой войне ознаменовало её конец и приход к власти Ататюрка, который провёл ряд кардинальных реформ. Их итогом стало создание в Турции светского государства. В 1922 г. был ликвидирован султанат. Однако халифат как институт сохранялся ещё два года, даже – заметим – после провозглашения республики в 1923 г. Ататюрк прекрасно осознавал его значение для исламского мира, указывая, что институт халифата символизирует единство всех мусульман. Однако уже в 1924 г. был ликвидирован и халифат.
Это событие не могло быть расценено исламским сознанием иначе нежели как катастрофическое. Оно означало (речь, конечно, о мусульманах-суннитах) насильственное прерывание того единственно правильного и установленного сразу после кончины пророка Мух̣аммада состояния дел, которое обеспечивалось институтом халифата. Халифат сохранялся, несмотря на превратности исторического и политического развития, на всём протяжении исламской истории, и даже ликвидация Аббасидского халифата в 1258 г. в результате татаро-монгольского нашествия не положила конец институту халифата. Как известно, «подлинными» халифами, отвечающими всем требованиям, предъявляемым исламской теорией, оказываются, как часто указывают сами исламские авторы, лишь первые четыре праведных халифа, к которым обычно добавляют фигуру ‘Умара б. ‘Абд ал-‘Азӣза. Ведь непременным условием халифата является выборность халифа, которая и в Омейядском, и в Аббасидском халифатах, и позже сохранялась лишь номинально, прикрывая фактически династийное наследование власти или более сложные феномены сращивания института халифата и султаната и подчинения одного другому во времена Османской империи. Идея власти халифа как «защитника интересов мусульман» (такова его главная функция) оставалась в исламском сознании и в исламской политической теории (см. классические сочинения ал-Ма̄вардӣ (ум. 1058) [Маварди 1990], ’Абӯ Йа‘ла̄ ал-Фарра̄’ (ум. 1066) [Фарра 2000] и др.) неизменной и не поколебленной фактически противоречившей ей реальностью. Почему? Потому что именно халиф как защитник интересов мусульман обеспечивал необходимый баланс забот о земной и потусторонней жизни для любого мусульманина. Именно халиф как единоличный глава всемирной общины мусульман (уммы) обеспечивал, таким образом, соответствие исламского общества и государства тому требованию, которое определено и задано в качестве безусловного коллективным когнитивным бессознательным арабо-мусульманской культуры, а именно – требованию процессуальной связанности противоположностей и их гармоничного баланса. Вот почему ни фактическая раздробленность исламского государства, сопровождавшая его существование на протяжении практически всей его истории, ни фактическое нарушение одного из главных требований к фигуре халифа (выборность) не могли подорвать в исламском сознании идею халифата. Ведь идея халифата обеспечивает осмысленность общественно-государственного устройства для носителя того сознания, которое задано очерченным выше процессуальным коллективным когнитивным бессознательным. Так ККБ пробивает себе дорогу сквозь всё многообразие многовекового исторического развития раскинувшейся на гигантских территориях исламской цивилизации.
Вернёмся к историческим фактам. Через год после ликвидации халифата, в 1925 г., выходит в свет книга, написанная представителем университета ал-Азхар (крупнейший центр подготовки факихов в суннитском мире) ‘Абд ар-Ра̄зик̣ом, «Ислам и основы правления (ал-Исла̄м ва-’ус̣ӯл ал-х̣укм)» (рус. пер. отрывков см.: [Абдарразик 2015: 148–165]). Так вот, в книге ‘Абд ар-Ра̄зик̣а была выдвинута именно та теория, которую сегодня мы обозначили бы термином «культурный ислам». ‘Абд ар-Ра̄зик̣ утверждал, что ислам должен ограничить своё влияние сферой духовной жизни, тогда как в области политики и земных дел следует руководствоваться исключительно соображениями эффективности и практической целесообразности, а поскольку западные страны на протяжении новой и новейшей истории доказали эффективность демократии и соответствующего политического устройства, то и в исламском мире следует воплотить в жизнь те же модели, отбросив наследие ислама и выделив для ислама как религии исключительно область частной, духовной жизни.
Как видим, идеи ‘Абд ар-Ра̄зик̣а как нельзя лучше соответствуют концепции «культурного ислама», секуляризации и построения светского государства в рамках той модели общечеловеческого цивилизационного устройства, которая лежит в основании современной западной идеологии и составляет основу «мягкой силы» Запада.
Итак, два события, почти совпавшие хронологически: фактическая ликвидация халифата в 1924 г. и теоретическое обоснование в 1925 г. необходимости этого действия со стороны, повторю, одного из виднейших исламских факихов. Какой же была реакция исламских теоретиков и исламского общества? Позиция ‘Абд ар-Ра̄зик̣а была полностью поддержана в вышедшей спустя четверть века книге выпускника ал-Азхара Х̱а̄лида Мух̣аммада Х̱а̄лида «Отсюда начнём (Мин хуна̄ набда’)» [Халид 1974][25]25
Первое издание книги – в 1950 г., в том же году книга была трижды переиздана.
[Закрыть]. Только отчасти, в критике исторически существовавших форм халифата, поддержал ‘Абд ар-Ра̄зик̣а видный алжирский мыслитель ‘Абд ал-Х̣ амӣд б. Ба̄дӣс. Но именно вскоре выхода книги ‘Абд ар-Ра̄зик̣а и в качестве реакции на неё были опубликованы те основные теоретические сочинения, которые сегодня мы относим к классике «политического ислама». Это и трактаты Х̣ асана ал-Банна̄, основателя «Братьев-мусульман», и работы ‘Абд ал-К̣а̄дира ‘Авда, главного политического теоретика этой организации, и многих других (см. более подробно [Джадан 1985: 63–101]).
Изложение этих фактов можно было бы расширить, но главное ясно: так называемый политический ислам явился реакцией на попытку секуляризации исламских обществ и идею «культурного ислама». Почему эта реакция была столь мощной и болезненной, почему сегодня, спустя век после тех событий, она породила метастазы «Исламского государства» (террористическая организация, запрещённая в России), которые пока никакая химиотерапия американских или российских бомбардировщиков не в силах вылечить? На этот вопрос совсем не трудно ответить, если принять во внимание ту концепцию коллективного когнитивного бессознательного арабо-мусульманской культуры, которая была намечена выше. Ведь идея секуляризации и «культурного ислама» означает удар по коллективному когнитивному бессознательному этой культуры, требуя отказа от базовой троичной структуры, связывающей две противоположности процессом и обеспечивающей осмысленность любых теоретических построений, выстраивающихся на этой основе. Исламское мировоззрение предполагает непременную связанность земного и небесного, посюстороннего и потустороннего, которая не может быть разорвана, не обессмыслив тем самым любые теоретические конструкции. Но именно такого разрыва земного и потустороннего, дел этого мира и дел того мира, требует для своего внедрения идея «культурного ислама», идея секуляризации, светского общества и т. д. Моя гипотеза заключается в том, что коллективное когнитивное бессознательное, сжимаясь, как пружина, под натиском этих противоречащих ему идей, рано или поздно отыграет назад, причём это «отыгрывание» будет тем уродливее и тем болезненнее, чем сильнее эта пружина была сжата, чем более насильственным оказалось внедрение тех форм социального и политического устройства, которые противоречат коллективному когнитивному бессознательному данной культуры и несовместимы с ним.
Между тем именно это и происходило в арабском и исламском мире на протяжении XX в., когда во вновь образованных странах, обретавших свою независимость между двумя мировыми войнами и после, внедрялись, фактически во всех без исключения, западные цивилизационные модели. Но уже начиная со второй половины XX в.
становится заметным, а к концу века обретает несомненные черты массовый процесс, получивший название с̣ах̣ва исла̄миййа. Этот термин обычно переводят как «исламское сознание», хотя точнее было бы передать его словосочетанием «чуткость, восприимчивость к исламскому образу жизни». Речь идёт о том, что в массовом масштабе происходит возврат к внешним проявлениям традиционного исламского образа жизни. Это наблюдается и в одежде, и в массовом отказе от алкоголя в тех странах, где он не запрещён законом, и в употреблении определённых языковых формул, в невербальном поведении и т. д. Повторю: это процесс массовый, знаменующий изменение массовой психологии, его нельзя приписать влиянию отдельных исламских лидеров или организаций. Напротив, лидеры так называемого политического ислама и соответствующие движения эксплуатируют именно этот массовый процесс, в основе которого лежит неосознанная попытка вернуть права той коллективной интуиции, тому коллективному когнитивному бессознательному, которое делает для носителей этой культуры осмысленным социально-политическое устройство и саму жизнь.
Что же делать? Обычный ход мысли заключается в том, что необходимо искоренить «политический ислам», физически нейтрализовать всех террористов, дать полное развитие «культурному исламу» и подключить тем самым арабо-мусульманский мир к «общемировой» стезе цивилизационного развития. Из сказанного выше вытекает, что такой образ действий лишь усугубит проблему и не приведёт к её разрешению. Следует поступить ровным счётом наоборот, обеспечив права коллективного когнитивного бессознательного арабо-мусульманской культуры. Сделать это можно, легитимизировав в цивилизованной, приемлемой форме поиск идей, реализующих требование процессуальной связанности земного и небесного в проектах социально-государственного устройства (не исключая заранее и идею халифата). Эти идеи не должны отдаваться на откуп радикалам и экстремистам, они могут и должны быть введены в поле цивилизованного теоретического дискурса прежде всего в среде самих исламских интеллектуалов.
Россия имеет исторический шанс предложить такой проект цивилизационного устройства, который мог бы оказаться привлекательным для мира и в то же время не совпадал бы с проектом, который успешно реализован западными странами (см. об этом Раздел IV). Ведь если коллективное когнитивное бессознательное не совпадает в крупных макрокультурных ареалах, таких, к примеру, как западный мир и исламский мир, то и социально-политическое устройство не может проектироваться в них одинаково. Это является неопровержимым, с моей точки зрения, теоретическим обоснованием той идеи всечеловеческого, а не общечеловеческого, устройства политики, культуры и жизни, которая была выдвинута ещё в XIX в. такими выдающимися русскими мыслителями, как Н.Я. Данилевский и Ф.М. Достоевский и развита в классическом евразийстве. Ведь всечеловеческое предполагает, что культура, которая опирается на собственные логические основания, имеет полное право и должна выстраивать свою жизнь в соответствии с ними, не подделываясь под шаблон, который выработан другой культурой и объявлен общечеловеческим. Идея всечеловеческого, несправедливо забытая, если не проигнорированная, в отечественной теоретической мысли, сегодня имеет все шансы на то, чтобы стать основой для продумывания контуров глобализации и глобального устройства, которые опирались бы на проект, альтернативный тому, что продвигается сегодняшними мировыми центрами силы. Исторический шанс России заключается ещё и в том, что контуры всечеловеческого (а не общечеловеческого) устройства жизни могут быть в его основах замечены и в историческом развитии самой России, в том числе в советский и постсоветский период. В этом смысле формулировка всечеловеческого глобального проекта опиралась бы на собственный российский опыт в не меньшей мере, нежели на твёрдый теоретический фундамент.
Размышление I.6
Связность и знак
Главный вопрос, который стоит перед нами в этой книге: как работает сознание, как происходит смыслополагание, как разворачивается осмысленность и как что-то становится для нас значащим? Иначе говоря, как может состояться то, что мы называем словом «понято» или «понятно»: как что-то становится для нас понятным? Это «что-то» может быть словами, поступками другого человека, общественными или культурными институтами, наконец, миром в целом. Как случается волшебное событие понимания: не было понятно – и вот, мы поняли! Как оказывается, что что-то принимается нами как естественное, как «само собой», как «иначе и быть не может» и «очевидно»; а что-то другое никак не найдёт дорогу к нашему о-сознанию, к тому, чтобы стать для нас понятным?
В предшествующих Размышлениях этой книги мы сделали существенный шаг к тому, чтобы ответить на этот вопрос. Мы смогли, преодолев границу, остававшуюся непреодолимой и, главное, не замечаемой традиционной философией, дойти до самого истока сознания. Этот исток – интуиция субъект-предикатной связности, служащая разворачиванию целостности сознания. Поняв это, мы смогли увидеть то, что оставалось слепым пятном для предшествующей философии: как возможен другой путь разворачивания сознания – столь же основательный, столь же теоретичный, столь же соответствующий «внешнему миру», как и тот, что привычен нам по опыту европейского мышления.
Так мы смогли углубить наше понимание сознания, пройдя глубже, чем тот уровень, что оставался предельным для традиционной европейской философии. Однако этим вертикальным, углубляющим движением дело не исчерпывается. Если бы мы ограничились этим, мы лишь развили бы традиционную линию европейской философии. И это, конечно, немалый шаг; но другое, не вертикальное, а горизонтальное движение гораздо важнее.
Углубив понимание сознания до исходной интуиции связности, мы смогли понять главное, что оставалось вне поля зрения традиционной философии: интуиция связности вариативна. Вот где открывается возможность путей иных, нежели путь европейского, или С-мышления. Это движение можно назвать горизонтальным потому, что исходная точка – интуиции связности – разворачивается, раскрываясь как разные пути смыслополагания, на одном уровне связности.
Сознание, таким образом, неизбежно проходит через развилку. Это – развилка вариативности. Нам приходится выбрать один, и только один из возможных путей разворачивания сознания в качестве основного пути – такого, который будет определять способ субъект-предикатной связности. Выделенные слова важны, поскольку прохождение развилки лишь подавляет, но не уничтожает другие варианты разворачивания связности. Они дремлют в уголках нашего сознания – и иногда могут заявить о себе, преодолев мощную инерцию культурной привычки следовать всегда одним и тем же путём разворачивания сознания и формирования субъект-предикатной связности.
Таким образом, логика смысла делает одновременно шаг вглубь и вширь. Прежняя философия принимала основной путь европейского мышления за единственно возможный. Отсюда мифология универсальности европейского мышления и линейного прогресса – и мысли, и общества – как развития основной линии этого мышления. Эта мифология сполна овладела умами философов, в том числе отечественных, заслонив от них возможность других путей разворачивания сознания. А ведь среди этих других путей – и тот, что характерен для русской культуры и русской мысли. Русская философия до сих пор не осознала себя и не осознала собственную культуру. Много раз повторенный тезис об «отрыве» образованной прослойки от народа, отрыве, удивительно возобновляющем себя, несмотря на смену общественно-политического устройства (взять хотя бы периоды до 1917 г., 1917–1991 гг. и после 1991 г.), имеет своим основанием именно это – неспособность русской философии осознать основания собственного мышления и собственной культуры.
Логика смысла поэтому – это новый путь и для русской философии. Путь к тому, чтобы преодолеть период зависимости от религии и одновременно – подростковой зависимости от одобрения «настоящими», «взрослыми», «состоявшимися», то бишь европейскими, философами. Русская философия до сих пор, несмотря на развитие техники философского мышления, оставалась, за хотя и счастливыми, но редкими исключениями, подражательной. Она не ставила себе задачи большей, нежели быть луной для солнца, отражать чужой свет, внимательно следя за истоком и не помышляя о том, чтобы светить самой. Это ей просто не приходило в голову – это было исключено принятой почти всеми русскими мыслителями мифологемой единственного пути прогресса и единственного пути развития подлинного мышления. Логика смысла снимает этот барьер.
Приведу в качестве современного примера статьи наших двух известных мыслителей – М.К. Мамардашвили и С.С. Аверинцева. Обе они опубликованы в разделе «Человек в культуре» сборника «Человек в системе наук». Название раздела, вкупе с названием обеих статей, подчёркивает культурно-цивилизационную заглублённость мысли обоих известных авторов.
Мамардашвили рассматривает принцип cogito как принцип «могу», принцип дееспособности, утверждающий, что «ты можешь мочь, каковы бы ни были видимые противонеобходимости природы, стихийно-естественные понуждения и обстоятельства» [Мамардашвили 1989: 320]. Таким образом, здесь, по-видимому, ставится акцент на действии; но означает ли этот акцент какой-либо существенный отход от психофизического дуализма и от бытия как предельной границы? Ничуть. В процитированных словах очевидно, что «могу» мысли, рассматриваемой как действие, противопоставлено той необходимости физического бытия внешнего для мысли мира, над которой эта мысль не властна. Мамардашвили с удивительной лёгкостью совершает скачок от cogito как мысли и акта сознания вообще – к действию-в-мире. Что это не одно и то же, вряд ли нужно доказывать; и тем не менее для Мамардашвили это его утверждение о cogito как «актуально-деятельном бытии» кажется очевидным, более того, «формой, более отвечающей действительному содержанию» декартовского cogito [Там же]. Свобода такого рода скачков вообще характерна для текстов этого философа. Но для меня здесь важно не это; я хочу подчеркнуть, что (1) даже опора на известную отечественную теорию деятельности, которая предполагает начинать с действия, а не с бытия (в этом её суть: деятельность формирует сознание и общественное бытие, следовательно, действие должно лежать в основании всего), и (2) свобода совершать такого рода скачки – т. е. (1) необходимость и (2) возможность положить действие в качестве метафизического основания не приводят Мамардашвили к тому, чтобы осуществить этот шаг. Для него бытие остаётся предельной рамкой, границей, которую он не может переступить. Универсалистский миф поэтому сохраняет над ним свою власть.
Опыт мышления, с которым имеет дело Мамардашвили, – это опыт только европейского мышления, и никакого другого; и цивилизация для него – универсальная и одна-на-всех форма, задающая возможность осуществления дееспособности человека.
В [Аверинцев 1989] С.С. Аверинцев различает понятия «рациональная способность» и «рационализм». Первая присуща человеческому роду вообще как гомо сапиенс; второй – рождён Европой. В заглавии этой его статьи неслучайно стоит выражение «европейский рационализм»; оно подчёркивает, что рационализм, в отличие от рациональной способности, рождался только и исключительно в европейской культуре. Европоцентристская установка проведена Аверинцевым с поразительной ясностью и неприкрытостью: из всего человеческого рода («рациональная способность») только европеец поднялся до подлинного теоретического мышления («рационализм»). Отсюда и универсализм европейского: рационализм как таковой возможен в единственном варианте; он осуществлён (причём неоднократно) европейской культурой; следовательно, все, кто хочет подняться до рационализма, не оставаясь лишь с рациональной способностью, должны приобщиться к европейскому мышлению, которое тем самым становится мышлением как таковым, универсальным мышлением. И уже само собой разумеющимся следствием этого оказывается мифологема линейного универсального прогресса мысли.
Рационализм, в отличие от рациональности, для Аверинцева представлен рядом признаков и функций. Рационализм – это формализация, в отличие от расплывчатого мышления метафорами и нагромождениями эпитетов, антитезами и сравнениями. Формализация мысли достигается дефиницией – родо-видовым определением. Оно становится «жёстким семечком», из которого в культуре прорастают деревья, приносящие новые семечки. Так навсегда меняется способ самовоспроизведения культуры, достигшей стадии рационализма, в отличие от культуры, построенной на рациональной способности вообще. Наконец, рационализм – это мысль о мысли.
Я максимально тщательно воспроизвёл то, что Аверинцев говорит об отличии рационализма от рациональной способности [Там же: 332334]. Интересно, что разговор о рационализме у Аверинцева не соответствует тому критерию рационализма, который он же и выдвигает. Иначе говоря, попытка задать рационализм у Аверинцева не является рационализмом, по его же собственным критериям. Значит, этот разговор нерефлективен: мысль здесь не обращена сама на себя, не проверяет свою форму своим содержанием. В самом деле, разве получили мы «дефиницию» рационализма? Ничего подобного; перед нами именно нагромождение эпитетов и описание действий; а уж метафора жёсткого семечка, прорастающего семечкоприносящими деревьями, говорит сама за себя. Но если дефиниция рационализма не дана, если мы говорим о рационализме, оставаясь, по Аверинцеву, на уровне рациональной способности, то действительно ли мы говорим о рационализме? Это всё равно что задать таблицу умножения с арифметическими погрешностями или аксиомы логики, логически ничтожные. Если в разговоре о рационализме мы не можем подняться до критерия рационализма, что гарантирует правильность наших высказываний о рационализме? Или же – правильность исходного представления о рационализме как таковом?
Но оставим это в стороне; для нас здесь интересно, как Аверинцев аргументирует свою точку зрения. Я приведу пространную цитату, чтобы не исказить мысль автора:
Для того, чтобы перейти к мысли о мысли, т. е. к рационализму, для этого человеку надо сделать качественно иной шаг. Все мы, вероятно, помним, как трудно даётся школьнику переход к дефинициям, к тому, чтобы описывать предмет в формах дефиниций, а не в каких-то иных, каковы, например, нагромождение эпитетов, описание того, как вещь действует (нож – это когда режут, передразнивал наш учитель физики, когда ему пытались подменить дефиницию названием действия). Но именно так описывает, например, любовь апостол Павел в 13-й главе 1 Послания к коринфянам. Он нагнетает глаголы – любовь делает то-то и не делает того-то; любовь – это реальность, которая проявляется в таком-то действии. Вроде бы естественный способ описывать. Наоборот, любой средневековый теолог Запада скажет, что любовь есть virtus infusa (добродетель сверхъестественная), и в этом пункте видно, как далеко средневековье отходит от Библии. Видно также, насколько необратим этот переход через пропасть, отделяющую мышление «естественного» рационального человека, т. е. мышления в метафорах, в аналогиях, в сравнениях, в антитезах, через описание способа действия, через нагнетание эпитетов и т. д., от рационалистической рефлексии [Аверинцев 1989: 332–333; курсив мой. – А.С.].
Годом позже в устной лекции С.С. Аверинцев повторяет и несколько расшифровывает свою позицию:
Можно сказать также, что восприятие греческой философии было приобретением, за которое приходилось платить. Как бы то ни было, без аппарата греческой философии строгие формулировки христианского вероучения были бы невозможны. Именно греческая философия дала прежде всего простейшие формы дефиниции, построенные по типу «а» есть «b». В Новом Завете есть только одна дефиниция в Послании к Евреям (11, 1). Это дефиниция веры. Вера есть «чаемых обличение» – по-славянски, как бы реальность (hypostasis – по-гречески) того, на что мы надеемся. Вот это дефиниция. Но в Евангелиях мы не встречаем дефиниций, мы встречаем снова и снова метафоры, притчи[26]26
Расшифровка лекции «Христианство в истории европейской культуры», прочитанной в 1990 г. в Московском культурологическом лицее [https:// www.litmir.me/br/?b=249620&p=4 20.06.2020]; видео: https://www.youtube. com/watch?v=MDZa8Tb5ICw (первая часть и последующие). В этой лекции С.С. Аверинцев хочет доказать, что христианство, в отличие от иудаизма и ислама, универсально по своему духу и в силу своих основных черт: у него нет единственного священного языка, и оно не привязано к ограниченной географической области. Первое он связывает с тем, что дух христианства – не текст, а жизнь Иисуса, сам Иисус. Второе – с тем, что христианство свободно перемещалось по землям мира, в отличие от ислама, который, за незначительным исключением, не терял и не приобретал земель после начальных завоеваний; мусульманин-де привязан к земле и обязан её защищать, поскольку ислам, по Аверинцеву, делит мир на «земли ислама» и «земли войны». Я не буду касаться первого, но второе утверждение возможно только при полном отсутствии знакомства с основоположениями ислама. Удивительно, насколько велика степень ошибочности в отношении ислама, которая считается допустимой для столь авторитетного атвора и на которой строятся громкие глобальные утверждения.
[Закрыть].
Вот теперь дело проясняется. «Пропасть», никак не меньше, отделяет мышление, способное оперировать дефинициями типа «“a” есть “b”», от мышления, которое к этому не способно. Линейная перспектива. Вот у вас мышление, способное употреблять в дело формулу «S есть P» не просто стихийно, интуитивно, используя свой индоевропейский язык; это мышление поднимается до того, что эта формула вынимается, так сказать, из стихии языка, ставится перед взором, предъявляется как «дефиниция». Думаю, я очень коротко, но внятно описал то, что С.С. Аверинцев многословно изложил и в статье, и в лекции. Да, рефлективность – это, конечно, очень серьёзный и существенный шаг: предъявить своему мышлению формулу связности и заставить себя мыслить строго в соответствии с ней – это и есть шаг к научности и шаг к формированию терминологии. В этом суть, а всё то, что С.С. Аверинцев очень талантливо излагает в обсуждении этой темы, – сопровождающие исторические, а потому случайные обстоятельства.
И в названной лекции, и особенно в названной статье мысль автора настойчиво возвращается к «дефиниции» как к главному, что позволяет мышлению подняться до уровня рационализма, оставив позади стихийную рациональность «естественного» (а не европейски-культурного) человека. Но как ни будем стараться, мы не найдём ни в статье, ни в лекции разъяснения того, почему именно дефиниция типа «“a” есть “b”» даёт подлинное знание и оказывается подлинным рационализмом, в отличие от того, как привыкли думать и определять понятия апостол Павел и незадачливый школьник на уроке физики. В самом деле, вот перед нами дефиниция «любовь есть добродетель сверхъестественная». Без такой дефиниции не обходится ни один теолог Запада! Но что же всё-таки такая дефиниция даёт; откуда и почему такое прямо-таки обожествление «дефиниции»?
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!