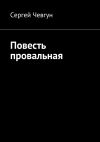Текст книги "Салон-вагон"

Автор книги: Андрей Соболь
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Эстер зовет меня в синагогу. Я отказываюсь. Она, ничего не говоря, уходит, а поздно вечером стучится в окно. Впускаю ее.
– О чем ты думал? – спрашивает она.
– Ни о чем. Слушал, как тикают часы.
Колышется истрепанная занавеска. Иду прикрыть окно, но возле стола задерживаюсь; Эстер спрашивает, почему я отказался пойти в синагогу. Сажусь к столу и слушаю. Мигает лампа, и еще сильнее треплется занавеска.
– Почему?
– Сколько лет не был и даже не потянуло?
– Молиться? – усмехаюсь я. – За удачу? Богу Авраама, Исаака и Иакова?
– Не говори так. Нельзя смеяться над этим. А в Париж… Вспомни, как ты и многие другие бегали на Пасху в русскую церковь. Ты тогда тоже смеялся? Тебя потянуло? Тогда ты был взволнован. Помнишь, ты говорил о какой-то сладкой грусти? А здесь у тебя только усмешка. Ведь это чудовищно, это слепота.
Я внимательно гляжу на нее. Она несколько мгновений колеблется и уходит, ничего не говоря, не прощаясь. Я не иду за ней, не зову. Тушу лампу и остаюсь в темноте. День прожит, канул, и я имею право на отдых. Ночью все отдыхают: и те, кто в синагогах молятся, и те, кто в церквах, и те, кто убивают.
X
Наступает новый день, пасмурный, как больной старик, и, словно старческие бессильные слезы, падают редкие капли дождя.
– Зачем ты привезла меня сюда? – спрашиваю я Эстер. Улавливаю тоску в своем голосе и заранее знаю, что тосклив будет ее ответ. Вспоминаю, как некогда я называл ее «северной». А сейчас она в платочке, поникшая, грустная, в черной коротенькой жакетке и до странного похожа на здешних девушек, кажется мне их родной сестрой, неотделимой. «Евреечка», – вспоминается мне. И хочется обнять ее, утешить в чем-то, разуверять любовно, ласково и куда-то увести, а вместо этого я настойчиво и сухо спрашиваю, зачем она привезла меня, говорю ей, что ничего нового я от нее не жду. С каждым словом я дальше и дальше отхожу от нее и только изредка, взглядывая, припоминаю: «Евреечка». Тогда мои собственные слова кажутся мне ненужными, но я продолжаю говорить.
– Ничего нового. Ново было твое приглашение в синагогу, но и это, в сущности, старо. Очень старо: я должен покаяться, и для этого прежде всего необходимо вернуться к своему Богу, забытому, старому Богу. Ты идешь к Нему, я не иду, я не знаю Его. В Париже, когда ты рассказывала мне о своей поездке в Лондон, я подумал: я останусь один. Но потом я сам над собой рассмеялся. И видишь, напрасно: я один. Тебя нет, нет Бориса. Аким тебе чужой. Все нееврейское ты принимаешь как враждебное. Они нас не любят, говорила ты. А ты их любишь? Да почему, наконец, не заглянуть правде в глаза? Сотни лет евреи твердят: антисемитизм, антисемитизм, но почему они боятся так же открыто, как открыто заподозревают и обвиняют других, сознаться в своей нелюбви к другим? Евреев должны все любить. Почему так? А если не любишь, то ты конченый человек. Говорить об отрицательных сторонах евреев преступно, а самим о других можно. Погляди на себя… Во всем и всюду ты видишь врагов, болезненно, как только могут одни евреи. Придираться к каждому слову, к каждому движению, выискивать, подходить ко всему с подозрением, болезненно и унижая самого себя. Разве это не унижение? Кто горд, тот не подозревает и не выискивает. А ты их любишь? Ты уже в Париже знала, что Аким будет с нами. И тогда он был чужим? Глаза у тебя открылись? Новообращенная? А где они были раньше? Слепой была? Теперь ты зрячая, а я слепой? Ты говорила мне в лесу: бедный ты мой. Ты меня жалеешь, ты плакала надо мной. Почему ты над собой не плачешь, потерявшей все, чем жила раньше? Ты отказываешься от дела при слове «погром». А если так? Но ты верила в наше дело. Сегодня нельзя из-за постороннего лица – кучера, жены, рабочего, все равно. Завтра снова препятствие – будут избивать интеллигенцию; потом опять нельзя – будет погром. Но ты говоришь, что русским можно, только не евреям. Нельзя евреям, еврей не смеет шагу сделать, иначе пострадают другие евреи. Какая-то круговая порука, рабская, трусливая. Такая мысль только может появиться среди трусов, только среди рабов, покорных и в то же время злобствующих. Но ведь высшее есть. Должно быть, иначе все нуль, иначе надо заранее сложить руки. Я не хочу и не складываю руки. Ты меня пугала последствиями, о них поминал мне Борис. Я их не боюсь, я их не знаю и не хочу считаться с ними. И оба вы отошли. Борис поехал в К., но с каким чувством – я знаю. Я заставил его поехать. Что ж, упрекай меня, я себя не упрекаю. Если бы я мог заставить тебя, я бы это сделал не колеблясь. Ты отошла – я иду дальше, я с теми, кого ты не любишь. Ты остановилась на полпути, а я дойду, Эстер, во что бы то ни стало. О чем еще говорить? Все сказано и все ясно.
Опять, как в лесу, она тянется ко мне, хочет взять мои руки; опять, как в лесу, она с болью говорит:
– Я не могу так… Ты ничего не видишь.
Я отдергиваю руки.
– Саша, всей очевидности.
В ее глазах слезы. Она сейчас уйдет и у себя в крошечной комнатке, где висят портреты знаменитых раввинов, будет долго и глухо плакать, а за стеной пронзительно заголосят грязные дети; но мне все равно, рыдает она или радуется: мне холодно, и я не знаю, для чего люди плачут и радуются.
XI
Мучительно, но я слушаю. Иногда хочется взглянуть на Эстер и улыбнуться, показать ей, как Я спокоен; но не отхожу от окна и слежу за грудами темных облаков. Сталкиваясь, они поднимаются горой и вдруг исчезают, оставляя за собой горсть; сиротливых мелких звезд. Эстер говорит, я ее не перебиваю. Она просит выслушать ее. Разве я этого не делаю? Я выслушивал ее, Бориса. Я слушал и видел, как растут слова, точно снежный ком. И он покатился, он катится; он отбивает ноги, мешает в пути, но я слушаю.
– Говори, Эстер, говори.
Она прячет тревогу, но я вижу ее, как вот это шоссе, бегущее мимо моего окна. В такую ночь хорошо попасть на неизвестную дорогу, бродить по ней, не знать, куда она приведет, и только видеть, как скользят по небу облака, как проходят неторопливо верстовые столбы.
– Говори, Эстер, говори.
– Ты был слеп…
Накинула платок на голову, сидит съежившись. Выступили узенькие плечи. Бедная, обиженная всеми евреечка. За окном, так же съежившись, притулилось местечко… Евреечка… евреечка…
– Руки мои слабы… Удержать тебя… Не пустить тебя…
Ниже опускает голову, выбились волосы из-под платка.
– Эстер, я слушаю тебя.
– Как это ты говоришь!
– Просто.
– Неправда. Я ведь чувствую.
Измученными, но горящими глазами останавливается на моем лице, и тогда я думаю: «Еврейские глаза».
– Мне хоть не лги. Ведь я вижу все. Слишком хорошо. Ты можешь быть спокоен, ты не можешь отнестись равнодушно. Ты другой, не прежний. Я плакала над тобой. Да, и буду. Ты измучен, разбит. Вот… расколот ты. А ты намеренно гнешь себя. Ведь я вижу. Хочешь заставить себя быть прежним и не видишь, что прежнее уже умерло. Ты хочешь отвернуться от того, от чего нельзя отворачиваться, преступно. Пришло новое, помешало, раскололо тебя, а ты… Ты хочешь отвернуться. Как будто ничего не было. А ведь оно есть. Оно напоминает о себе на каждом шагу и будет напоминать. Неизбежно, настойчиво. Когда я говорю тебе: бедный ты мой – это так. Но ты хочешь скрыть, показать, что все благополучно. Благополучно? Посмотри на меня, посмотри. Ведь все, что происходит в тебе, было во мне, поэтому меня не обманешь. Ведь это мое, твое, наше… еврейское. Ты не знаешь, ты даже не подозреваешь, как твердо сидит в тебе еврей. Это упорство вопреки очевидности, эта… исступленность и разлад, вечный разлад. Ты говорил, кто горд, тот не подозревает. Неправда. Не подозрения – очевидность. А ты боишься ее. Ты не можешь согласиться, потому что тогда надо отойти от всего того, с чем был связан раньше. Все это происходило со мной, но я женщина и не могла скрыть. Иногда мы в своем бессилии более сильны, чем вы. А ты скрываешь, ты насильственно коверкаешь себя. Ты уже не прежний. Новым пахнуло, и это Новое, родное, кровное, к чему должно потянуть. Не думай, не тот трус, кто сознается. Ведь это новое – великое. Ведь это то, чем жива жизнь, а в этом признаться разве преступно? А ты хочешь попрать живое. Я знаю, мучительно узнать вдруг, что все прежнее было построено на лжи. Мне легко было? Если бы я знала, что дальше делать! Но я еще не знаю, я еще не пришла в себя, я еще не вижу дальнейшей дороги. Я только узнала, что с прежней надо свернуть. Я свернула. Я сейчас полумертвая, но где-то в душе, глубоко-глубоко, есть надежда найти эту дорогу. Надо только с силами собраться. Я сейчас так устала. Ведь даром не проходят такие перемены. Но то новое, что я сознала, несет в себе живые соки. Они напоят меня, дадут мне силы. Не могут не дать; иначе где же правда? Ты смеялся, когда я говорила: мой народ. Ты усмехался, когда я говорила, что есть тысячи нитей. Саша, ты их почувствуешь.
– Говори, Эстер, говори.
– Ты будешь продолжать дело – знаю, ты на все идешь, знаю. Но помни, этим ты так туго натянешь нити, что не сможешь не почувствовать их. Я знаю, онм не порвутся, не об этом моя боль, их много раз туго натягивали, а они живы до сих пор… За тебя боль, за твою муку. Ты не знаешь, что ждет тебя. Ты не знаешь, какой ужас будет. За тебя боль. Ты не выдержишь, ты надорвешься, не хочу, не хочу этого. Не могу! Ты не знаешь, что ты берешь на себя. Ты не знаешь, что встретишь. А те… к кому ты вернешься… поймут тебя? О нет! Оценят твой поступок? Пройдут мимо твоей души, не остановятся, не заглянут и за тобой не увидят, не примут твоей тяжести. Они не согнутся. Ты согнешься. Тебе не помогут нести. Им она чужда. На тебе останется, тебя пригнет. Я уже не говорю о тех, кого ты в муке оставишь на улицах К. Страшно говорить, страшно подумать об этом. Да, возможно, что погрома не будет. Но разве, разве от этого твое безумие становится оправданным? Ты ведь идешь на это. Ничто не меняется. И в этом весь ужас. А ты, к кому ты вернешься… Что они дадут тебе? Саша, я их не виню… Ведь это просто… как сытый не понимает голодного. Они чужие. Ты говоришь, что я их не люблю. Может голодный любить сытого? Но они… всегда не любили нас, даже когда сажали за свой стол. Всегда считали нас прихлебателями. Даже когда мы или с ними рядом и, как они, несли свои жизни, свои души. Но это чувство они прятали от нас. Кипело кругом, все казалось в розовом свете и не до того было. Революция кончилась, и с ней кончилась идиллия. Теперь можно не прятать. И многие, многие не прячут. Остальные – это только вопрос времени. Но ты ничего не видел.
Я насмешливо перебиваю ее:
– Ты убеждена? – И прячу глаза. Не хочу слушать и прислушиваюсь.
– Сегодня слова о еврейских деньгах… Завтра о чрезмерном количестве евреев-революционеров…
Потом о специфических отталкивающих чертах… Политика запрещает говорит об этом; нельзя, мы под одним флагом. Но когда флаг немного спущен… Тогда… Но ты не прислушивался, ты проходил мимо. А ведь это были искренние слова… Нет эллина и иудея… Это политика, флаг. А жизнь, голая обыденная жизнь…. Она показывает другое: чужие и вечно будут друг другу чужие… Но ты видел только флаг. Вспомни… Мне тяжело об этом говорить. Я хочу сказать про Нину… Когда Шурку надо было отвезти в Россию. Вспомни, как Нина не хотела отдавать его твоей матери. А вечером… Я пришла… Тебя не было дома. Нина, волнуясь, забыла, кто я, забыла о своей нелюбви ко мне и стала говорить… Я помню каждое слово. Так отчетливо, так ясно. Предо мной сидел человек, душевно не любящий еврейскую среду, евреев, считавший, что ее сын не должен быть там. Но ведь это и твой сын – сын русского революционера. Твоя жена, скажешь ты. Господи, конечно, твоя жена – жена еврея, но и мать. И мать не хочет свое кровное видеть среди… Не буду больше, прости… – Жалобно улыбается.
– Прости, ради бога.
– Договаривай, не бойся.
– О Нине мне тяжело…
С усилием говорю:
– А я тебя очень прошу. Ну, что еще было с Ниной?
– Это все.
– Ты говоришь неправду.
– Все, Саша, право, все. О Нине – все! А когда Бергман говорил на собрании. Я приехала позже. Но успела, как успела в Лондоне… Официально все обстояло благополучно. Но за кулисами? Не в официальных кругах, а там, в глубине, где все не казенное, не напоказ? Вся горечь разбитых надежд кому предназначалась? Бергману, мне, тебе, всем нам. Ты говорил о круговой поруке. Но есть еще одна круговая порука, и ею нас связали. Они, с кем мы шли рука об руку. Когда выдает Никитин или Архипов, – нет этой круговой поруки. А ведь революционеры-то мы все. Но если вместо Никитина еврей? Ты прислушивался? Тогда забывали о революционере, а только помнили, что провокатор – еврей, и высчитывали, сколько было таких негодяев-евреев. И каждого ставили нам в вину, нам как еврейству. И каждый такой негодяй являлся лишним камнем в наш огород. Да, да! И кто? Свои же товарищи, словно вся суть в том, что предатель – еврей. Но ты этого не видел, и многие из нас, а, наоборот, даже среди нас, евреев, бывали такие, что сами себя грызли за это, сами же себя унижали: ах, представьте себе, опять еврей, ужас! Да, ужас, но не в этом, как нет ничего ужасного для русских, как для русских, что и среди них бывают негодяи. А для нас ужас, нас можно за это обвинять, коситься на нас, высчитывать, как велико их число.
– Говори, Эстер, говори.
С усилием повторяю все:
– Я тебя не перебиваю.
– Ты не хочешь открыть глаз. Я это делала, но боялась повторить себе, а когда наступила темнота предательства, нам устроили эту темноту. Во имя круговой поруки. Мы были изгоями среди своих. Свои! Ложь это. Сейчас она еще нечасто напоминает себя, но чем дальше, тем больше она растет. Идет из России в Париж, из Парижа обратно в Россию, питается какими-то соками, и между ними и нами кладется кирпич за кирпичом. Да, чужие. Да, мнимая любовь, Саша, а ты веришь. Ты заставляешь себя верить. Ты пошел и уже не хочешь оглянуться. Оглянись, только оглянись! Милый, что ты делаешь? Ты душу убиваешь. То живое, то великое, чем она живет. Ты усмехаешься, когда я произношу: «Еврейский народ», а говоря «Россия», усмехался? Найди в себе такие же силы понять и это слово. Ведь это свое, такое кровное, такое неотделимое, а ты хочешь оторваться. Ты знаешь, что свершится, и ты все же идешь. Это безумие. Гони меня, кричи на меня, что хочешь делай, но это так. Хоть раз открой глаза, пойми себя. Господи, и в этом безумии скрывается еврей. Только еврей может на это руку поднять… Словно какое-то проклятие тяготеет над нами. Ты слышишь, Саша, ты слышишь?
– Слышу.
Я все слышу. Я слышу, как минуты бегут, как шуршит за окном опавший лист. Такой же шорох в душе. Слышу, как Шурка произносит: «Бабушка!» Слышу, как Эстер плачет. Нина тоже плакала. Но это было так давно, когда-то… Когда-то я переезжал границу, услышал вечерний звон и хотелось радостно заплакать. Радость, которой нет названия. Потом я стоял у дверей синагоги. Горели свечи, покачивались головы. Когда-то мой отец, мой дед так же покачивались, и тоже горели свечи, робко, боязливо, как взоры павших. Я постоял недолго и отошел. Ничто не шевельнулось во мне. Еврей в грязном воротничке открыл мне дверь гостиницы и подобострастно улыбнулся. Он тоже способен на безумие? Я ему дал на чай. Я все слышу.
– Саша, только не молчи!
Это просит Эстер. Когда-то Нина просила меня не уезжать, а я уехал. Я подхожу к Эстер. Я помню: «гони меня, кричи на меня, что хочешь делай…»
– Есть средство, – говорю я.
Она силится понять меня.
– Возьми свои деньги.
Молчит.
– Возьми свои деньги, – повторяю я. – Они твои. Этим ты меня обезоружишь. Без них я человек с голыми руками. Смешно что-нибудь делать голыми руками.
– А если… я возьму? – Она спрашивает неслышно, только ресницы дрогнули, а руки, словно крошечные, беспомощные дети, зашевелились под платком. – Только правду говори.
Я помню: «Кричи на меня, что хочешь делай…»
– Я покончу с собой.
Молчит. Тень пробежала по ее лицу, сменилась растерянной улыбкой, и снова лицо потемнело.
– Что же ты не отвечаешь? – спрашиваю я. Все ближе иду к ней, вижу, как она неловко и угловато согнулась.
Нагибаюсь к ней:
– Теперь удобная минута. Ты можешь сразу прекратить это… как ты называешь, безумие. Только стоит тебе сказать: отдай. Я отдам, деньги твои, еврейские деньги… Требуй же их, бери их обеими руками, они твои.
– Я не возьму.
Я изумленно останавливаюсь, хочу усмехнуться.
– Ты?
…Подняла голову, как-то светло посмотрела на меня немигающими глазами, были они измученные, потухшие, и тихо сказала:
– Я не могу… Я думала об этом… Не могу. Я люблю тебя.
XII
Я хочу забыть последние слова, Эстер. Я их забуду, иначе я не дойду: они подавляют меня, они тянут меня назад, а я должен дойти. Я должен, другой должен, третий. Все мы должны. Кому? Я их забуду. Бывает такая тяжесть, которая самым крепким плечам не под силу. Но я сказал ей правду: если бы она взяла деньги, я бы покончил с собой. «Свет, свет», – как давно это было. Стелется вдоль окна дорога. Голая, неприветливая. До станции десять верст, но я успею до света дойти. Мне бы хотелось, уходя, заглянуть к Эстер в окно. Не надо, не надо! Дорога лежит позади ее дома, огибаешь местечко. Смешно заглядывать в чужие окна. Смешно, когда террорист рассуждает в заброшенном местечке о том, кто он: еврей или… Или – или. Все смешно, все слова, но я ей сказал правду: я бы покончил с собой.
Как хочется пить! Но вода в сенях, я боюсь разбудить хозяйку. Я напьюсь где-нибудь по дороге. Вон она за окном – близкая и чужая. Лампа догорает. Гаснет. Значит, время бежит, значит, все ближе час.
XIII
Мне казалось: прошло столько лет, и я, конечно, не смогу узнать улицу, где я жил, дом, где родился. Мне казалось, на меня глянет чужой город. Но как все памятно. Против почты та же горбатая старуха, тот же лоток сластей. Еще жива! Мы ее звали «спичкой». Дразнили, и она вспыхивала, гналась за нами, шипела, а потом благосклонно вступала с нами в переговоры. И вывеска та же. Ванна, а в ней двое голых ребят… Старательно выведенный указательный палец… Сих дел мастер… Тогда ее только что нарисовали. Взрослые смеялись втихомолку, а мы бегали к ней ежеминутно. Милая, смешная вывеска! Мимо, мимо! День идет к концу, надо торопиться. Если я буду останавливаться на каждом углу, я не дойду сегодня. Разве я приехал рассматривать старые, глупые вывески? Разговаривать с горбатыми, сморщенными еврейками? Вот эта… она жила на нашем дворе, я сразу узнал ее. Я помню ее, приходила к нам, к моей матери. Помню ее мужа-токаря. В его мастерской мягко шуршали пахучие стружки, нежно отдаваясь рукам, а добрые глаза хозяина смеялись и говорили: бери, бери. Шарики деревянные, изумительные шарики для игры, палка с настоящим набалдашником в крапинках, гладкая, точеная. Где же он? Умер? Подойти к ней, спросить? Мимо, мимо! Шарики теряются, люди умирают… и тихие радости души.
– Городовой, где Житомирская улица?
От городового несет водкой и ваксой. И его я знаю, и его помню. Круглый, как тумба, и эти памятные раскосые глаза.
– Выпил?
– Так точно. С приездом, барин.
– Что?
– С приездом, говорю. Видать, что новый. Очень вам благодарствую. Направо, а там уж и Житомирская.
– Спасибо, Жижелюк.
Подвыпившие глаза, недоумевая, заморгали, задвигался жирный, добродушный подбородок.
Быстро ухожу. Теряются шарики, люди умирают, знакомые, добродушные городовые избивают. Все объяснимо, все просто. Сорок третий номер, сорок третий… Еще два дома. Грязная, мокрая лестница. Дверь, обитая рваной клеенкой. Стучу и слышу, как за нею кричит:
– Минке, стучат!
– Слышу.
– Поди открой!
– Сама открой.
Снова стучу. За дверью что-то упало, прогремело.
– Вам кого? Что?
Спрашивают по-русски.
– Симохович здесь?
– Симохович? Он уже взял и уехал.
– Когда?
– Это вам нужно знать? Вчера. Вы ему родственник? Ну, я не знаю, куда. Минке!
Я опять на улице. Борис уехал, вчера… Из города, навсегда? Не может быть! Он здесь. он должен быть здесь. Усмехаюсь: а где я был? Хочется что-то стряхнуть с себя, что-то забыть. Когда-то в детстве я украл у взрослых папиросу и закурил. Было гадко и тошно… как сейчас. Иду дальше… Одни ворота, другие, третьи. Скоро их закроют – уже суетятся дворники. Темнеет. Но я найду его! Съехал с квартиры, но будет ждать на улице. Я уже прошел всю улицу, надо снова обратно. Заметят? Глупости. Город большой, людей много. И вдруг вспоминаю: родной город. Кто-то трогает меня за рукав, оглядываюсь и вижу Бориса. Не удивляюсь и беру его под руку:
– Я тебя не видел.
Он нерешительно мнется на месте, хочет обнять меня и тревожно оборачивается:
– Я стоял за воротами. Весь день я тут. Пришлось съехать с квартиры… Потом расскажу. Как, по-твоему, мы не обратим на себя внимание?.. Ты давно здесь?
– Часа два. Идем, можешь успокоиться.
Золотыми точками рассыпались фонари, людские фигуры как-то уменьшились, улица сузилась, и глуше стали голоса. Из окон, лавчонок потянулись жалкие, бледные полосы керосиновых ламп.
– Что, все идет хорошо?
Он не отвечает, а когда мы, свернув с площади, подходим к почте, он спрашивает:
– Узнаешь?
Крепко, до боли сжимает мою руку.
– А наши ворота ты узнал? А «спичку» ты видел? Я у нее вчера купил маковку. Такую же твердую, как мы всегда покупали. А ты видел наши окна? Там теперь висят красные гардины, а у нас были белые занавески. А вывеску ты видел? Когда я вышел из вагона, я похолодел. Все, каждый переулок, каждое лицо дорого. До сих пор холодно и страшно.
– Одевайся потеплее.
Он останавливается, негодующе вырываешь руку.
– Идем, – тяну я его. – Видишь, кто-то оглянулся. Не забывай, кто мы. Раз – и крышечка.
Тяну его и говорю:
– Идем. Не забывай, а все остальное – сказки. Слышишь, бредни и сказки. Старые дома, старые вывески, старые еврейки, старые добродушные городовые. Все сказки. Сантиментальные старые сказки. Даже молодые еврейки. Итак, все идет хорошо?
Он молча кивает головой.
XIV
В двух-трех словах Аким рассказывает о том, что было сделано за эти дни. Он поступил сторожем в гимназию. Удалось легко. Для Бриса нашлась квартира поблизости. Теперь район таков: гимназия, сад, две боковых улицы и в углу губернаторский дом. Возиться с фотографией не стоит, раз нет Эстер. Акиму отведена в гимназии отдельная комната. Заменит фотографию. Крошечная, почти негде повернуться, но зато просто и незаметно.
– Первое время я не буду вылезать на свет божий, только иногда. Придется вам двоим разгуливать. Когда все сделаю, присоединюсь к вам, тогда разделим между собой. Надо одну испробовать. В следующее воскресенье я свободен весь день. Успею испробовать, это нетрудно. Я уже себе место наметил, за рекой, возле старых дач. Вот тут…
Бегает палец по плану. Нагибаясь, прислоняюсь головой к плечу Акима. Он торопливо отодвигается. Мне кажется, он досадливо повел плечом, но тотчас же забываю об этом и слушаю внимательно. Коротко условливается, где нам завтра встретиться, и собирается уходить. Я его не удерживаю:
– Прощай!
Ушел. Ни о чем не расспрашивал. Если бы он знал, как я ему за это благодарен. Когда-то и я расспрашивал, но ведь это было много лет тому назад. Сейчас придет Борис. Он будет расспрашивать! Про Эстер, про местечко, будет говорить о холоде, о том, что страшно быть в родном городе. Если бы можно было прикрыть голову и ничего не слышать. Ничего! Дребезжит звонок. Он идет. Вздор, ничего нет страшного, нет никакого местечка, нет Эстер. Есть только враг и мы, нападающие. Если враг не спит – не спят нападающие, не спят и не копаются друг у друга в душе. Я твердо помню одно: две боковых улицы, а в углу дом. Теперь очередь за мной. Надо наверстать ушедшее время. Семь дней меня не было, целых семь дней. Я их отнял у дела. Нельзя простить себе. В эту минуту я ненавижу себя, с отвращением гляжу на свои руки. И хочется заломить их. Скрипит лестница… Я быстро прихожу в себя, а когда входит Борис, я уже спокоен. Но я не ошибся: сказав несколько слов о деле, он тотчас же спрашивает про Эстер. Осторожно, стараясь это сделать незаметно, я отклоняю его вопрос, но он снова возвращается к нему. Я встаю.
– Ты для этого пришел? Не стоило.
Он пытливо глядит на меня.
– Почему?
– Излишне. Все эти разговоры о родных городах, об Эстер, об ее отказе и о прочем мне надоели.
– Для тебя это только «прочее».
Волнуясь, он краснеет.
– А что же? Я приехал не для этого. Хочется думать, что ты не для этого покинул Париж. Это более чем смешно. Слушай!
Я стараюсь говорить мягко, но что-то сдавливает горло. Хочется крикнуть. – Гостиница, – вспоминаю я и продолжаю негромко и сам прислушиваюсь к своим словам.
– Слушай! Ездили до нас другие, зная, что они едут. А приехали мы и склоняем: еврей, еврея, еврею. Спрягаем: они могут, мы не можем… Одно другого стоит. Что же тогда, наконец? Над нами всеми висит какое-то предопределение? Все мы должны теряться? До Вержболова все ясно, а за ним туман? Не хочу, понимаешь, не хочу верить в предопределение. Эти разговоры – раздающая ржавчина. Оставь их.
– Боишься?
Весь изогнулся и настойчиво твердит:
– Боишься, ты боишься. Хочешь скрыть это. Голову запрятать. Боишься!
Вне себя отталкиваю его.
XV
Сегодня я хочу бесконечной ночи. Ночью можно громко спрашивать самого себя: боишься? Ночью никто не услышит ответа. Никто не будет злорадствовать, только еще глубже станет тишина. И никого не придется отталкивать.
Я говорю себе: отвечай же, ведь день наступить и днем тебе придется многим заглянуть в глаза, или ты будешь отворачиваться? Я вспоминаю: Бергман ответил себе, ночью открыл дверь и исчез незаметно, как незаметно пришел. Отворачиваюсь от двери, стараюсь не глядеть на нее, но словно тянет меня кто-то неизвестный, стоящий внизу, и у него длинные, сильные руки. Я с дрожью передергиваю плечами. Холодно… И Борис говорил: холодно. Я ему посоветовал одеваться потеплее. Но когда страшно?..
Утро идет. Сверкает иней на крышах, серебряной полоской протянулся на краю тротуара. Чье-то окно искрится под солнцем. Задорно стучат на мостовой подковы. Иду вниз. Девятый час, в девять свидание с Борисом. Надо ответит себе… Возле собора часы показывают девять. Надо ответить себе… Но я не хочу опоздать, он опять станет спрашивать. Изогнется. «Опоздал, о чем ты думал?»
– Берегись!
Щелкает кнут, ударило в плечо. Я перехожу на другой тротуар. Иней растаял, на земле мокрые полосы. Прежние, уродливые крыши. Вхожу в чайную и уже с порога вижу в углу Бориса, а над ним портрет Пушкина. Делаю над собой усилие и не торопясь подхожу к Борису. Я отвечу себе.
– Здравствуй. Ну, нашел?
Он сообщает мне о моей будущей квартире. Запинается.
– Очень… удобно… потом… близко.
И вдруг говорит:
– За вчерашнее… Прости меня.
Нет сил взглянуть на него. Устало подпираю голову руками. Я хотел бесконечной ночи, но утро пришло. Есть другое бесконечное – дорога. Надо свести жизнь к молчанию и идти.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?