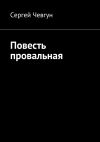Текст книги "Салон-вагон"

Автор книги: Андрей Соболь
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Глава пятая
I
Концы опять брошены. Опять, как спицы в колесе, закружились дни. Но каждый новый день приносит нам новую неудачу. Мы топчемся на одном месте. Все наши попытки придвинуться хоть на один шаг падают бессильно, словно снесенные ветром сухие листья.
– Ты слишком торопишься, – говорит мне Борис.
Знаю, он сейчас добавит: как перепуганный ямщик. Молчу. Прощаюсь с ним и ухожу. Уже горят фонари, я могу покинуть улицу, вернуться домой. Мой дом – серо-темный. На лестнице постоянно слоняются кошки. В вечерний час сверкают кружочки глаза, слышится вкрадчивый шелест гибких, пушистых тел, и мне становится жутко, когда на меня в темноте надвигается фосфорический глаз, и противно, когда возле моих ног шевелится клубок живого трепещущего мяса.
До утра я в своем углу. Он грязный, в нем еле помещается кровать, за окном глухая стена чужого дома. Никто не видит меня, не надо прятаться, ломать себя и, когда хочется от боли закрыть глаза, не надо пытливо глядеть во все стороны. Моя хозяйка – лавочница. На базаре ее лавчонка. Такая же сморщенная, такая же приниженная. Моя хозяйка одна. У нее был сын, но он исчез несколько лет тому назад. «Растаял», как она сама объясняет с покорной улыбкой. Говорит, что я похож на него.
– Ох, как две капли воды!
А когда, возвращаясь с базара, она, кряхтя, отворяет дверь и, охая, просит помочь ей втащить узел, я забываю, кто я. Настоящее кажется мне чьей-то глупой и злостной выдумкой. И правда в том, что я, Айзик Блумберг, безработный переплетчик, и Хана лавочница связаны крепкими узами и что мы оба боимся городовых.
Словно убегая от опасности, я ухожу от нее, тороплюсь в свой угол. Глухая стена заслонила город, огни.
Еще темнее ночь, еще глубже тревога. Она постоянно со мной. Я не могу избавиться от нее. Слышу, как старуха бормочет молитву перед сном, невольно повторяю за ней полузабытые древнееврейские слова. Ловлю себя на этом, хочу усмехнуться, но вспоминаю: я один, не надо прятаться. И долго и бережно прислушиваюсь, а рано утром полузимний-полуосенний свет, черство и холодно, скользя вдоль стены заглядывает в окно. Я встаю. Со мной встает все то, что я оставил за порогом. Идет новый день игры в прятки, слежки, усилий, и я хочу смеяться над лавочницей, над Айзиком Блумбергом, над узами. Надо смеяться, надо идти и не оглядываться, иначе я упаду.
Возле собора проверяю свои часы. Когда бьет десять, я уже на условленном месте. Приходит Борис. У него круги под глазами. Заострились скулы. Бледное лицо и бледные без кровинки губы. Я отворачиваюсь и несколько минут молчу.
II
– Аким, лучше всего бросить гимназию. Двоих мало для слежки. Мы на мертвой точке.
Он отвечает враждебно:
– Нет, уж позвольте мне остаться.
– Ты злишься?
И в молчании его враждебность.
– Таким я тебя еще никогда не видал, – говорю я.
– Вам можно меняться, а мне нельзя?
– Я этого не говорю.
– Но думаешь так. Аким человек, мол, добродушный, знает одно: палить да рубить; а насчет всяких чувств несмышлен, не его область. Мертвая точка, говоришь. Не я на нее стал и не моя вина. Ваша.
И он договорился. Я все принимаю, я все приму, но не дам ему уйти:
– Мы сойдем с нее, увидишь.
Он улыбается неопределенно:
– Когда рак свистнет.
– Простая случайность.
Он хмуро отвечает:
– Не особенно-то простая. – И перебивает себя: – Эх, чего тут болтать, все равно уж кончено дело. Не доведем до конца.
– Доведем.
– Кто?
– Мы.
– Вы? Да я вам не верю.
Показывает на пальце:
– Вот настолько. Опять кто-нибудь из вас удерет. А я один что сделаю? Только людей насмешу или напугаю. Следовательно, по домам. Не так ли?
Я собираю последние силы:
– Нет, нет.
До вечера я с ним, и жалкие остатки своей уверенности я хочу передать ему.
III
Маленький черненький еврей, поблескивая очками, рассеянно слушает меня. Когда я кончаю, он недоверчиво произносит:
– Гм, так я и поверю вам, что вы голодаете.
Я не ухожу. Он спрашивает:
– Что еще? Можете уходить.
Я громко отвечаю:
– Места. Я есть хочу.
Он машет рукой. Тогда я, словно без сил, берусь за угол стола и взволнованно говорю:
– Где ваша душа? Видите голодного еврея, а не хотите помочь. Своему брату – еврею?
– Э! Братья! Бабушкины сказки.
– Ведь вам все равно нужен человек. Вы нарочно так отвечаете. Я вижу, у вас хорошая, настоящая еврейская душа.
– Э!..
Я добился своего: место за мной, с завтрашнего дня я газетчик. Возле памятника меня поджидает Борис.
– Удалось?
– Да. Я затронул чувствительную струнку.
Заговариваю о другом, но он снова спрашивает:
– Удалось? Каким образом?
– Если тебе это нужно…
Рассказываю ему, но, не дослушав, он перебивает меня:
– Какой ужас!
И весь трепещет, словно связанная птица в руках охотника.
– Ужас, стыд. Все… что ты говорил ему.
Я молчу. Он настойчиво берет меня за плечо.
– Молчишь?
С ненавистью оборачиваюсь к нему.
– Молчу! Ты занимаешься открытиями. Пожалуйста! Но ведь это старо. Обман… А ты как думал, без обмана доберемся? Честными путями? Один на один, выходи, мол? Вроде божия суда?
Я возвышаю голос, а он тихо и как-то странно спокойно говорит:
– Зачем ты сказал ему о еврейской душе? Лги, обманывай, но не издевайся.
Говорит и качает головой:
– Ты пришел к нему, как свой, о своем сказал, о евреях. Во имя этого требовал помощи. Он не знал, кто ты. Ты издевался. Ты сказал одно, а завтра погубишь его, его жену, детей.
– Уйди, – глухо говорю я.
Он покорно встает, хочет идти. Я вскакиваю со скамьи.
– Ты не понял… Навсегда, слышишь, навсегда. И когда он пытается что-то сказать, я, забыв, где мы, кричу ему злобно:
– Баба!
IV
Гремит жизнь города, что-то создает, что-то разрушает. Суетятся люди, горят огни, уходят и приходят поезда, выбрасывая и забирая людей. Все это за моей спиной, но я не оборачиваюсь. Чьи-то руки берут у меня газеты, платят мне; я ухожу от них, подбегаю к другим и громко выкрикиваю названия; от них бегу к третьим и тотчас же забываю их.
Четвертый день я не вижу Бориса. Ищу его везде, но улиц много, день проходит быстро, и я не успеваю быть всюду. Несколько раз я заглядывал в чайную. Однажды, продав все газеты, я простоял возле его дома до ночи. Я его нигде не встречаю. Я не знаю, где он. Я перестаю помнить, кто я, зачем я приехал, – я ищу Бориса. Спрашиваю себя: для чего? – и страшусь ответить себе. Не слышу, не вижу, что творится на улице. Я перестал следить. Я перестаю помнить, где дом губернатора. Пропускаю мимо себя сотни лиц, и ищу одно – родное и близкое.
– Газета Копейка! Газета Копейка!
Лихорадочно перебегаю с одного тротуара на другой. Надо сознаться: сейчас нет террористов, нет губернатора – брат ищет брата.
– Вам номерок? Извольте.
Я ищу соучастника. Я боюсь остаться один… За углом, в витрине фотографа выставлен портрет губернатора. Огибаю угол, на миг всматриваюсь в толстое бритое лицо. Останусь один. Один на один, по-честному? Божеский суд? Как было когда-то?
– Последние Известия! «Биржевые ведомости»!
Надо сознаться: мы хороним себя. Я ему кликнул: «баба» и спрятался за словом. Нет ничего легче, как упрекать другого.
– Самый последний. Поглядите, пожалуйста!
Я найду его. Приведу его и скажу: «Идем». Мы пойдем, мы пойдем!
Вечером, сдав выручку, я спешу к Акиму. Забываю все предосторожности, звоню с парадного хода, и только когда в дверях появляется швейцар, я понимаю, что сделал. Спрашиваю Акима. Швейцар неодобрительно оглядывает меня с ног до головы, захлопывает дверь. Я остаюсь в саду. Я поступил оплошно. Все равно… Все равно дорога одна. Слышу шаги Акима. Хочу пойти к нему навстречу, но трудно подняться со скамьи. Он подходит, садится рядом.
– В чем дело?
– Надо найти Бориса.
Торопливо прибавляю:
– Четвертый день его нет, исчез. Надо найти!
– Ты искал?
– Да.
Он спокоен. Я еще торопливее говорю:
– Потому я пришел к тебе. Искать надо. Я один не успеваю.
– А где, по-твоему, он может быть?
– Не знаю. Ты не удивляйся!
Он сухо отвечает:
– Я уже давно перестал удивляться.
Ветер зашумел в голых ветках. Ровно и холодно звучит голос Акима:
– Вы каждый день подносили новое. Научили не удивляться. Когда вы приехали, я горел. Но вы стали лить холодную воду. Как видишь, заморозили. Я всего жду от вас.
Я встаю и, не оборачиваясь, иду к выходу. Пробираюсь к своему дому глухими переулками, выбираю неосвещенные улочки. Страшно и жутко при свете. А возле своих ворот я застаю Бориса, и все напряжение последних дней я вкладываю в одно слово:
– Пришел?!
И тотчас же овладеваю собой, он не должен меня видеть таким, надо все затаить в себе – и радость, и боль. Он просится ко мне. Я веду его по лестнице. Он спотыкается. Беру его под руку. Несвязно шепчет мне на ухо, забыв свою просьбу:
– Куда ты? Пусти. Конспирации забыл, а еще борец.
– Иди, – говорю я, ногой толкаю дверь, подвожу его к постели.
– Пить хочется, – бормочет он и ловит меня за пальто.
– А еще говорят, что евреи не любят выпить. Вздор!
– Ложись!
– Это оттого… Другим опьяняемся… Всегда пьяны несбыточными фантазиями. И ты пьян. Ты мой пьяненький еврейчик, смешной, бедный.
Тянет меня к себе.
– Зачем ты в Париже оттолкнул Кона? Он просился, а ты выставил его. И его следовало взять. Зачем ты ему отказал? Были бы все еврейчики, все бы стояли рядышком и качались. Ты решил: он не годится. Меня нашел годным, себя. С пьяных глаз ты отбирал лучших, а видишь… Как все пьяные… Хотят по дороге, а попадают в овраг. В яму летят, а ты говоришь: революция. По дороге гвозди натыканы, а ты говоришь, что надо идти. Пусть акимы идут. Они – русские, не почувствуют гвоздей… Для нас натыканы. Колются? А?
Приподнялся на постели и жадно глядит на меня:
– Почему я четыре дня от солнца прятался, а Аким и рукой не заслонялся? Почему ты по ночам не спишь? Аким спит… Утро приходит, он встает… А как ты идешь? Шатаешься… Колются? А? Не скрывай, я вижу, теперь уж не скроешь.
– Не кричи, – говорю я безучастно. – Хозяйку разбудишь.
– Пить, – просит он.
Только что я принес несколько бутылок пива. Он пьет стакан за стаканом.
Нечаянно опрокинул стакан, потянулся за ним, но увидел на столе мою руку – схватил ее и стремительно прижал к себе.
– Горит…
Не то ласкает, не то сдавливает ее.
– Сил нет…
V
Он заснул, не выпуская моей руки. Сижу возле него, спящего, боясь пошевельнуться. Я ни о чем не расспрашивал его, не знаю, где он провел эти четыре дня. Он свернулся в комочек, словно продрогшее дитя, и, как дитя, дышит еле слышно. Ни шороха, ни звука – в комнате, в душе. Ночь за окном, ночь внутри меня. Так же молчаливо, как и она, так же бездумно я принимаю минуты, часы, слышу размеренный шаг вечного времени. Как и она, я вздрагиваю при первом проблеске света, при первом намеке идущего дня. Бужу Бориса.
– Вставай! Пора!
Сперва он растерянно и недоумевая озирается. Я равнодушно встречаю его взгляд. Уславливаюсь с ним, где мы встретимся, прошу его пройти незаметно мимо дворника. А когда я, проводив его до лестницы, иду обратно, он тихо зовет меня и говорит:
– Не бойся, я не убегу. Я пойду… На все.
Зачем он это сказал? Ведь ясно: на все. Неизбежно, нужно. Нужно ли?
– Да, – отвечаю я себе.
А часа через два я отхожу от вокзала с кипой новых газет. Они сырые и пахнут краской. На улицах снег – чистый и радостный. Первый снег.
VI
Я не заметил, как прошла неделя. Все мое внимание направлено к одному. Хладнокровно обдумываю каждый свой шаг, каждый шаг Бориса. Другими глазами окидываю город, запоминаю все мелочи. Борис хотел получить место рассыльного по русскому паспорту. Он сомневался, примут ли, говорил про еврейское лицо. Я вспомнил разговор Эстер о мимикрии и рассмеялся. Мы неуклонно идем к цели. Я помню две улицы и в углу дом. Этот угол мы окружили с двух сторон. Помимо этого я ничего не хочу знать. Когда я остаюсь один, мне холодно и неуютно, но ночью меня никто не видит, а днем я опять на ногах.
Вечером в чайной Борис снова заговаривает со мной о погроме. Я ему говорю:
– Одно из двух: или слова, или дело. Слов было много.
Он спутано бормочет в ответ, но я не расслышал. Я не хочу прислушиваться. Тогда я должен прислушаться к самому себе.
Я говорю Борису:
– Ты убежал на четыре дня, но все же вернулся. Значит, что-то не позволяет отойти. Называй это «что-то» как хочешь, но оно есть, оно не отпускает. Не я ведь удерживаю тебя. Разве может человек удержать человека? Ты упорно возвращаешься к погрому. Хорошо, представь себе, что погром будет. Но ты вернулся. Кто тебя заставил? Найди в себе силы понять это. Ты ведь можешь уйти в любую минуту. Уходи, вот дверь, вот улица, деньги у тебя есть, вокзал недалеко. Ты не привязан. Уйди, если хочешь.
Поздно ночью возвращаюсь к себе. Хрустит снег под ногами. Под ним спрятались убожество и грязь мостовых. Белеют крыши, улицы. Раскинулся светлый покров и тихий, безмятежный покой на всем и повсюду. В ночные часы я бессильно опускаю голову.
Воскресенье. Аким приходит ко мне с тремя снарядами. Два он оставляет у меня.
– Мало ли что может случиться, – говорит он, подавая их мне. – С третьим он пойдет к старым дачам. Там теперь пусто, дома заколочены, и никто ничего не у слышит, только от удара взметнется снег, разлетятся воробьи – и снова станет тихо, и снова будет прежнее зимнее безмолвие.
Я беру снаряды, прячу их. Аким внимательно присматривается, а когда я ставлю кровать на прежнее место, он говорит:
– Осторожно.
– И ты будь осторожен.
Он усмехается, объясняет мне, что ничего опасного нет. Забросит веревку на дерево, привяжет снаряд, расчистит снег и с силой опустить на землю. Веревка длинная, а он отойдет далеко, и, следовательно, все кончится благополучно.
– Когда же мы теперь увидимся? – спрашиваю я.
После долгого молчания он отвечает:
– Об этом мы потом поговорим.
Он меня ни о чем не расспрашивает, даже не спрашивает, где я нашел Бориса. Он безучастен ко всему, безучастно глядит по сторонам, и я замечаю в нем только одно: желание как можно скорее уйти из моей комнаты. И в этом я помогаю ему. Пусть уходит: ведь мы все отчуждены.
– Ну, значит, до завтра.
– Да, – отвечает он и все же не идет.
Тогда я говорю:
– Что же ты не уходишь? Я вижу, что тебе здесь трудно усидеть. Со мной. Не ломай себя и уходи. Ведь я все вижу.
– Все ли ты видишь? – спрашивает он и как-то исподтишка улыбается. Все ли? А ну-ка, скажи.
Я молчу. Он спрашивает:
– Помнишь нашу встречу в В.?
– Помню, – отвечаю я не глядя.
Знаю, что это нехорошо, – надо глядеть прямо в глаза, но не могу.
– Помнишь, как я горел?
– Помню.
– А как бодро и радостно зашагал за вами? А как помаленечку да помаленечку вы стали бить меня по голове? А как понемножечку да понемножечку обливать меня холодной водицей?
Он берет меня за плечи, хочет повернуть к себе.
– Что ж ты глаза опустил? Боишься?
– Жиды, – тихо говорю я.
Он тотчас же отпускает меня, а, взглянув на него, встречаюсь с чужими, враждебными глазами, и тогда я без удивления, без ужаса, спокойно, словно нечто должное, слышу, как он говорит:
– Ненавижу я вас.
Я повторяю про себя: «Ненавижу, ненавижу». А ему говорю: «Так и надо», – и вижу, с каким изумлением он принял мой ответ. И тогда еще упорнее, еще тверже я говорю ему:
– Так и надо. За что нас любить?
Теперь он уже недоверчиво и презрительно смеется:
– Унижение паче гордости?
– За что нас любить, – повторяю я и так же, как Борису, я указываю ему на дверь, говорю, что вот дверь тут, а за ней улица, что он может бросить все и уйти; ведь вокзал недалеко, за ним тянется длинная полоса рельс, и рельсы разбегаются в разные стороны, а в вагоне можно уснуть и проснуться потом среди новых людей, живых, не мертвых, среди своих, а не чужих, у кого душа – душа, а не куча вывороченных тряпок. Спрашиваю, есть ли у него деньги, предлагаю ему, но он швыряет их на стол.
– Уйти? Ишь ты, хитрый какой! К новым людям, у кого души хорошие? А что прикажешь с собственной своей душой делать? Чик-чик – и перестроить ее на новый лад? Словно балалайку какую-нибудь. А если она вся целиком по швам треснула. У кого душа – душа, говоришь ты, а не куча вывороченных тряпок. К новым людям, говоришь ты, к новеньким, как новенький, только что сделанный пятак, этакий блестящий, свеженький, говоришь ты. Уйди, говоришь ты, а сами всю душу перевернули. Вое вижу, говоришь ты. Ой ли? А почему не видал, как с первого же дня полегоньку отстраняли от себя? А почему не видел, каково мне это было? А почему не видел, что Эстер ваша на первых же порах дала мне понять, что вы – это не я? Все вы трое дергали меня. То тем, то другим. И надергали. Сперва паром обдали, горячим, а потом – пожалуйте в холодный душ. Все вижу, говоришь ты. Нет, не все ты видел. Почему сразу не заговорили со мной начистоту, а с подходами разными? Раз по затылку, и тотчас же: прости, пожалуйста, но ты чужой. Другой раз по затылку и моментально: извини, пожалуйста, но тебе этого не понять. Но затылок-то мой. Мой собственный, и когда меня бьют по нем, мне больно, точно так же, как и вам.
Ну, надергали! А теперь ты говоришь: уйди. Куда, для чего, если я все потерял. Эстер кричит: не поеду в К. Ну, стоит ли объяснять Акиму, почему она так говорит? Ты удираешь с ней – о, это Акима не касается, он не свой. Ты приезжаешь не тем, каким уехал, – ну, Аким все равно не поймет, чужой он. Дело одно, общее, а друг другу чужие. Тогда, милый человек, и дело не общее, и дело не одно. А теперь говоришь: уйди. Спасибо, товарищ, опоздал ты маленько. Мне Борис обо всем рассказал. И тоже опоздал. Обо всем рассказал. Вчера рассказал. Пришел ко мне вчера вечером, поймал меня у ворот и говорит: Сил нет, выслушай меня. Выслушал я. Ты, говорит, как теперь поступишь? Я его спрашиваю: почему ты мне раньше не рассказал? Ты, говорит, не понял бы, тебе все эти чувства, мол, чужды. А почему я теперь пойму, спрашиваю, почему я теперь должен понять? Никто так не умеет отравить самое светлое, как вы, а потом вы сами же лезете плакаться на жилет. Оттолкнул я его. Да, на самом деле, с ненавистью, и не боюсь в ней сознаться. Когда сперло окончательно, тогда только пришел. А где раньше был? Да, оттолкнул его, ко всем чертям послал и посылаю и понимать ничего не хочу и не буду понимать. Пришел ко мне, когда уж сил не хватило, о том не подумал, что и у меня силы не бычьи, а всего-навсего только человечьи; пришел; и учит, как я должен поступить. Теперь, только теперь, когда внутри все уже смято. Где вы раньше были? Ты, говорит, не понял бы. Не хочу понимать, не буду и не надо меня учить, как поступать. Поздно. Сам найду дорожку, сам, как все время был сам, один, когда вы вместе были. И сейчас вы вместе и всегда заодно, друг за дружку и крепко очень. Вместе вы, а я на отшибе. Вы же и отшибли.
Когда он идет к двери, я отворачиваюсь к окну. За окном глухая, темная стена, а снег чистый где-то далеко, далеко.
– Прощай, – говорит Аким.
Я ничего не отвечаю, не оборачиваюсь, слышу только, как дверь скрипит, вижу только кирпичи стены, считаю их машинально… Один кирпич… два кирпича… три, четыре. Нас четверо… нас трое… нас двое… Я один… Темно и глухо.
VIII
Снег падает крупными хлопьями. Еще белее стали улицы, и на голых черных ветках появились узорчатые узкие кружева. Иногда отделяется кусок, падает вниз, но тотчас же неутомимая снежная рука ткет новые полосы. Я весь в снегу, залеплен им, в снегу мои газеты. Я продаю номер за номером, и в каждом из них одно и то же сообщение о смерти Акима. Неизвестным, незнакомым людям я сую номер в руки и каждому рассказываю, как возле дач нашли разорванного Акима, как в снегу заалела человеческая кровь, как у забора одной из дач нашли сапог с кусками мяса. Об этом сапоге все читают сейчас с содроганием, но кто так ясно, так отчетливо видит его, как я?
– Газету вам? Сию минуту.
Газеты все проданы. В киоске хозяин выдает мне другую кучу, и я снова на тротуаре. Прохожу мимо гимназии. Там все еще продолжается обыск. Ищут. Чего они ищут? Он уничтожил все следы, он все рассчитал, он все взвесил. Он был спокоен, более спокоен, чем у меня в комнате. Снег все падает и падает, настойчивее застилает улицы, он падает и за дачами, и, конечно, там уже кровь покрыта белою пеленою, ее уже не видать. Не видать ее, не видать Акима, не видать покоя… Покойно только на кладбище. Даже тем, кого хоронят с одной ногой. А те, у кого две ноги – живые, с мышцами, с мускулами, – падают с ног. И ждут. Чего они ждут?
Нельзя зевать: у меня просят газету, а я сую деньги.
– Виноват! – И я стряхиваю снег с газеты и подаю ее высокому господину в шубе. У него длинные пушистые усы. Сядет в трамвай, будет крутить усы и читать про Акима. Прочтет и проведет по усам, прочтет и улыбнется соседке. Конечно, улыбнется: у него красивые зубы, поэтому он считает нужным улыбаться. И вот этот прочтет – грузный, уже немолодой офицер. Не артиллерист ли? Они знают, как это делается. Берут веревку, забрасывают ее на дерево, потом далеко, далеко отходят в сторону, ведь веревка берется для этого длинная, а сук на дереве выбирается гладкий, отпускают веревку и отбегают, а когда все кончено, невозмутимо возвращаются к себе домой, только некоторое время гудит в ушах. Очень просто: берут веревку, берут веревку и – отшвыривают ее в сторону, бросают снаряд у своих ног и говорят: ненавижу.
Я не на ту улицу попал. Я забыл про газеты, я не продаю их и причиняю убыток своему хозяину, тому самому милому человеку, с которым у меня был разговор о еврейской душе. Это нехорошо. Надо продавать, зачем огорчать еврея, евреи должны быть всегда вместе и всегда заодно, друг за дружку и крепко очень – я помню это, я ничего не забыл. Нельзя и о газетах забыть. Надо бодро продавать, бодро бегать от угла к углу, бодро стучать сапогами по снегу, ведь сапоги на мне, а не возле забора, и на снегу нет кровяных пятен. И надо напевать себе под нос. Вот ту старую, старую песенку:
Я себе еврейчик веселого нрава,
Я себе еврейчик без дома и права,
Я себе еврейчик просто так
И пою себе весело гоп-чик-чак.
IX
Поздно вечером я вижусь с Борисом.
– Саша, кривится он весь. – Саша, это он сам… Нарочно… Я ему недавно рассказал. Он понял, что мы готовимся сделать… Не захотел брать на свою душу…
– Ты окончательно рехнулся, – отвечаю я. – И внезапно я делаю то, чего не должен был бы делать: тяну к себе Бориса и говорю ему:
– Он отравился. Постой, постой. Мы его отравили давным-давно. Понимаешь, мы. Он сам мне это сказал.
– Когда? – почти кричит Борис.
– Конечно, до смерти, – усмехаюсь я.
И, как сорвавшийся камень, я качусь уже все дальше и дальше:
– А что он говорил тебе о своей любви к нам? Приятные слова? А ты как их понял? А если мы все в нем сожгли? А если Эстер подбросила первую щепку, а ты стал раздувать, поддувать? А потом и я? Друг за дружкой? Один за одним?
– Ради бога, замолчи.
– Хорошо, – соглашаюсь я.
Уходим из чайной. Я иду влево, он – вправо и быстро пропадает в хороводе снежинок. Они кружатся, вертятся. Вертится и время, надо готовиться к новому дню. И мы вертимся.
Мне вспоминаются старые, испорченные шарманки. Они хрипят – зубцы попадают не в те отверстия, начало мелодии одно, а конец другой, но шарманщик вертит ручку, иначе ему не подадут милостыни. Искалеченные, попорченные шарманки… Шарманщик, верти ручку!
И мы должны вертеться, иначе не будет милостыни или гнева.
X
Я опасался: не будет ли за нами слежки после смерти Акима, но опасения мои были напрасны – все по-прежнему, нет любопытных глаз, мы можем по-старому действовать, между нами и смертью Акима нет никакой связи, ее не установили.
Теперь Борис торопит меня, но я не говорю ему, что мы поменялись ролями. Я ничего не говорю ему. Смерть Акима унесла все слова – и любви и ненависти. Нам не о чем говорить, кроме дела, а деловые наши разговоры кратки: ведь мы охотимся, и какие могут быть разговоры у охотников, когда надо торопиться, следить, вынюхивать и остерегаться? Когда неудача, мы молчим; когда удачный шаг, мы коротко уславливаемся о дальнейшем и каждый уходит в свой угол и каждый в своем углу остается со своим глаз на глаз.
Сегодня ночью я постараюсь уснуть. Пять дней, как умер Аким. Пять ночей без сна. Хотелось часто по ночам уйти из своей комнаты, побродить по чистым и белым улицам, когда нет на них людей, а только снег нетронутый, я ведь знал, что утром он будет смять ногами, колесами; хотелось прислониться к фонарю и глядеть, как, падая из смутного неба, снежинки светлеют в полосе света, но не решался, – помнил, что я охотник и что могу оставить за собой следы.
Я засну сегодня. Вчера ночью я вспомнил о том, о чем старался всегда забывать, и в этом воспоминании был голос Нины и шум каштанов в парке против окна моей парижской комнаты. Я вспомнил, что было написано в моем письме. Я беден, я не могу себе позволить; такой роскоши, как ежедневные воспоминания, я засну сегодня. Охает и кряхтит за стеной моя хозяйка-старуха. Просит Бога наложить сон на ее вежды, бормочет старую-престарую молитву на сон грядущий. А мне некому молиться, я позабыл все молитвы, и, быть может, все то, что я хочу сделать, будет насмешкой над Богом.
XI
Я поздно заснул, очень поздно, и мне снилось, что я очутился на улице перед витриной фотографа, где под стеклом висел портрет губернатора. Я охватил глазами толстый подбородок, бритые щеки и упрямый, умный лоб. Притворился внимательно разглядывающим карточку какой-то артистки в роли Кармен, а сам подмигнул ему, дал ему понять, что пришел ради него. Он понял меня и тоже подмигнул. Я ему сказал:
– Здравствуйте! Я уже давно знаком с вами, ежедневно прохожу мимо, но не останавливался, а вот сегодня я пришел к вам.
– Что ж, поговорим, – ответил он мне, а голос у него был глухой, с одышкой.
Тогда я ехидно спросил:
– А не боитесь?
Он молчал.
– Не отвечаете на этот вопрос? Ладно. Но вы знали, что я приеду?
– Да. – При этом он чуть-чуть усмехнулся, и его нижняя губа свисла, но лицо помолодело.
Я спросил снова:
– Скажите, генерал, по правде, кто из нас сильней? Вы или я?
Он ответил, прищуриваясь:
– Оба одинаково.
– Но я моложе вас.
– Это вам только кажется.
– Ведь я один.
Он пренебрежительно скосил бровь. Я хотел уже уйти, но что-то вспомнил, вернулся и сказал:
– Я еврей. Вы это знаете?
Он странно дернул одной щекой и бросил отрывисто, как-то по-солдатски, но в то же время грустно:
– Нехорошо.
Я хотел ему ответить, но не успел: проснулся. Светлело в комнате.
XII
День морозный. Снег хрустит под ногами, – другой он уже, не вчерашний, какой-то чуждый, далекий. Звонят в церквах – воскресенье. В такое же воскресенье умер Аким, и так же гудели колокола. Будет еще одно воскресенье? Нет, не должно быть, надо напрячь все силы и докончить.
Я стараюсь не отходить от губернаторского дома, но незадолго до выезда губернатора мне неожиданно приходится уйти. За углом вижу только быстро промчавшиеся сани и прямую негнущуюся спину. Скоро я увижу и лицо, близко возле себя. Так же, как видел во сне.
Прячу газеты под пальто – я их все продал – и торопливо иду к народному дому. Борис уже там. Перед ним недопитый стакан чаю. Я велю подать новую порцию. Грею замерзшую руку над горячим чайником, а другой пишу Борису на полях газеты: «Видел его, сани я запомнил, кучер уже другой. На этой неделе мы все кончим. Мне снился очень знаменательный сон. И добавляю вслух:
– Да, да, вот увидишь; кончим. Такие сны не приходят напрасно.
Он иронически улыбается, а когда он уходит, я еще долго сижу над остывшим чайником и хочется мне рассмеяться над сном, над всеми вечно лживыми снами, о чем бы они ни говорили, но нет смеха, и помню и слышу отрывистое и грустное:
– Нехорошо.
Сумерки… небо покрылось дымкой… за дымкой спрятался закатный румянец… Вечер… заискрились фонари по снегу… тонко скрипят полозья… Ночь… холодно в моей комнате… печь погасла, скрылись огненные язычки.
И все слышу и все помню: нехорошо.
XIII
День прошел, второй и третий, а мы все топчемся на одном месте.
– Что могут сделать два человека, – уныло бормочет Борис.
– Все, – уверенно отвечаю я.
Сегодня, когда я брал газеты, хозяин вдруг вздумал побеседовать со мной. Спросил, каково мое мнение о сионизме, хорош ли он. Я ему ответил, что очень, очень хорош.
– Э, положим, – ответил он мне и спросил, посмеиваясь: – А как, например, быть с Россией?
– С Россией? – переспросил я. – С какой?
Он подошел к окну, указал мне на улицы, на дома:
– А это что?
В это время мимо прошли околоточный и два полицейских. Тогда я указал на них и тоже спросил:
– А это что?
Он хитро улыбнулся и ответил нараспев:
– Э, умные люди находят себе умные пути.
Под вечер, когда Борис снова тоскливо говорить о наших неудачах, я перебиваю его и повторяю последние слова моего хозяина. Борис в недоумении.
– Глупый ты, – говорю я ему. – Ты забыл, кто мы. Нет, милый, мы должны поддержать престиж. Положение обязывает.
– Что с тобой? – спрашивает он тревожно.
Со мной? Ничего. Я спокоен, как бывает всегда пред неизбежным концом; я закрываю глаза, надолго, пока не придет нечто и не прикажет: открой. Я знаю, придется открыть, придется за все ответить, а это «нечто» я вижу выпукло и отчетливо. Оно надвигается, оно явится.
XIV
Идет четвертый день. Внезапно потеплело. Тает снег, буреет по краям, запели канавки, по небу пронеслась стая облачных барашков. Кое-где на улицах уже застучали колеса. На реке показались голубые трещины, и на мосту толпятся люди и каждую новую трещину встречают криками. А к вечеру ударил мороз, и снова заузорил окна, витрины, и снова на мосту тихо и пусто.
На мосту я поджидаю Бориса. Я его не нашел в чайной в условленный час.
«Что-нибудь случилось, – думаю я про себя, – иначе бы он пришел».
Глушу тревогу и пристально вглядываюсь в темноту. Идя домой, он должен пройти мост, следовательно, я дождусь его. Слышу, как один раз бьют часы, другой, но не ухожу. Холодно. Пронзительный, ледяной ветер веет с реки, режет, колет лицо и руки. Холодно и тревожно. Прошел третий час, близится четвертый… Меня заметили, приближается полицейский. Не торопясь ухожу с моста. Вижу, как полицейский нерешительно идет назад. Учащаю шаги, и вскоре я дома. Ночь приходит, как всегда, в полусне, а утром возле киоска я нахожу Бориса. Я ему указываю глазами направо, и в воротах какого-то дома Борис растерянно говорит мне:
– Эстер здесь. Я вчера был с ней.
Его растерянность действует на меня, как удар кнутом, но я нахожу в себе силы усмехнуться:
– Так что же? Пусть!
– Она тебя ищет.
– Она мне не нужна.
– Саша, милый, – просит он. – Пойди к ней, она тебя ждет.
То гневно, то ласково упрашивает, дает мне указания…
– Я не пойду, – отвечаю я, – и тебе не советую ходить.
Он зябко поводит плечами.
И опять мы охотимся, и снова идем по следам. До вечера время проходит скоро, а когда подхожу к своему дому, забываю обо всем и помню только: Эстер здесь, почти рядом со мной, и уже знаю, что завтра я пойду к ней.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?