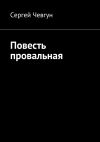Текст книги "Салон-вагон"

Автор книги: Андрей Соболь
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
XV
– Видишь, – говорю я Эстер, – я пришел.
Она глядит на мои руки и спрашивает, почему они так растрескались.
– От холода, – отвечаю я и прячу руки.
– Ты бы перчатки надел, – говорит она и вдруг горестно смеется: – Господи, о чем мы с тобой говорим!
Некоторое время молчит, а потом просит:
– Об Акиме расскажи мне. Боря говорил… Аким был у тебя в последний день?
Я обо всем рассказываю ей, не пропускаю ни одного слова Акима, а, дойдя до фразы «ненаживу», повторяю ее три раза. Говорю ей про старый сапог, и не раз, не два вспоминаю, как я советовал ему уйти к новым людям, а после говорю ей негромко ровно:
– Мы его убили. А я, Эстер, теперь все понял.
Объясняю ей:
– Вот все… насчет жидов.
Она только бессильно качает головой.
– Все, все, – говорю я. – Но, поняв, очутился в темноте, словно ослеп. Подожди, подожди, дай мне кончить. Все понял, но тебе я ничего не скажу. Тебе, моей учительнице, мне нечего говорить; ты учила, ты же и должна знать. А вот ты сама говори, ты ведь звала меня, следовательно, хотела что-то сказать.
– Саша, – пытается она улыбнуться сквозь слезы, – ты все понял, так беги скорее.
– Ты опять за прежнее.
– Я прежняя, я не могу быть иной.
– Для чего ты приехала сюда?
– За тобой.
Я машу рукой:
– Напрасно. На этой неделе мы доведем дело до конца. Я даже сон такой видел.
Она в замешательстве останавливается посреди комнаты. Идет назад и, не глядя на меня, спрашивает:
– Ты можешь ответить мне честно? Только правду? Ты только одно мне скажи: ты ждешь погрома?
Я отвечаю уверенно:
– Нет.
– Ну… вот… представь себе, что это будет, что это неизбежно…
– Нет. Не будет. Чушь.
– Ты ответь мне, а если да? Идешь ты на это? На это?
Неловко торопится ко мне, путается в юбке, хочет взять мои руки, и в один миг я припоминаю все дни, все часы прожитого, всю мою нестерпимую муку, мою светлую веру, смятую и растоптанную, и говорю, словно меня схватили за горло, придушили и не отпускают:
– Ты… Если любишь, если мука велика, иди, выдай нас, предотвратишь погром, спасешь людей. Иди же, иди!
– Саша, это подло!
– Так же, как уйти с работы.
– Что ты говоришь!
– Правду! Если ты любишь, иди. Прими тяжесть на себя за других. Ты ушла от нас, нашла большее. Для этого большего прими все. Не можешь? Я предлагал тебе отобрать деньги, побоялась, что я покончу с собой. Теперь опять боишься. Чего? Осуждения? Но ведь тебя осудят те, от кого ты ушла, а оценят те, кто твои кровные, близкие. Грех?
Что же, возьми его на душу во имя любви. От меня ты требуешь, а сама… Где же твоя великая любовь, где же твоя великая связь? Запуталась? А от меня требуешь. Все мы запутались, все до одного. И все летим, как пыль. То сюда, то туда. И ты такая тоже пыль. Мне говоришь: люби, а сама путаешься и не знаешь, что любить. Иди же, и тогда погрома не будет, беги, торопись.
Я мельком взглянул на нее, на мгновение мне кажется, что она решилась на это, и я почти кричу:
– Не смей! – И тотчас же с отвращением отбрасываю эту мысль. – Прости, – говорю я ей. – Прости, я не подумал, крикнул.
– Ты не… извиняйся…
Вся согнулась, стала какой-то жалкой, маленькой и жалко говорит:
– Не извиняйся… Ты прав: я сейчас подумала… надо пойти, надо донести…
Вскидывает потускневшие глаза:
– Уйди, ради бога, уйди, я не могу больше.
XVI
Я дважды солгал Эстер: я жду погрома.
На улицах только темнеет, а город уже притих. Да, сегодня пятница, идет день субботний, день отдыха. Я помню: «Благословил Бог день седьмой и освятил его». Придет и мой день. Когда-то я говорил ему: привет тебе, грядущий. А теперь он близок, и я ему ничего не говорю. Никто не освятит его, никто не благословит.
Заглядываю в одну синагогу, в другую. Не могу оторваться от дверей… Сегодня люди свечи затеплили, молятся, надели праздничные одежды. Аким тоже надел новое платье и был убит. Но он знал, что смерть близка, он сам поднял руку. Молятся. Ничего не знают, не ждут…
Когда-то я спрашивал себя: надо ли? Теперь ни о чем не хочу спрашивать: сил нет, и я боюсь ответа. Ухожу из синагоги. Возле моего дома дворник расставляет плошки вдоль тротуара, прикрепляет к воротам флаг. Останавливаюсь и машинально спрашиваю:
– Для чего это?
– Завтра царский день, – отвечает он и просит папиросу.
Даю ему кучу папирос.
– Царский день. Завтра, завтра, – повторяю я про себя.
Дворник продолжает возиться с флагом. Я незаметно отхожу от дому, потом тороплюсь, поскальзываюсь, но спохватываюсь, что лишь в восемь часов увижу Бориса, а сейчас без пяти семь. Еще долго. Надо отнести выручку хозяину: ведь я продал все газеты: они остались у Эстер. Хозяина не застал, отдаю деньги его жене. Она не берет их, просит положить на стол. Я удивляюсь ее просьбе, но тотчас же догадываюсь. Я забыл: суббота, нельзя притрагиваться к деньгам.
– Доброй субботы! – прощается со мной жена хозяина.
И я ей отвечаю:
– Доброй субботы!
Гляжу на часы – семь с половиной. До утра еще двенадцать часов. Двенадцать томительных часов! И придет утро. Утро для всех: для меня, для губернатора, для Бориса и для тех, кто говорят сегодня друг другу: «доброй субботы» и ничего не подозревают. Ровно в восемь я возле театра. Через несколько минут подходит Борис. Я беру билеты и поднимаюсь по лестнице, говорю ему, что завтра все будет кончено, что сон мой был вещим.
– Подожди до антракта, будь терпелив, – отвечаю я на его торопливые вопросы.
Мы на галерке. Я сажусь отдельно, но, перед тем как отойти, говорю ему на ухо:
– Завтра царский день. Понял? Мы его встретим по дороге в собор.
Потушили электричество. На сцене разговаривают, смеются, плачут, а я гляжу влево, где в полусумраке среди многих чужих лиц выделяется для меня одно – родное, любимое – и возможно, что завтра вечером оно уже будет мертвым.
Он не слышит, и я могу шептать: милый, милый! И могу глядеть, не отрываясь: он не видит.
XVII
Вместе с толпой мы выходим из театра, а потом остаемся одни. Вдали замирают голоса, уносится скрип саней. Ночь всколыхнулась на миг и снова стихла. Мы идем к собору. Влево от него небольшая улочка. Я указываю на нее Борису: на этом углу буду я стоять. Этого угла губернатор не может миновать, на нем скрещиваются все дороги. Идем дальше, второй угол…
– Это твой угол, – говорю я Борису. – Видишь, ему никак не уйти от нас. Если не мимо тебя, то мимо меня. Первый угол он должен обогнуть, какой бы дорогой ни ехал. Если он приедет с Николаевской улицы, то минует тебя, но меня ни в каком случае. Понял?
– Я все понял, – тихо отвечает он.
Я чувствую, как он дрожит, и невольно отнимаю руку: боится! Борис понимает мое движение.
– Это не страх, – шепотом говорит он мне. – Возьми меня под руку, мне очень холодно. Ты когда-то… Помнишь, ты посоветовал мне одеваться потеплее… Все это время ты был такой резкий, далекий…
Я сбоку гляжу на него. Какие у него измученные и скорбные глаза! Завтра закроются навсегда. И на это я толкаю. Сказать ему: «уйдем» – и он посветлеет. Посветлеют глаза, утихнет дрожь, и холод уйдет…
– Я одинаков всегда, – сухо отвечаю я.
Возле гимназического сада я останавливаюсь и протягиваю руку.
– Ну, а теперь прощай.
Я стою с протянутой рукой, а он медлит. Я повторяю:
– Прощай. Не забудь, в девять часов возле чайной.
Он покорно подает руку и покорно отвечает:
– Хорошо. – И вдруг спрашивает: – Ты был у Эстер?
– Нет.
Он уходит, не оборачиваясь. Еще долго слышу, как вдали хрустит снег. У себя в комнате не зажигаю света: он мне не нужен, я и так все вижу. Я шел по большой светлой дороге, потом запнулся, свет погас, и я упал. Точно кому-то чужому я говорю себе с усмешкой:
– Бедный ты мой, маленький еврейчик, запутался?
ХVIIІ
В девять часов я передал Борису снаряд. Мой у меня в руках под кипой газет. Уже половина десятого, а я продал всего шесть номеров. Очень хорошо, кипа не должна особенно быстро уменьшаться.
– Газета «Копейка»! «Биржевые Ведомости»! – лениво выкрикиваю я.
Мало покупают, нельзя ведь притрагиваться к деньгам – суббота… А если ломятся в двери, нельзя в субботу отталкивать кочергой, ухватом, лопатой, метлой? А призывать Бога? Бог сам отдыхает. Его запрещено беспокоить. А нельзя на время обратиться к христианскому Богу?
– «Новое время» не продаем.
– «Новое время», погромную газету? Вы плохого мнения обо мне, господин чиновник. Я себе честный еврей. Продаю в субботу? Нарушаю завет Божий? Но кушать же надо. Много ли еврею нужно? Продаст себе пять-шесть хороших, честных газет – и сыт, слава богу.
– «Биржевые ведомости».
Пробегаю мимо губернаторского дома. Десять часов… Скоро откроются ворота, он сядет в сани, кучер туго натянет вожжи, и взметнется снег… Скоро… Я снова на Николаевской. Оглядываюсь быстро. Издали вижу Бориса. Он бредет к углу, к своему углу, а мой угол дальше. Губернатор не приедет с Николаевской улицы, и Борис уйдет невредим. Не смеет приехать с Николаевской. Надо замедлить шаг, надо не торопясь продавать газету. Одиннадцатый час… Он скоро будет здесь.
Я поравнялся с Борисом.
– Саша!
– Молчи…
– Саша, два слова…
Я оборачиваюсь: никого нет. Четверть одиннадцатого…
– Говори скорей!
– Дай мне твое место.
– Тише!
– Дай! Я не могу остаться… жить… после всего… Ты сильнее, ты сможешь… Дай, дай!
«Прозеваем его, прозеваем…», и с бешенством я вталкиваю Бориса в ближайшие ворота. Нахлобучиваю ему на голову свою шапку, сую ему газеты, как в полусне, иду в глубь двора и слышу, как за воротами громко и отчетливо раздается:
– «Биржевые ведомости», «Биржев…
Я наталкиваюсь на кучу дров. За нею яма. На мгновение останавливаюсь и, вынув запал, швыряю туда снаряд, как негодную тряпку. Поднимаю голову, вижу, как из окна кто-то с любопытством смотрит на меня. И я гляжу, не знаю, сколько времени это продолжается, и, пятясь назад, иду к выходу.
Грохнуло вдали – один удар, словно с неба. Я вскидываю глаза кверху и бессмысленно думаю:
– Сейчас будет дождь.
Перехожу улицу, с тротуара попадаю в сугроб и, выбираясь, слышу позади себя сдавленный крик по-еврейски:
– Ой! Губернатора… Опять еврей!
На меня бежит старик-еврей без шапки, и рот у него широко-широко раскрыт.
Глава шестая
I
Обоих унесли… Оба мертвые…
«Ты сильнее, – сказал он, – поэтому живи». Я живу, я ухожу подальше от собора, оберегая себя. Я живу, я не мозолю глаза полицейским, солдатам; я скромненько и пугливо удаляюсь от взволнованных человеческих голосов; я не знаю, почему убили того, кто поставлен законом. Я не знаю, кто убил, и, если правда, что убил еврей, я с тихим стоном всплесну руками, воскликну с ужасом: «Опять еврей!» – и убегу в свою каморку, в свой угол, где есть стены и двери. Буду дрожать, дрожать и прислушиваться к каждому шороху и стуку и думать, холодея от страха: «Идут! Опять!»
Я закрою ставни, приставлю к дверям тяжелый комод, а сам спрячусь за него. Я накажу своим близким не дышать, не шевелиться, не жить на миг, только на миг, чтобы потом жить долго. Я втяну голову в плечи, я затаю дыхание, и если услышу топот, я на дверях своего дома начерчу крест. Один, большой. Мало! Внизу еще один, потом еще один.
Я молчу. Я ничего не знаю. Я тихий, я скромный еврейчик, не трогайте меня.
Промчались драгуны на лошадях. Прижавшись к стене, провожаю их долгим взглядом и хочу сосчитать, сколько их, но они расплываются в глазах и черными точками пропадают на белой земле. Теперь черные, потом появятся красные точки. И мальчики кровавые в глазах… Откуда эта фраза? Надо вспомнить. Почему мальчики, а не девочки? Почему девочки, а не еврейчики? Кровавые еврейчики в глазах. Одного унесли уже мертвым, очередь за другими. Кто установил эту очередь? Мы сами? Но мы народ книги. Мы сто, двести, тысячу лет твердим это, и мы никакой очереди не знаем, не устанавливали ее, мы всю жизнь проводим за книгой, нам некогда.
В глазах кровавые еврейчики? Глупости! Еврейчики бывают в лапсердаках, в ссудных кассах, в анекдотах и в погребах, когда их ищут громилы. Но разве еврейчиков надо искать? Они повсюду! Их можно брать голыми руками, как мальчишки, идя на рыбную ловлю, берут червяков.
Гремят калитки, дворники поспешно закрывают ворота.
Как безлюдно на улице! Точно налетел ветер и смел людей, как пылинки. Все попрятались. Ни одной души на улице, ни одного еврея я не вижу. Запрятались, задвинули засовы и ждут. Ветер налетел, и пыль полетела в дома. Ветер заберется в дома, пыль полетать на улицы. На то и пыль, чтобы летела.
Надо сжать свои неспокойные руки, надо хоть слегка прикрыть глаза, а то так больно режет их чистая пелена безмятежного снега, – и ждать.
II
По моим часам уже четыре. Они спешат, не может быть, что прошло пять часов. В пять часов можно разбить все окна, разгромить все лавки. Пять часов – ведь это так много. В пять часов перевернуть весь город ничего не стоит. В пять часов берут крепости, уничтожают корабли. В пять часов поседеть можно. В два выйти на улицу с черной головой, а в четыре вернуться с седой. Можно вернуться и без головы. Берут крепости, настоящие защищенные крепости. Что же стоит взять еврейскую крепость, откуда стреляют цитатами из Библии, прошлогодними воспоминаниями, а защищаются плачем?
Пять часов прошло; почему же никто не плачет, не бьет себя в грудь, не валяется в ногах? Быть может, уже стонут, извиваются под ударами, зовут на помощь, Бога призывают, а я не слышу? Ведь я у себя в комнате, за моим окном глухая стена. Она ничего не пропускает, только хмурится своими грязными кирпичами и молчит. А вдруг там, за ней, уже все началось? И плач раздается, проклятый, трусливый плач…
Я не могу, я не могу здесь усидеть.
Меня не обманешь: я узнаю все подозрительные физиономии. Одна, другая, третья. Ищут, выслеживают. Им и вечерние сумерки не мешают. Ищите! Один мертв, а другой… Жив, жив и будет жить, должен жить. Ведь ему было сказано: «Ты сильнее, ты и живи».
Ищите. Я обеспечен: вам нужны соучастники того, убитого, а я ни при чем. Я переплетчик, я переплетаю умные книги. Я ни при чем, и когда будут бить евреев, я тоже от страха потеряю рассудок, я вцеплюсь в свои подушки, я не отдам их. Подушки мои, перины мои, а рвут их на клочки – рвут мою душу. Станут избивать моих соседей, и я почувствую. Есть такие тоненькие ниточки, как будто незаметные, но они есть, дают знать о себе, и когда бьют еврейчиков в Алжире, ниточки приходят в движение, и плачет еврейчик в Гомеле. И все мы проклянем того, убитого. Это он привел бурю, это он заставить нас плакать. Вам нужен соучастник? Такое совершает всегда один – безумец.
Не поверите, я буду другим, русским и скажу вам о жидах, о том, что их никто не просит, а они лезут в революцию. Говорят: «для родины», а сами бездомные. Покажу вам великолепный русский паспорт, и вместе с вами заговорю о нахальстве жидов. Но я еще новое скажу. Скажу вам о том, как евреи отравляют близких своих друзей, скажу вам о том, как с евреями нельзя идти рука об руку. Ни в чем, ни в каком деле, иначе кончается все старым сапогом у забора. И, даже не глядя на паспорт, вы поверите, что перед вами русский. Придется поверить. Одна честная еврейская девушка… Юдифь, Новая Юдифь… знает, как верят. Она вам объяснит, она все знает, даже про такие тоненькие ниточки.
Все темней и темней становится. Почему же так тихо на улицах, почему же камни не летят в окна?
III
Ночью расхаживают патрули. Я должен уйти, иначе меня заберут, а я этого не хочу. Меня нельзя арестовать – я должен увидеть все своими глазами, услышать все.
Если бы я мог подхлестнуть эту ночь! До утра еще долго, а ночью все спят, ночью темнота мешает, можно невзначай ударить своего, сбросить с лестницы нечаянно наступить ему на шею. Ведь нельзя же бить своего товарища по делу. Иначе он рассердится и скажет: «Делай сам, ты ведь сильный».
Ночь не светлеет, не хочет светлеть. Ползет черепахой, медлит на каждом углу. Как далеко еще до утра… За моим окном стена – это она мешает рассвету. Во всех домах стены, а я хотел бы всюду заглянуть. Увидать, как лица бледнеют, глядя на бледнеющее небо, предвещающее близость дня; увидать, как живые души безжизненно передвигаются в четырех стенах. Увидать, как люди не спят и с трепетом ждут утра, как люди от нового утра ничего не ждут, кроме старой муки. Старая мука… А что делать тем, у кого мука новая? Звать? Кого звать и чем я позову? Бежать? Куда бежать, что я унесу с собой? По стене скользят еле уловимые светлые полоски. Это утро идет. Уже? Как скоро ночь прошла. Это утро идет и не задерживать его.
Часы остановились. Я не знаю, который час. Я посмотрю внизу.
Трудно пройти лестницу, а ведь она небольшая, всего десятка два ступенек. По утрам на дворе всегда бывало шумно, а сейчас тихо. Попрятались! Трусы! Трусы!
До ворот несколько шагов. Я пройду их быстро, встану на улице в ожидании. Я не спрячусь. Затопают ноги, всколыхнутся испуганные детские голоса. Дети прежде всего зовут мать. Застонут: мама! Будут стонать до синевы, никто не услышит. Нет матерей, нет отцов, только снег холодный па земле и саван белый, как снег. А я погляжу на синие мертвые лица, на обезумевшие глаза и уйду?
Я никуда не уйду! Я взмахну руками, как бы прикрывая ими голову! Я, как вы, стану искать убежища в пустых чуланах, вместе с вами согнусь вдвое. Вместе с вами я заплачу бессильно и буду звать Его и кричать Ему: «Господи, Господи, Ты видишь!»
IV
Я никуда не уйду! Я взмахну руками, как вы, город. Я заглядывал в сотни дворов. Я видел бесчисленное множество лиц, я узнавал каждого еврея, каждую еврейку. Город притаился, как я, так же насторожился. Он ждет, я это чувствую. Он знает, как знаю я, что неизбежное придет.
Мелькают глаза испуганные, глаза встревоженные. Молчаливые и так много говорящие. Ищут по сторонам, ощупывают, высматривают, прячутся на мгновенье и вновь выглядывают. Господи, мои глаза! И сотни рук, робко прижатые к бокам, это мои руки. «Что сделаешь такими руками, кого оттолкнешь ими? Ими не отвести неизбежное.
В полдень снег выпал новый, и он все покроет. Падает снова. В воздухе только одни снежинки; ни криков, ни гула. Это тишина перед ударом, это тишина перед грохотом. Я не выдержу тишины!
Вокруг снежинок сгущаются сумерки. Опять наступает вечер. И тихий он и спокойный. Где же те, кто нападают, где же те, кто бьют? Тоже попрятались и только ждут удобной минуты?
И я буду ждать рассвета. Господи, Ты слышишь, только бы скорее!
Я зажгу лампу в своей комнате, позову хозяйку и скажу ей, что завтра нельзя идти на базар, что с базара все и начнется.
Она знает, но на базар пойдет. Качает седой головой и шамкает:
– Зарабатывать-то надо. Я приготовила на завтра такую хорошую морковь.
Я ей даю деньги, я покупаю весь запас моркови, а завтра я встану у дверей, и кто тронет ее, тронет и меня.
По своим часам отмечаю каждое движение ночи и приход третьего утра я встречаю с открытыми глазами. Посветлела стена за окном, сегодня она более освещена. Значит, солнце на дворе. Хозяйка проснулась, я слышу, как она суетится у плиты. Я сейчас вернусь, я только на несколько минут сбегаю вниз, ведь я с одного взгляда пойму все.
Шумит двор. Ребятишки бегают. Кто их отпустил, кто им позволил выйти? Надо тихо-тихо сидеть по комнатам.
Перед воротами грузят бочки. Молодой еврей, подняв бочонок, громко ругается и кого-то зовет:
– Айзик!
Отозвался другой голос, и тоже громкий.
Я на улице. Все лавки открыты. Бету к углу – улица движется, живет, волнуется, как пять, десять дней тому назад. Торгуют, продают, смеются… Я опять у своих ворот и сталкиваюсь с хозяйкой. У нее корзина в руках, торчат морковки.
– Вы куда?
Она шамкает:
– На базар.
Нельзя идти туда! Там все начнется. Люди обезумели, люди забыли о том, что ждет их. Надо напомнить им, надо их остановить, удержать. Я найду таких, у кого голова ясна, кто знает о неизбежном, кто предчувствует его приход; я найду таких в синагоге, за молитвой, и вместе с ними я стану звать:
– Господи, Ты видишь!
Скрипят сани. В дверях магазинов торчат приказчики. На мясной улице рядами висят туши, капает кровь, расплывается по снегу. На базаре раскрыты лари. В воздухе еврейские слова. Шмыгают торговки, подбрасывают кочаны, связки лука.
На синагогальном дворе тихо. В двух синагогах пусто, словно в сарае. В третьей закрыты двери. В четвертой служка лениво обтирает пыль с амвона. Никто не молится. Бог на базаре.
V
Я тоже пойду на базар и тоже буду продавать. Я найду товар: свою старую, глупую веру. По кусочкам, по маленьким кусочкам. Я положу ее в одну корзинку с морковью моей хозяйки. Я ее купил дешево, мне ее оставили за ненужностью Борис и Аким, и я ее дешево продам. Евреи, покупайте! Поддержите одного из ваших. Один из ваших убит, другой должен жить. Поддержите его, не дайте ему помереть с голоду. Разве вы не сердобольные евреи и вам не понятна боль еврея, разве мы все сделаны не из одного теста? И когда вы продаете, что же остается мне? Евреи, покупайте! Дешевая вера, только что с иголочки!
– Не торопись, иди медленно, говорю я себе, а то обратишь на себя внимание, задержать тебя, уведут. Вон уж кто-то идет за тобой.
Я захожу в чужие ворота, но чувствую, что меня не оставили, за мной идут. Я бегу в глубь двора и упираюсь в стену. Надо идти обратно. Конечно, нельзя скрыться, негде. Вынимаю руки из карманов: для чего пугать людей, когда все равно в кармане ничего нет, как и в душе. Расстегиваю пальто, иду назад и уже издали узнаю Эстер. Она прислонилась к стене и ждет меня. Дышит учащенно, – видно, бежала.
– Это ты?
– Я ищу тебя третий день. По всем улицам бегала. Саша, на кого ты похож, ведь тебя могут арестовать, погляди на себя.
– Не арестуют.
– Я увидела тебя на Александровской улице. Я хотела крикнуть тебе, но ты так быстро шел. Я побежала за тобой, а ты скрылся. Потом я нашла тебя возле театра, но ты куда-то снова исчез. И вот я догнала тебя тут. Я за тобой пришла. Идем скорей, а то нас заметят. Нельзя здесь стоять, двор ведь чужой.
Тянет меня за пальто.
– Я не пойду с тобой, – говорю я и отхожу от нее.
Она становится поперек дороги:
– А я тебя не пущу.
Я повторяю ее слова:
– Двор ведь чужой.
– Все равно я не пущу тебя. Начнешь вырываться, я буду кричать. Пусть нас арестуют вместе, пусть.
Она крепко вцепилась пальцами. Нелегко оторвать их, и руки мои устали, мне даже трудно пошевельнуть ими. Я ее спрашиваю:
– Ты хочешь засесть в тюрьму? А кто же будет радоваться?
Изумилась, отпустила мою руку:
– Кто должен радоваться?
– Ты. Ведь погрома нет. Видишь, все хорошо, все ладно.
– Саша!
– Да, конечно, Саша. Разве евреи бывают Сашами? Есть Айзики, Мендели, Нахманы, а еврейские Саши – это ни к селу ни к городу, это комично. А ты Эстер – и радуйся. Нет погрома, чудесно.
Она ничего не отвечает, а когда я иду к воротам, снова останавливает меня:
– Не уходи, идем со мной. Саша, мне нечему радоваться.
– И ты не радуешься? – Впервые за все эти дни я смеюсь. – И ты сплоховала? А где же ниточки знаменитые? А где же твой путь новый? Ты ведь говорила, что нашла его, знаешь его. Сбилась? Или даже не нашла?
Она молчит.
– А ты бы за ниточки держалась. Куда ниточки, туда и ты. Молчишь?
Она с усилием поднимает голову.
– Господи, – говорю я невольно, – у тебя глаза мертвые.
Ушла. Когда я выхожу из ворот, ее уже нет: затерялась в толпе.
День сменяется ночью, ночь проходит быстро, и наступает новый день, и все они движутся, как спицы одного колеса. Я не считаю их, а когда слышу колокольный звон, знаю, что это звонят в соборе, что опять пришло воскресенье.
В прошлую субботу я продавал на улице газеты, потом Борис отобрал их у меня и умер, а я жив. В прошлое воскресенье в снегу затерялась последняя дорога. Я кинулся искать другую, а когда я жадно схватился за нее, она ускользнула, и вот я стою без дороги и вижу, что темно вокруг и мне нечем зажечь света.
Отозвались колокола в других церквах…
Я не выношу колокольного звона, я ненавижу его. Он лгал мне, когда я, переехав границу, услышал его после долгой разлуки. Он лжет и теперь, как лгут поля за городом, ели на берегу реки, снега в оврагах. Все это чужое, не мое. У меня ничего нет своего. Как пыль, лежу на земле до нового ветра, пока он не придет и не сдунет меня. Он не спросишь: хочу я или не хочу. Пыль не спрашивают – ее гонят.
Вечер прошел уже, где-то потонул за рекой. Притихли улицы. Небо углубилось, выше ушло от земли. Как древний свиток, развертывается ночь, мелькают вечные, неумирающие письмена: Млечный Путь, лунные отблески, звезды…
И страшно жить.
1914
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?