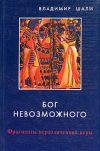Текст книги "Город мелодичных колокольчиков"

Автор книги: Анна Антоновская
Жанр: Исторические приключения, Приключения
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 46 (всего у книги 49 страниц)
Еще через несколько минут тихо через калитку сада вышли двенадцать верных Келиль-паше слуг и среди них тринадцатый – Келиль-паша.
Вскочив на ожидающих их коней, они понеслись, словно гонимые бурей, к восточным воротам.
А наутро Ибрагим узнал, что, изрубив семь янычар, стоявших там на страже, тринадцать всадников умчались из Токата.
Хозрев-паша злорадствовал, полагая, что Келиль отправился к своим ортам. Шайтан свидетель, в сражении Абу-Селим еще ловчее снесет башку упрямцу, который, вопреки определению его, верховного везира: «Смерть!», – самовольно и дерзко сам себе определил: «Жизнь!»
То было утром, а ночь под покровом мглы продолжала свою зловещую игру.
В приемной зале дворцового дома Хозрев-паша еще накануне вел дружеский разговор с вали, беспрестанно прикладывавшим в знак почтения руку ко лбу и сердцу, но не назвавшим ни одного имени паши или бека, примкнувших к лагерю усмирителя Эрзурума и достойных высокой награды.
– Пророк послал тебе удачную мысль, – растягивал тонкий рот в улыбке Хозрев-паша, – кроме себя, никого не обогащать сокровищами Стамбула.
Посрамленный вали смотрел на изображение слона, следующего за своим вожатым, и завидовал последнему. Лишь откровенностью он мог отвести от себя подозрение в алчности. В самом деле, почему не получить подарки и тем, кто в столкновении пяти и трех бунчуков предпочел держаться золотой середины? И вали с пылкостью, не соответствующей его годам, стал называть фамилии войсковых пашей и беков.
И вот один за другим прибывают паши и беки орт анатолийского похода, созванные в дворцовый дом вали…
Многим под звуки веселой музыки разрешили полюбоваться подарками раньше.
В белой комнате, примыкающей к черной, грудами лежат награды султана – шубы из золотой с ярко-зелеными разводами парчи, подбитые соболями, чалмы с перьями цапли, узорчатые седла с серебряными чепраками, обшитые золотом по четырем углам, нагольниками и прочею конскою сбруей роскошной отделки, турецкие ханжалы с крепким булатным лезвием, украшенные кораллами, в вызолоченных ножнах обронной работы с чернью, ружья мамлюков с цветными каменьями, секиры, ятаганы, булатные ножи, выкованные в Индии, с рукоятками из зеленого хрусталя.
Сожалеет Незир-бек, сетует Тахир-бек:
– Видит аллах, жаль, что награды вручает не Моурав-паша, а почему-то эфенди Абу-Селим.
Но додумывать бекам не пришлось: вышел помощник вали и словно в трубу затрубил:
– Всех просят ждать вызова на парадном дворе. Мир над вами.
На пороге, где застыли арабы с саблями наголо, показывается эфенди. Он важно говорит, что по приказу должен провести церемонию вручения подарков султана Мурада IV по всем правилам Сераля.
И он проводит…
Абу-Селим почтительно пропускает в белую комнату баловня судьбы – Фаиз-пашу. Он идет легкой походкой, будто нацепил невидимые крылья.
Абу-Селим дергает шнур, и где-то приглушенно звенит мелодичный колокольчик Токата.
Отходит в сторону незримая дверца, выскакивают четыре разбойника, мгновенно схватывают пашу, нахлобучивают на него уродливый черный колпак, приглушающий крик, и вталкивают в черную комнату.
Миг, и отсеченная голова шумно падает в плетеную корзину, и кровь, как на бойне, стекает по деревянному желобу.
Абу-Селим, улыбающийся, выходит на парадный двор. Он вызывает счастливчиков, раньше других заслуживших награду падишаха, «средоточия вселенной».
И вот в белую комнату входит удалой начальник сипахов Рамиз-паша.
Затем начальник оды Самсумджы семьдесят второй – отважный Али-бек.
Затем неподкупный Джянум-бек, капудан оды Джебеджы первой, третьей и пятой.
Потом бесстрашный Незир-бек, начальник оды Чериасы семнадцатой.
За ним капудан Зембетекджы восемьдесят второй, отчаянный Тахир-бек.
Но почему не возвращаются награжденные? Почему не выражают благодарность? Почему…
Пашей и беков на парадном дворе охватывает страшное подозрение. Они рванулись к выходу, обнажая клинки. Но ворота закрыты… а из засады выскакивают башибузуки верховного везира, и их не счесть. В каждой руке по ятагану, а в зубах – нож. На один клинок, верный Моурав-паше, приходится десяток клинков, верных сердар-и-экрему.
– О-о-о-ох… Аман-заман!..
Началась не схватка – резня. Одному лишь Эсад-беку удается выскользнуть из дворцового дома, логова шайтана.
И Эсад-бек, забрызганный кровью, добирается до своих шатров, поднимает янычар, и они храбро несутся к проклятым воротам, готовые разнести все, что станет на их пути.
Ворота медленно открываются. Из них выезжают, нудно поскрипывая колесами, телеги с мертвыми телами, – вереница обыкновенных телег, пахнущих дегтем, с бесстрастными возницами в черных балахонах.
Янычары отпрянули в сторону, невыразимый ужас охватил их и мгновенно покинула храбрость: «О аллах, почему?!»
Абу-Селим выехал к воротам, выплюнул сгусток крови, потер губу и грозно крикнул:
– Янычары! Измена! Верховный везир раскрыл заговор против султана! Ур-да-башина Хозрев-паше!
А пир в доме трехбунчужного Моурав-паши продолжался!
Когда подали тридцатое блюдо с жареными ягнятами, Хозрев-паша напомнил о золотом кувшине с тигром.
– Настал час выпить райский напиток за султана славных султанов! Да продлит аллах его жизнь до конца вселенной!
Эрасти поспешил в хранилище, где под замком находился заветный кувшин. Еще утром он, взболтнув зеленую влагу, дал попробовать собаке, а через полтора часа, как приказал Димитрий, протянул полную чашу слуге турку, но яда в соке зеленой сабзы не оказалось.
И сейчас Эрасти раньше, чем дать другим, осмотрительно сам отпил несколько глотков. Хозрев-паша добродушно рассмеялся и похвалил оруженосца за осторожность.
– Ай-я, сразу видно, в Иране жил. Абдар! – и первый подхватил свою чашу.
Эрасти до краев наполнил ее зеленоватой влагой и хотел уже наполнить чашу Саакадзе, но внезапно чухадар завистливо выхватил кувшин у Эрасти, заявив, что он тоже хочет прославиться тем, что наливал в чашу Великого Моурав-паши, мирмирана Караманского вилайета, турецкий нектар. Он тоже будет горделиво рассказывать своим сыновьям, что и из его рук приняли благородные грузины султанский напиток.
Не узнать Хозрев-пашу на пиру в Токате. Он щедр и милостив и сам доволен, что таким хорошим отражается во множестве зеркал, украшающих ниши. Подозвав насторожившегося Эрасти, он потрепал его по плечу цепкими пальцами с выкрашенными ногтями, снял со своего пояса алмазную застежку и сам пристегнул к поясу Эрасти.
Взоры пирующих невольно привлекла игра искусно подобранных камней, и никто не заметил, как именно в этот миг чухадар ловко обменял под полой плаща золотой кувшин на точно такой же другой с выгравированным тигром и, не мешкая, разлил зеленое вино по чашам «барсов». Особенно старательно наполнил он чашу Саакадзе. Остаток, по знаку верховного везира, чухадар вылил в чашу Эрасти и с поклоном вернул ему кувшин.
Пировали до полуночи…
Камин давно потух; казалось, неведомое чудовище разинуло черную пасть и готово проглотить пирующих. Глаза у Пануша невольно смыкались, но он боролся с зевотой и лишь дивился, почему тюрбаны и шлемы на этажерке подпрыгивают в какой-то воинственной пляске. А Элизбара мучал ушакский ковер, будто взлетевший под потолок и трепыхавшийся там, как парус.
Первым уснул, свалившись на ковер, Гиви. За ним – Ростом, успевший бросить удивленный взгляд на священные надписи из корана, развешанные по стенам. Из гармоничных и сложных линий арабских букв вдруг составлялись корабли, мечети, дворцы, они точно манили в неведомые страны, и хотелось превозмочь сонливость и шагнуть через мрак, застивший глаза.
Наклонившись к вали, Хозрев сквозь зубы процедил: – Мухаммед, как справедлив он, воспретив правоверным напиток шайтана. Увидишь, вали, скоро если не один, то все гурджи превратятся в кабанов – одни будут валиться на пол, другие драться. Говорят, на одном пиру гяур Моурав убил двух и трех, ранил одного и двух.
Вали встревожился. Он припомнил персидскую притчу о гурджи, вступившем в единоборство со львом и разорвавшем ему пасть. Этим гурджи был Моурав-паша. Богатырь! Но чувстве восхищения не должно превышать чувства осторожности. Когда льется шербет – хорошо, когда кровь – хуже. Для чего ждать, чтобы от страха потрескались губы? Время, приди – время, уйди!
И незаметно вали что-то прошептал на ухо соседу паше. У того глаза полезли на лоб, покрытый испариной, и он в свою очередь склонился к сидящему рядом двухбунчужному паше, так и застывшему с открытым ртом. Придя в себя, этот в свой черед стал нашептывать на ухо солидному паше, начальнику пушкарей, чуть не подавившемуся костью.
Когда вслед за Элизбаром свалился и Матарс, почему-то заменивший в разгар пира белую повязку черной, вали, а за ним и остальные паши, стараясь ступать бесшумно, но невольно ускоряя шаги, покинули двухсветный зал.
«Странно, – недоумевал Саакадзе, – никогда „барсы“ от вина не пьянели, а сейчас валятся, как камни с кручи!.. А уже настал час похода. Вот резкие звуки труб и грохот барабанов превращаются в раскаты грома. Из облаков падают янычары… тысяча… две… три… Хохочет Хозрев-паша, потрясая дубинкой. Движутся чудовищные черные верблюды с семью горбами, и на каждом пылающий минарет… Просыпайтесь, друзья! Э-хэ, „барсы“! Ждут нас кони! Скорей! Скорей!.. Нет шаха Аббаса! Надо использовать междуцарствие в Иране! Вперед! Но почему… почему снова слышу замогильный голос бабо Зара: „Береги коня! Береги коня!..“ Вихрем мчится трехглавый конь, рвутся на тонких шеях в разные стороны головы… Одна голова мчится через лес с оранжевыми деревьями, другая – через зеленые воды, третья – к мрачным громадам… Почему скачу одновременно по трем дорогам?.. Грузия… Персия… Турция…»
Каменный пол… темные своды… грязные оконца в решетках… за ними муть.
С трудом поднял Эрасти тяжелые, словно железные веки. Где он?.. И почему на руках гремят цепи?.. И вдруг вопль отчаяния вырвался из груди Эрасти: цепи гремели и на скованных руках Саакадзе, гремели на руках всех плененных «барсов».
Происходящее казалось немыслимым, кощунственным, плодом больного воображения.
С силой встряхнул головой Дато и встретил взгляд Георгия. Очнулись и остальные. Димитрий в бешенстве принялся рвать цепи. Звон их рассеял последнюю надежду Дато: нет, происходящее не отвратный сон. Сразу припомнилось, как недоумевал он вчера, когда из «щедрого» кувшина везира беспрестанно хлестало зеленое, как глаза змеи, вино. Он еще подумал: «Пьянею»…
Послышался шум откидываемого засова. Вошел какой-то турок в засаленной куртке и равнодушно поставил перед ними глиняную чашу и заплесневелые лепешки. Дато, расплескивая похлебку, ногой отшвырнул чашу и приказал отнести собачью еду верховному везиру, иначе он окованной рукой проломит тюремщику башку. Турок в страхе вытащил из-за кожаного пояса нож, попятился к дверям, за которыми виднелась стража с обнаженными ятаганами, и исчез.
Тотчас в боковой нише приоткрылась незаметная железная дверца, и ворвался Бежан. Он один не присутствовал на пиру, ибо Папуна, уложив его в своей комнате, приказал до утра не приходить: мальчику еще рано видеть омерзительную рожу Хозрев-везира. Сейчас Бежан, дрожа, поведал, как спрятался он за угловой диван и сквозь бахрому видел, с какой яростью башибузуки Хозрев-паши, науськиваемые чухадаром, разграбили весь дом, унесли ценности, оружие, не оставили даже кухонного ножа.
– Осторожно разведай, каким путем мы можем выбраться на улицу, – тихо проговорил Саакадзе.
Бежан порывисто метнулся к нише, чуть скрипнула железная дверца. Мутный зеленоватый свет был неподвижен, как болотная вода.
Никогда еще с таким трепетом не ждали «барсы» возвращения вестника. Мучительно тянулись минуты, похожие на ступени вечности.
Вернулся Бежан бледный и трепещущий. Что могли добавить его путаные слова к той правде, которая таким ужасом отразилась в его глазах. С суровым спокойствием слушали «барсы» о том, что слуги-грузины убиты, а слуги-турки разбежались. Дом опустел, но двор полон янычар из орт сераскера Хозрев-паши, которые разъяренно требуют предать смерти гурджи-гяуров. Крыша черна от стражи, а сверху сквозь щель видны конные сипахи, тесно окружившие четыре стены ограды. Они, наоборот, кричат, что охраняют Моурав-пашу и начальников-гурджи по повелению везира и никого не допустят к воротам.
Долго молчал Саакадзе. Он разгадал разбойничий план Хозрев-паши: уничтожить сильного соперника и, чтобы избежать мести и разглашения в Стамбуле злодейства, заодно истребить всех грузин. «Увы, доверчивый Келиль, своими доводами ты усыпил присущую мне осторожность».
– Вот, друзья, – сказал Георгий, – прошли мы путь витязей, а погибаем от червяка. Если бы сразу умыслил башибузук Сераля покончить с нами, сонных убил бы. Думаю – решил истязать. – Он с затаенной болью взглянул на Автандила и рванул цепи, но тщетно. Туги медные браслеты.
Как мало напоминал звон цепей мелодичные перепевы колокольчиков Токета.
Безмолвствовали «барсы», – стыд будто сжег все слова: как глупые амбалы, попались… попались в своем доме, на своем пиру.
Снова зловеще лязгнул засов. Вошел другой турок, с нелепо болтающейся в ухе серьгой. Бесстрашный Ростом отшатнулся: по топору за кушаком он узнал палача, «Барсы» смотрели на него с презрением, страшные даже в своей беспомощности. Палач, глядя исподлобья, молчал: жадно оценивал богатые одеяния – плату за то удовольствие, которое он доставит везиру.
«Значит, все до одного изменили?! – недоумевал Георгий. – А разве не клялся Келиль-паша в вечной дружбе? А Ваххаб-паша? А десятки других пашей, начальников орт? А сотни беков, капуданов од? Что же произошло?! – Георгий вздрогнул. – А может, тоже предательски захвачены? Тогда помощи ждать неоткуда». Саакадзе, заметив, как алчно бегают глаза палача, невольно усмехнулся его трезвым мыслям и обещал к ряду ценностей добавить еще изумрудную булавку. Почетный служитель везира может взять эту редкость хоть сейчас, если скажет правду: какой смерти будут преданы пленники?
Обрадованный турок охотно и красочно расписал, что произойдет в день праздника гяуров – воскресенье. Раньше храбрецам наполовину обреют головы – вот так – и в желтых кофтах, с веревкой на шее – вот так – поведут в сад, где уже строится помост. Там его помощники сдернут с них одежду – вот так – и он сам тонким ножом – вот так – снимет с них кожу. Потом медленно им будут отрубать руки, ноги – вот так… Утро должно быть солнечным и благоуханным, ибо, во славу аллаха, верховный везир и приглашенные им паши решили полюбоваться мастерством лучшего палача Токата.
Взглянул Саакадзе на помертвевшего Автандила, на потрясенного Элизбара. А вот Папуна даже не изменился в лице, и дорогой Дато думает не о своих муках, а о позоре Моурави… Позора надо избежать! Надо найти спасительный выход!.. Надо!.. Сегодня вторник… Жизни еще четыре дня. Почему медлит разбойник? Значит, чего-то опасается.
– Не знаешь ли, правоверный, почему медлит предатель Хозрев?
Бережно спрятав изумрудную булавку, палач вздохнул: его дело рубить головы, а дело везира платить ему. Но нет истины, кроме истины. Так говорит Хозрев-паша. Почему хан Саакадзе решился на тайный сговор с шахом Аббасом? Один купец-мореходец выдал в Самсуне сипахов, тех, что по приказу гурджи Саакадзе сопровождали лазутчика шаха Аббаса. Разве султан мало возвысил Моурав-пашу? Или янычары не повиновались его слову? Вот и теперь ропот пошел в Токате. Все, кто был с гурджи-Моуравом на войне, требуют его освобождения и открытого суда: «Пусть Моурав-паша сам скажет правду, иначе трудно верить».
Тут вовремя верховный везир успокоил орты янычар-сипахов, чьи шатры расположены возле западных и восточных ворот. По улицам и площадям глашатаи читали ферман Хозрев-паши о том, что казненные им паши-беки все до одного примкнули к заговору Саакадзе против султана. И еще Хозрев-паша повелел глашатаям напомнить: «Большой кусок глотай, а больших слов не бросай!» – и что он, верный везир султана, решил «огнем погасить огонь». И еще везир повелел глашатаям кричать о том, что без согласия Мурада IV не будут в Токате судить Моурав-пашу и его «барсов».
– Но мне верховный везир и сераскер, – торжественно заключил палач, – повелел приготовить к воскресенью острые ножи.
Потом палач с удовольствием рассказал о ночи казни именитых пашей и беков, как изменников султана, и пожалел, что скрылся Келиль-паша:
– Чох якши! Виновный ждет дар, а получает удар.
Понятно стало «барсам», почему войско анатолийского похода не защитило своего любимого полководца. Гасла последняя надежда, и неоткуда было ждать помощи. Сейчас они вплотную сошлись со своей судьбой. Из глазниц ее веяло странным холодом и рот кривился в беззвучном смехе.
Когда палач ушел, Саакадзе сказал выглянувшему из ниши бледному Бежану, чтобы он всю еду и воду, имеющиеся в запасном тайнике хранилища, ночью перетащил сюда, а главное – не забыл бы прихватить какой-либо кусок железа.
– Э-э, чанчур! Ты что, не грузин, что слезы роняешь? Подлого везира испугался? – подзадоривал Папуна мальчика.
– Нельзя погибнуть так позорно! Лучше размозжим себе головы! – в бешенстве выкрикнул Димитрий.
– Головы? Постой, постой!.. – И Дато погрузился в глубокую думу.
– Видишь, Георгий, напрасно не послушался четочника Халила, яд сейчас нам больше всего нужен.
– Да, Ростом, ты и тут оказался прав. Жаль, не убедил меня вовремя.
– Нет, мой дорогой друг Георгий, я никогда не был прав. А жить без вас всех все равно не смог бы…
– Тогда знай, я хорошо сделай, уничтожив яд, ибо воины-грузины обязаны погибать в битве с врагом.
«Барсы» скупо роняли слова. Медленно подкралась тяжелая ночь. Уже в третий раз вернулся с полной корзиной Бежан. Передав Саакадзе железный брусок, он долго не мог выговорить ни слова. Наконец, задыхаясь, прошептал, что за ним кто-то крался и во мраке горели чьи-то глаза. Может, палач?
– Я одним терзаюсь, – вдруг нарушил безмолвие Элизбар: – на что тебе столько еды?
Но Моурави вновь приказал «барсам» еще больше есть и пить, как на хорошем привале. Нужно сохранить силу удара.
«Придумал что-то», – с облегчением вздохнул Дато, прислушиваясь к скрежету меди о железо. Он подошел, опустился рядом с Георгием и едва слышно предложил удушить «барсов», а потом покончить с собой.
Не отвечая, Саакадзе бруском разогнул звено на своей цепи. Звякнув о камень, она плетью повисла на правом браслете.
От радости Дато припал к могучему плечу друга. Приподняв цепь Дато и стиснув зубы, Саакадзе стал бруском разгибать серединное звено.
До полночи скрежетали медь и железо. Георгий торопился под покровом мглы выбраться наверх, в схватке завладеть оружием стражи, по стене спуститься на темную улицу, а там – кони янычар… И только ветер пронесется под копытами… только… О, наконец «барсы» раскованы! Словно вторую жизнь вдохнул в них Георгий Саакадзе. Лишь Папуна просил не освобождать его:
– Так лучше.
«Первым хочет погибнуть», – решил Саакадзе и тут же разогнул звено на цепи, обвившей руку Папуна.
Сколько человеческой радости принесли ностевцам эти драгоценные секунды освобождения рук. Какой восторг охватил друзей на краю неотвратимой гибели. Они смеялись, кружились подпрыгивали в небывалой воинской пляске. «Пора! Пора!» – и все одновременно рванулись к нише. Рванулись – и застыли перед наглухо закрытой дверцей.
– Это палач! Палач! Теперь ясно вспомнил серьгу в его грязном ухе! – рыдал Бежан.
– Судьба! – Ростом опустился на камень, удивляясь, как раньше он не заметил его причудливое сходство с черепом, посеревшим от сырости.
– Черту на полтора ужина такую судьбу! – взревел Димитрий, наваливаясь на дверь.
Но крепко железо. Бессильны ярость и мольба. Бесполезна сила ударов.
Автандил судорожным движением обнял отца:
– Железо беспощадно преградило нам путь к жизни.
И снова ночь… бесконечная, как черная река подземного мира. Молниеносно возникающие планы, тотчас гаснущие, как падающие звезды… торопливый разговор… обрывки воспоминаний… скорбное молчание…
О чем до рассвета с незатихающей в сердце болью думал Георгий Саакадзе? О чем? О близящейся смерти? О трагической участи Русудан? О любимом сыне Автандиле, погибающем, как и Паата, в расцвете лет? Нет, о судьбе родной Грузии думал Великий Моурави! Тревога охватывала его: каким трудным путем предопределено ей пройти в будущие столетия? Озарит ли светоч независимой силы ее потемневшее от страданий лицо? Придет ли час торжества народа над владетелями, веками преграждавшими выход его жизненным силам? Будут ли разрушены возмездием замки, которым он, Георгий Саакадзе, нанес первый удар?
Тихо. Лишь глубоко вздыхает Эрасти, гладя волосы уснувшего сына. Ровно дыхание Бежана. Почему? Может, верит в жизнь? Может…
Даже пожилые токатцы не могли определить, когда и откуда появился этот сухощавый длинношеий турок, с лицом, похожим на медную маску. Имени его никто не знал, ибо сам он не говорил, а спросить никто не догадывался. Так шел он, припадая на правую ногу, то появляясь, то исчезая в запутанных уличках, а за ним тянулся перезвон малых, больших и средних бубенцов и колокольчиков. Их мелодичный звон невольно очаровывал, перенося из мира огорчений в тот пленительный мир, где так легко отрешиться от всего земного, легче даже, чем в час курения гашиша.
Возможно, в благодарность за это средство, забвения токатцы и прозвали его Утешителем. И как-то стало привычно, что Утешитель не был многословен. Зачем? За него говорили колокольчики.
Дрожащий блеск восходящего солнца как бы разгонял последние пятна предрассветной мглы. Колокольчики начинали новый день, чтобы увести караван его часов в вечность.
В голубеющем воздухе нежный звон этих колокольчиков казался Ибрагиму насмешкой. Сладость их звуков лишь усиливала ту горечь, которую рождало ощущение бессилия перед неумолимо надвигающимся роком. И Ибрагиму хотелось отмахнуться от этих звуков, как от назойливых желтокрылых мух.
Янычары, тройным кольцом окружившие дом, в подземелье которого очутились Моурави и «барсы», были, очевидно, не согласны с Ибрагимом, ибо наперебой раскупали колокольчики. Для чего? Не для того ли, чтобы впоследствии хвастать в Стамбуле, что именно эти токатские увеселители заливались веселым звоном возле дома, где томилась душа Моурав-паши, осмелившаяся изменить султану славных султанов.
Ибрагим уже привык ничем не выдавать ни свою радость, ни свое волнение. И сейчас он вглядывался в этот дом, полузакрытый высокой оградой, над которой вставали белые столбы, поддерживающие красно-черный настил балкона.
«Если б мне не запретил мой любимый ага Халил клясться, я бы поклялся бородой пророка, – мысленно воскликнул Ибрагим, – что чудовище Джален, по велению ифрита поглощающее искателей истины и богатырей сабли, приняло вид мирного дома с толстыми стенами необожженной глины. Вот он, Джален! Он разинул красно-черную пасть, где белеют зубы высотою в столб. Проклятое аллахом чудовище! Оно всегда там, где можно уничтожить самое лучшее. О небо, откуда я все это знаю? Откуда? А разве мне мало об этом говорил отец, ага Халил?»
Очевидно, это воспоминание пробудило в Ибрагиме смелость, и он решился выйти из-за своего укрытия. С невозмутимостью торговца амулетами приблизился он к янычарам, среди которых увидел знакомого.
Свирепые янычары, как невинные шалуны, забавлялись, перебрасываясь колокольчиками, словно выпускали на волю медных птичек, поющих на лету.
Они были надежной охраной, эти янычары девяносто девятой орты, которых с детства приучали к самым яростным действиям. Недаром в эту орту входили не менее свирепые фанатики – дервиши-бекташи. Вступив в братство с янычарами, дервиши разжигали в них самые низменные чувства. Именно поэтому Хозрев, верховный везир, непосредственно подчинил себе девяносто девятую орту, не расставаясь с нею и поручая ей самые кровавые дела.
Откинув со лба кусок толстого белого сукна – отличительный знак орты, привязанный к чалме, знакомый янычар, скаля зубы, обернулся к Ибрагиму.
Невозмутимо Ибрагим предложил товар: фигурки верблюдов, клыки тигра в виде ятаганчиков, окаймленных мелкой бирюзой и крупицами янтаря, бледно-голубые камни на цепочках, напоминающих глаза оглушенных рыб. Но ничто не соблазнило янычара. Он верит в другой амулет и, вытащив из шаровар золотой, подвинул его на ладони.
– Бисмиллах, монета франков! – невольно воскликнул Ибрагим.
Ему ли не знать этот увесистый золотой, если ага Халил в особый ларец откладывал монеты разной ценности, представляющие царства. Халил уверял, что по этим звонким кружкам можно определить характер властелинов: султанов и шахов, царей и королей… но все они одинаково олицетворяют беспощадность…
Янычар, принимая взволнованность Ибрагима за восхищение, хвастливо вертел перед ним золотой. А Ибрагиму казалось, что из монеты вылетают ножи, пули, копья и ятаганы, вылетает пламя, в котором задохнется этот дом – огромная западня, таящая в себе беспощадность золота.
На золотом, который зловеще горел на ладони янычара, был изображен тот же профиль короля, который привлек внимание Георгия Саакадзе еще в посольском дворце графа де Сези.
Не кажется ли все происходящее с Георгием Саакадзе здесь, в Токате, результатом причудливого сплетения обстоятельств, непреодолимых, как бурный поток, который сметает на своем пути и слабый камыш и скалы?
Изощренный кардинал Ришелье, может, и не подозревал, что руками своего посла де Сези он сводил счеты под небом Токата с тем, кто линию Диарбекир – Багдад предпочел полумесяцу над Веной.
Янычар вытянул свою огрубевшую, напоминавшую брусок, руку и приложил монету к вытатуированной эмблеме знаменитой орты – хищной черной птице, сидящей на верхушке кипариса.
– Гу! Тысячи таких золотых выдаст Хозрев-паша девяносто девятой орте в тот час, когда души гурджи-гяуров достигнут пределов ада. Иди! Не помогут твои амулеты изменникам. Вон видишь, кто вышел из дома с секирой за кушаком? Это Мамед! Главный палач Токата!
Не дослушав, Ибрагим метнулся за угол, но вдруг резко остановился… Колебался Ибрагим недолго. Подавив охвативший его ужас, он пошел следом за палачом, любовно придерживающим секиру.
А когда настала ночь, Ибрагим дрожащей рукой снял молоток с крюка и стукнул в железную доску, прибитую к калитке. Звякнул засов.
Ибрагим приготовился увидеть искаженное злобой лицо, освещенное зеленым блеском сатанинских глаз, но, к его удивлению, палач кротким взглядом оглядел его и грустно сказал:
– О улан, твое лицо красиво, как звезда в тихую ночь. Может, по милости аллаха, твой приход принесет облегчение моей жене, которая никак не может родить.
– Селям, главный палач! Я об этом узнал от твоих соседей и принес подобающий случаю амулет.
– Войди! Войди, улан, и пусть с тобой войдет жалость аллаха. Где твой амулет? Если поможет, заплачу столько, сколько запросишь.
– О ага Мамед! Зачем плата, когда помощь нужна?
Польщенный таким обращением – давно его никто не звал «ага», – палач еще приветливее пригласил гостя войти в дом.
Прочитав мысленно молитву, Ибрагим с трепетом переступил порог: «О Мухаммед! Почему втолкнул в оду шайтана? Или… о небо, это лавка людоеда! На тахтах драгоценные ковры, весь пол также устлан коврами. Они освещены пламенем ада!» Озноб охватил Ибрагима. Стены, обтянутые атласом цвета крови, сверху донизу были разукрашены драгоценными изделиями, редкостным оружием, богатой одеждой. Но от всего этого веяло тлетворным духом. Особенно бросались в глаза чистенькие азямы, затканные дорогими камнями, шлемы с гордо высящимися яркими перьями, тяжелые пояса, обвитые золотом. Костлявыми пальцами смерть стаскивала их со своих холодеющих жертв. На видном месте сверкал яхонтами и отборной бирюзой сафьяновый сапог. Под ним сокол – герб сельджуков.
– Видишь, улан, – вздохнул палач, – сердар-и-экрем повелел отрубить богатому беку только одну ногу. По закону – и плата с одной ноги. Услади свои глаза блеском сокровищ вот этого угла. Трудно сосчитать, сколько здесь колец, браслетов, дорогих украшений. Машаллах! Эта стена только для нарядов пашей, эфенди… А вот эта – лишь для одежд купцов, ученых…
Вопль из соседней комнаты прервал пояснения палача, он выбежал.
Стараясь не смотреть на страшные трофеи, Ибрагим осторожно присел на кончик тахты, не решаясь дотронуться до мутаки или столика с перламутровой серной.
Вернувшись, палач глухо спросил, в чем нужна его помощь.
Ибрагим начал издалека. Он рассказал, как аллах помогает правоверным, помнящим, что один час правосудия стоит семидесяти пяти намазов, и что, наверно, аллах милосердный пошлет ага Мамеду сына.
– О улан! – вскричал ободренный палач. – Да будет твой язык подобен меду, а ноги подобны крыльям ангелов! Двадцать жен и тридцать наложниц я переменил, и ни одна не родила мне даже кошку. И вот я взял молодую дочь бедного крестьянина, заплатил за нее мешок пиастров и тюк ковров, одарил ее обжорливых родственников, кричавших, что пусть она лучше умрет, чем станет женой палача. Прошли двенадцать лун, потом еще двенадцать, я запасся терпением, ибо она, как Дильрукеш-ханым, очень красива и нежна, эта жена. Она носит одежды и драгоценности, только купленные в лавках. Она не входит в оды, а их у меня еще три, подобно этой заваленных богатством, мною добытым секирой и шнурком из змеиной кожи. Видно, правда аллах воздал ей, ибо прошло еще десять лун, и она… – Прислушиваясь, палач жалобно простонал: – О улан! Третий день мой дом оглашается воплями… Трудно сердцу вытерпеть столько. Помоги!
– Клянусь Меккой, – заверил страждущего палача Ибрагим, вспомнив, как мать не раз говорила ему, что женщины, как бы ни мучались, на третий день приносят миру новую душу, – твоя жена скоро родит. Но ты должен сделать доброе дело.
– Говори, какое – видишь, как я богат?
Ибрагим поморщился, лучше бы палач был беден, тогда легче пошел бы на подкуп. Все же Ибрагим стал расписывать несметные богатства трехбунчужного Моурав-паши. И если ага Мамед устроит полководцу-гурджи побег, то половину своих сокровищ он отдаст ага Мамеду. Соблазнял Ибрагим домами, уговаривал бежать в Бейрут, где палача будут знать только как богатого купца, или владельца кораблей, или…
Но палач оборвал уговоры: он и так по горло в золоте и с каждым новым мертвецом становится еще богаче. «А без любимого дела, – он нежно погладил секиру, – жить станет скучно». И на что ему звание купца, когда звание палача вызывает трепет у самых знатных. Когда ему поручают истязать провинившегося, весь Токат сбегается смотреть на его мастерскую работу. И даже паши, эфенди и знатные муллы съезжаются издалека полюбоваться, во что может он превратить жертву…
Тут палач, оживившись, принялся с мельчайшими подробностями описывать замечательные, им самим изобретенные, пытки и способы истязаний.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.