Текст книги "Лев Толстой"
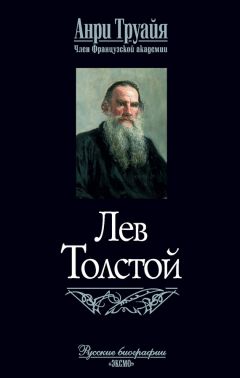
Автор книги: Анри Труайя
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 55 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
Двадцать седьмого марта (восьмого апреля) он пускается в обратный путь. Но вместо того, чтобы проехать Германию без остановок, задерживается в Веймаре, Йене, снова возвращается в Веймар, где его представляют великому герцогу, окруженному «глупыми придворными дамами», и где он получает разрешение посетить дом Гёте, куда пока не пускают публику. В каждом городе и городке жадно устремляется в школы и детские сады. Часто заходит в классы без приглашения, с барской бесцеремонностью. Забирает себе все тетради учеников Юлиуса Штётцера, а в ответ на застенчивое замечание последнего, что родители этих детей люди, в основном, бедные, будут недовольны тем, что придется покупать новые, бросается на улицу, опустошает писчебумажный магазин и возвращается с грудой чистой бумаги, на которую ученики, по его настоянию, переписывают свои работы. Затем, гордо назвавшись – «граф Толстой из России», – забирает их и отдает ожидающему на улице слуге.
В Йене Лев знакомится со студентом Густавом Келлером, проникается к нему симпатией и приглашает учителем в яснополянскую школу за двести рублей в год, обязуясь оплатить путешествие. Ему кажется, что Келлер – это «находка», о чем появляется запись в дневнике второго (четырнадцатого) апреля 1861 года. Через несколько дней, познакомившись с матерью молодого человека, понимает, какую ответственность берет на себя, увозя его. Толстой отправляет Келлера вперед, сам задерживается в Дрездене. Проезжая через Берлин, вновь с удовольствием встречается с Ауэрбахом («Прелестнейший человек!») и знакомится с профессором Дистервегом («Умен, но холоден и не хочет верить и огорчен, что можно быть либеральнее и идти дальше его»).[327]327
Дневники, 9/21 апреля и 10/22 мая 1861 года.
[Закрыть] В гостинице узнает, что Келлер, опередивший его на несколько дней, пил за его счет дорогие белые вина. Это вызвало явное неудовольствие: и потому, что пришлось платить, и потому, что возникло опасение – не тому оказал доверие.
Наконец Толстой собрал чемоданы, упаковал последние купленные книги и решил ехать домой по железной дороге через Варшаву, так как попасть в Санкт-Петербург по морю было невозможно. Пересекая 12 (22) апреля границу, записал: «Граница. Здоров, весел, впечатление России незаметно». В холодном вагоне, покачивая головой в такт движению поезда, Лев мечтал, как откроет школы, будет издавать педагогический журнал, и, не став первым освободителем крестьян, станет, по крайней мере, их первым учителем.
Глава 4
Мировой посредник и педагог
Хотя для Толстого Россией были не Петербург и не Москва, а Ясная, тем не менее он воспользовался возможностью навестить в двух столицах своих друзей – больного туберкулезом Некрасова, Каткова, «бабушку» Александрин, а также нескольких барышень, в которых, ему казалось, был влюблен. Екатерина Тютчева показалась в этот приезд «слишком оранжерейным растением, слишком воспитанной на „безобязательном наслаждении“, чтобы не только разделять, но и сочувствовать его трудам». «Она привыкла печь моральные конфетки, а я вожусь с землей, с навозом», – писал он Александре Толстой.[328]328
Письмо А. А. Толстой, 14 мая 1861 года.
[Закрыть] Наоборот, старшая дочь Берсов, семнадцатилетняя Лиза, очаровала, хотя он чувствовал, что не смеет на ней жениться.[329]329
Дневники, 6 мая 1861 года.
[Закрыть]
Лев уехал в деревню с чувством смутного сожаления, но в данный момент его душа тянулась скорее к дружбе, не к любви. Едва переступил порог дома в Ясной, как получил письмо от Тургенева, который тоже вернулся из-за границы и приглашал его в Спасское, тем более что продолжали петь соловьи и весна была чудо как хороша. Оттуда они могли бы вместе отправиться в Степановку, имение их общего друга Фета. Толстой нашел этот план превосходным – соскучился по литературным беседам.
Двадцать четвертого мая он был уже в Спасском. Сразу после обеда Иван Сергеевич устроил его в гостиной на знаменитом диване, прозванном «самосон», и дал рукопись романа «Отцы и дети», который только что закончил. Но сказалась то ли усталость от дороги, то ли слишком обильная еда, то ли слишком вылизанная проза – Толстой пробежал глазами несколько страниц и задремал. Проснулся он от какого-то странного ощущения и увидел спину удалявшегося Тургенева. Хозяин безусловно был задет отсутствием интереса к своему произведению, но неудовольствия ничем не выказал. Лев страдал от того, что был застигнут на месте преступления, но не мог напрямую сознаться, что «Отцы и дети» ему не понравились. Между ними не было никакого объяснения, а роман так и остался лежать на столике рядом с диваном. На следующий день они, как ни в чем не бывало, отправились за семьдесят верст в Степановку.
Фет и его жена Мария Петровна встретили их так радушно, что все беспокойства сразу рассеялись. На другой день утром гости и хозяева встретились за самоваром. Зная, что Тургенев уделяет большое внимание воспитанию своей дочери Полины, Мария Петровна поинтересовалась, доволен ли он английской гувернанткой, которая занималась ребенком в Париже. Иван Сергеевич начал важничать: подозревал, что друзья критикуют его за то, что Полина растет в семье Виардо, с трудом говорит по-русски и что у нее нет ни родителей, ни родины. Он с пылкостью стал доказывать, что гувернантка – настоящая жемчужина и что применяет британские методики воспитания. В качестве примера рассказал, что по ее просьбе выделил Полине ежемесячную сумму «на бедных».
«Теперь, – сказал Тургенев, – англичанка требует, чтобы моя дочь забирала на руки худую одежду бедняков и, собственноручно вычинив оную, возвращала по принадлежности.
– И это вы считаете хорошим? – спросил Толстой.
– Конечно; это сближает благотворительницу с насущною нуждой.
– А я считаю, что разряженная девушка, держащая на коленях грязные и зловонные лохмотья, играет неискреннюю, театральную сцену.
– Я вас прошу этого не говорить! – воскликнул Тургенев с раздувающимися от гнева ноздрями.
– Отчего же мне не говорить того, в чем я убежден, – отвечал Толстой».
Фет попытался вмешаться, но бледный от злобы Тургенев сказал: «Так я вас заставлю молчать оскорблением».
Все молчали, Толстой окаменел от ярости. Тургенев вскочил и, схватившись руками за голову, вышел в другую комнату. Через минуту вернулся и сказал Марии Петровне: «Ради Бога извините мой безобразный поступок, в котором я глубоко раскаиваюсь».[330]330
Фет А. А. Мои воспоминания.
[Закрыть]
Потом пробормотал несколько слов сожаления Толстому и уехал в Спасское. Через четверть часа покинул Фетов и Лев, который намеревался отправиться в Никольское, имение, которое унаследовал от брата Николая. В дороге бешенство его ничуть не стихло, и он решил, что не в силах больше сносить подобные оскорбления, а потому, заехав по пути в Новоселки, имение своего приятеля Борисова, со слугой немедленно отправил Тургеневу вызов на дуэль, в котором настаивал, чтобы тот прислал ему письмо с извинениями, которое можно было бы показать Фету и его жене, или сразился с ним недалеко от станции Богослово, где он и будет его ждать. Тургенев, который к моменту получения письма совершенно успокоился, возражал: «В ответ на Ваше письмо я могу повторить только то, что я сам своею обязанностью почел объявить Вам у Фета; увлеченный чувством невольной неприязни, в причины которой теперь входить не место, я оскорбил Вас без всякого положительного повода с вашей стороны и попросил у Вас извинения. Происшедшее сегодня доказало поутру ясно, что всякие попытки сближения между нами, такими противоположными натурами, каковы Ваша и моя, не могут повести ни к чему хорошему; а потому тем охотнее исполняю мой долг перед Вами, что настоящее письмо есть, вероятно, последнее проявление каких бы то ни было отношений между нами. От души желаю, чтобы оно Вас удовлетворило, и заранее объявляю свое согласие на употребление, которое вам заблагорассудится сделать из него».
Эти строки вполне могли бы умиротворить адресата, но по невнимательности Тургенев отправил свое послание к Борисову в Новоселки, думая, что Толстой все еще там, тогда как тот ждал ответа на станции Богослово. Время шло, ответ не приходил, и Толстой чувствовал, как его охватывает все больший гнев. Он послал второе письмо, требуя немедленной дуэли, но не пародии, когда два писателя встречаются в сопровождении третьего, расходятся далеко, чтобы можно было промахнуться, там же мирятся и завершают вечер шампанским. Нет, это должна быть настоящая битва, один на один, без свидетелей, сражение не на жизнь, а на смерть. Ему непременно нужна была кровь Тургенева! Лев точно определил место встречи – опушка богословского леса – и попросил противника быть там на следующее утро с пистолетами. Отправил слуг за своими в Никольское. Не спал всю ночь, на заре слуга привез ему ответ Тургенева на первое письмо, а чуть позже другой – на второе, в котором Иван Сергеевич принимал вызов: «Скажу без фразы, что охотно бы выдержал Ваш огонь, чтобы тем загладить мое действительно безумное слово. То, что я его высказал, так далеко от привычек всей моей жизни, что я могу приписать это ничему иному, как раздражению, вызванному крайним и постоянным антагонизмом наших воззрений. Это не извинение, я хочу сказать не оправдание, а объяснение. И потому, расставаясь с вами навсегда – подобные происшествия неизгладимы, – считаю долгом повторить еще раз, что в этом деле правы были вы, а виноват я. Прибавляю, что тут вопрос не в храбрости, которую я хочу или не хочу показывать, а в признании за вами права привести меня на поединок, разумеется, в принятых формах (с секундантами), так и права меня извинить. Вы избрали, что вам было угодно, и мне остается покориться вашему решению».
Толстой ликовал. Он отвечал Тургеневу, что тот боится его, что он его презирает и не желает больше иметь с ним никаких дел. Затем переслал оба письма Ивана Сергеевича Фету, сопроводив их желчными комментариями. Последний попытался примирить противников, но с обеих сторон натолкнулся на решительный отказ.
Но прошло несколько недель, и Толстой стал сожалеть о своем поведении. Все еще осуждая Тургенева за неоправданную резкость, проявленную им у Фета, признавал, что сознательно пытался вывести его из себя, противореча в таком деликатном деле, как воспитание дочери. «Замечательная ссора с Тургеневым; окончательная – он подлец совершенный, но я думаю, что со временем не выдержу и прощу его», – записывает Лев в дневнике 25 июня. Двадцать седьмого сентября пишет ему: «Если я оскорбил вас, простите меня, мне невыносимо грустно думать, что я имею врага».
Поскольку они решили прервать всякую переписку, Тургенев уехал в Париж, и Толстой, не зная его адреса, попросил петербургского книготорговца Давыдова передать записку Ивану Сергеевичу. Давыдова связывали с Тургеневым деловые отношения, письмо завалялось у него в ящике. Тем временем Иван Сергеевич узнал от Колбасина, который очень любил сплетни, что Толстой обидно о нем отзывается и рассказывает искаженную версию их ссоры, приводя в доказательство документы. Ни минуты не усомнившись в достоверности этого, Тургенев немедленно ответил тому, кого считал своим худшим врагом:
«Перед самым моим отъездом из Петербурга я узнал, что вы распространили в Москве копию с последнего вашего письма ко мне, причем называете меня трусом, не желавшим драться с вами, и т. д… так как я считаю подобный ваш поступок после всего того, что я сделал, чтобы загладить сорвавшееся у меня слово – и оскорбительным и бесчестным, то предваряю вас, что я на этот раз не оставлю его без внимания и, возвращаясь будущей весной в Россию, потребую у вас удовлетворения».[331]331
Письмо И. С. Тургенева, конец сентября 1861 года.
[Закрыть]
Поняв, что письмо с извинениями так и не дошло до адресата, Толстой испытал шок, получив этот вызов. Тем не менее не рассердился, как можно было бы предположить: вероятно, вновь пытался следовать «правилам для жизни» или хотел воспользоваться этим, чтобы от порока перейти к святости, либо, презирая Тургенева за его боязнь того, что могут сказать окружающие, стремился доказать, будто для него, Льва Толстого, общественное мнение ничего не значит? Как бы то ни было, тот, кто еще недавно мечтал о дуэли на пистолетах без свидетелей, с кровью на траве, отвечал:
«Вы называете в письме своем мой поступок бесчестным, кроме того, вы лично сказали мне, что вы дадите мне в рожу, а я прошу у вас извинения, признаю себя виновным – и от вызова отказываюсь». Пусть теперь его враг мучается от беспричинного гнева.
Получив эти несколько строк, Тургенев написал Фету, прося его передать Толстому, что тоже отказывается от всякой мысли о дуэли и что так и не получил записки с извинениями, которую тот передал с Давыдовым. «Теперь всему этому делу de profondis», – заключает он. Афанасий Афанасьевич вынужден был действовать исключительно дипломатично, чтобы довести эти примирительные формулировки до Льва. Не тут-то было! Мирный настрой Толстого улетучился так же быстро, как и возник, – никакого прощения, прежняя ярость, подозрительность, лишенные малейшего уважения. Он не мог согласиться с тем, что этот «мандарин» с седой бородой и нервишками барышни судит о нем в письмах общим знакомым, которые, значит, и сами такие же – предатели, фразеры, культурные люди! В припадке раздражения отвечает Фету:
«Тургенев – подлец, которого надобно бить, что я прошу вас передать ему так же аккуратно, как вы передаете мне его милые изречения, несмотря на мои неоднократные просьбы о нем не говорить… И прошу вас не писать ко мне больше, ибо я ваших, так же как и Тургенева, писем распечатывать не буду».[332]332
Письмо А. А. Фету, декабрь 1861 года.
[Закрыть]
Наконец, седьмого января 1862 года Тургенев все-таки получает знаменитое письмо с извинениями, которое Давыдов до сих пор не удосужился передать. Тут же он обращается к Фету:
«Я сегодня только получил письмо, посланное им (Толстым) в сентябре через книжный магазин Давыдова (хороша исправность купцов русских!) – ко мне. В этом письме он говорит о своем намерении оскорбить меня, извиняется и т. д. А я почти в то самое время, вследствие других сплетен, о которых я, кажется, писал вам, посылал ему вызов и т. д. Из всего этого должно вывести заключение, что наши созвездия решительно враждебно двигаются в эфире, и потому нам лучше всего, как он сам предлагает, избегать свидания. Но вы можете написать ему или сказать (если вы увидите), что я (без всяких фраз и каламбуров) издали его очень люблю, уважаю и с участием слежу за его судьбой, но что вблизи все принимает другой оборот. Что делать! нам следует жить, как будто мы существуем на различных планетах или в различных столетиях».
Последовавшие за этим семнадцать лет Тургенев и Толстой не встречались и не переписывались. Ссора с Фетом, наоборот, скоро была забыта – в январе 1862 года, встретив поэта в одном из московских театров, Лев подошел к нему, заглянул в глаза, пожал руку и сказал, что не может на него сердиться.
Когда Толстой вновь мысленно возвращался к происшедшему, оно казалось ему одновременно и кошмаром, и каким-то цирковым аттракционом: то он сам требовал извинений, а получив, сожалел, что просил их, то Тургенев, признав свои ошибки, вдруг чувствовал себя оскорбленным и настаивал на дуэли – как в плохо согласованном номере, они оказывались верхом и спешивались невпопад, письма не доходили вовремя, неловкие попытки общих друзей вносили еще большую сумятицу. К черту литераторов! Хорошо только среди мужиков! Ведь, в конце концов, только ради них он вернулся в Россию и даже в разгар ссоры с Тургеневым не переставал заниматься ими.
Указ об отмене крепостного права совершенно не изменил деревенских жителей – те же лохмотья, грубые лица, униженная покорность. Приехав в Ясную в мае 1861 года, хозяин немедленно собрал своих крестьян, чтобы попытаться объяснить им положения манифеста. Желая показать себя широко, как никто другой, мыслящим человеком, даровал им тот максимум земель, что предполагался для Тульской губернии, то есть три десятины на человека. Сам остался владельцем 628,6 десятины в Ясной Поляне и 48,15 в деревне Грецовке. Были крестьяне благодарны ему за это? Вряд ли, поскольку землю, которую возделывали из поколения в поколение, давно считали своей, а потому, казалось, барин пытается подарить им то, чем они давно владеют. Единственное, за что можно было быть ему признательными, – он не обворовывал их, как большинство окрестных владельцев.
Толстой был еще в Брюсселе, когда тульский губернатор, генерал-лейтенант Дараган, назначил его мировым посредником четвертого участка Крапивенского уезда для решения споров между крестьянами и помещиками. Решение это вызвало негодование большинства представителей дворянства, которые считали писателя опасным либералом, склонным решать все вопросы не в пользу помещиков. Предводитель уездного дворянства В. П. Минин, выражая недовольство многих этим назначением, вынужден был написать министру внутренних дел Валуеву, чтобы тот отменил его. Но Дараган настаивал на своем выборе, говоря, что Толстой – человек образованный, преданный делу, пользующийся известностью. И несмотря на значительную оппозицию, новый мировой посредник приступил к выполнению своих обязанностей.
Требовалось немало мужества и настойчивости, чтобы работать в атмосфере почти полного неприятия. Каждое дело он старался разрешить по совести: справедливость требовала внимательного отношения не только к крестьянам, но и к их владельцам, тем более что положение последних в свете решений, сопровождавших указ об отмене крепостного права, порой было очень непростым. Помещики, не хотевшие лишиться своих привилегий, пытались отдать мужикам земли похуже или брали с них незаконные проценты. Мужики, в свою очередь, уверенные в своем праве, нередко возмущались решениями мирового судьи, который недостаточно решительно вставал на их защиту. Так, стремясь быть ровным со всеми, Толстой вызывал недовольство обеих сторон. Одна из окрестных помещиц, Артюхова, жаловалась на бывшего своего дворового Марка, который ушел от нее, считая себя теперь свободным человеком. Толстой пишет ей: «Марк немедленно, по моему приказанию, уйдет с женою, куда ему угодно, вас же я покорнейше прошу: 1) удовлетворить его за прослуженные у вас противозаконно со времени объявления положений три месяца с половиной и 2) за побои, нанесенные его жене, еще более противозаконно. Ежели вам не нравится мое решение, то вы имеете право жаловаться в мировой съезд». Артюхова так и поступила, а съезд, состоявший из людей, которые враждебно были настроены по отношению к Толстому, занял ее сторону. Но губернское присутствие, которое в данной ситуации было последней инстанцией, подтвердило решение Толстого – Марк с женой получили удовлетворение и смогли уйти.
Дело помещика Михайловского связано было с тем, что крестьянские лошади потравили его луг, помещик Костомаров отказывался отдать землю крестьянам, переводя их в дворовые, то есть безземельные. Пришлось Толстому отстаивать и права несчастных, избы которых сгорели, а денег на восстановление не было, да и хозяин не позволял им строиться на прежних местах. В особо щекотливых ситуациях сам выезжал на место, вел переговоры с крестьянами и помещиками, призывал стороны признать существование новой ситуации без ненужных сожалений, но и без напрасных надежд. Однажды мужики прислали к нему депутацию, так как хотели получить взамен предназначенного для них выгона другой кусок земли, для увеличения надела.
«– Мне очень жалко, что я не могу исполнить вашей просьбы, – сказал граф, – если бы я так сделал, то причинил бы большой ущерб вашему помещику.
…Мужики переглянулись, почесали затылки и упрямо твердили свое: „Уж как-нибудь, батюшка!“
…Граф перекрестился и сказал:
– Как Бог свят, клянусь вам всем, что я ни в чем вам помочь не могу.
Но когда и после этого мужики твердили свое: „Уж как-нибудь сделай, батюшка, смилуйся!“, – граф гневно обернулся к управляющему и сказал ему:
– Можно быть Амфионом и скорее двинуть горы и леса, чем убедить в чем-нибудь крестьян!»[333]333
Левенфельд Г. Гр. Л. Н. Толстой, его жизнь и сочинения.
[Закрыть]
Тем временем помещики решили во что бы то ни стало избавиться от того, кто, как им казалось, служил мировым посредником в ущерб их интересам. Не проходило и дня, чтобы на имя предводителя дворянства, губернатора, в губернское присутствие или министерство внутренних дел не поступали письма с жалобами. «Посредничество дало мало матерьялов, а поссорило меня со всеми помещиками окончательно и расстроило здоровье, кажется, тоже окончательно», – записывает Толстой в дневнике 25 июня 1861 года. А несколько месяцев спустя делится с Боткиным: «Я попал в мировые посредники совершенно неожиданно и, несмотря на то, что вел дело самым хладнокровным и совестливым образом, заслужил страшное негодование дворян. Меня и бить хотят, и под суд подвести, но ни то, ни другое не удается. Я жду только того, чтобы они поугомонились, и тогда сам выйду в отставку».[334]334
Письмо В. П. Боткину, 26 января 1862 года.
[Закрыть]
Всякая бюрократическая волокита вызывала у него страшное неудовольствие, но каждое новое дело вызывало к жизни ворох бумаг – рапорты, записки, ведомости, отчеты… В феврале 1862 года, прослужив десять месяцев, он обращается в губернское присутствие с просьбой разобраться с жалобами, поступившими на него. Тридцатого апреля, под предлогом болезни, подает прошение об отставке. Двадцать шестого мая правительствующий сенат принял ее. Помещики вздохнули с облегчением. Но это вовсе не означало, что настал конец возникшим проблемам, – если Толстой и не вмешивался теперь напрямую в их ссоры с крестьянами, то само его существование и отношения с мужиками продолжали мешать многим. Не вызывала доверия и его педагогическая деятельность – кто вырастет из учеников яснополянской школы?
Школа эта вновь была открыта, и работали в ней, помимо Толстого, несколько молодых учителей, которых он сам выбрал и которым сам платил. В каменном двухэтажном доме три комнаты заняты были школой, «одна – кабинетом, две учителями». На крыльце, под навесом висел «колокольчик, с привешенною за язычок веревочкою», в сенях внизу стояли перекладина и брусья для гимнастики, наверху – верстак. На стене – расписание, хотя и чисто символическое, так как девизом школы было: «Делай то, что тебе нравится!»
В восемь утра один из учеников звонил в колокольчик. «В тумане, в дожде или в косых лучах осеннего солнца» появлялись темные силуэты ребят, шедших поодиночке, по двое, по трое. Как и в прошлом году, они ничего с собой не приносили – ни книг, ни тетрадей, – одно только желание учиться. Классы были выкрашены в голубой и розовый цвета, на полках лежали образцы минералов, бабочки в коробках, засушенные растения, физические приборы. Не было лишь книг. Да и зачем? Дети входили в класс, как к себе домой, рассаживались кто где хотел – на полу, подоконнике, стульях, краешке стола, слушали или не слушали объяснения учителя, придвигались к нему поближе, когда рассказ казался интересным, выходили, если хотели заняться чем-то другим, но при малейшем шуме одергивали виновного, сознательно и самостоятельно поддерживая дисциплину. Занятия – если так можно назвать дружеские беседы взрослых с детьми – продолжались с восьми утра до полудня и с трех до шести часов вечера. Обсуждались самые разные предметы – от грамматики до столярного ремесла, включая Священную историю, пение, географию, гимнастику, рисование и сочинительство. Ребятишки, которые жили далеко от школы, ночевать оставались в ней. Летом занятия проводились на улице – дети рассаживались прямо на траве. Раз в неделю все вместе ходили в лес собирать растения для гербария.
Толстой считал себя последователем Руссо, ему хотелось верить, что человек по своей природе добр, грехи – издержки цивилизации, и потому преподаватель должен не подавлять ребенка грузом знаний, а помогать ему понемногу в высвобождении его собственной личности. Порой он даже приходил к мысли, что чем девственнее почва, тем больше шансов собрать с нее необыкновенный урожай. И хотя Россия очень отстала от других стран, непременно настанет время, когда родит гениев больше, чем они. Быть может, среди яснополянских мальчишек скрываются Ломоносовы и Пушкины, и надо не ошибиться, высевая знания в эти благодатные, ничем не замутненные умы. Лев постоянно помнил о словах Монтеня по поводу образования: «Главное – равенство и свобода». Ни в коем случае не хотел следовать немецким, французским и английским методикам, а создать свою, русскую.
И все же сквозь педагога проглядывал писатель. В этом обучении без программы, наказаний и вознаграждений он пытался смотреть на мир глазами своих воспитанников, восхищался их ответами и задавался вопросом: «Кому у кого учиться писать, крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?» Он предложил им подумать над пословицей: «Ложкой кормит, стеблем глаз колет». Дети озадаченно на него посмотрели. «Вот вообрази себе, – попытался он им объяснить, – что мужик взял к себе какого-нибудь нищего, а потом, за свое добро, его попрекать стал, и выйдет к тому, что „ложкой кормит, стеблем глаза колет“». Стремясь научить их сочинять рассказы, сам придумывал начало, они же должны были продолжать. Склонившись к его плечу, шептали варианты: «Нет, не так!..», «Он будет просто солдатом!..», «Пусть лучше он украдет их!..», «И тут должна войти злая баба!..». Особенным талантом к сочинительству выделялись двое – Сёмка и Федька. Толстому казалось, когда он писал под их диктовку, что пьет из источника, в котором бьет истина. Их увлеченное сотрудничество затягивалось иногда с семи часов вечера до одиннадцати. Ночевали они в кабинете учителя. Часто перевозбужденный, с горящими глазами и дрожащими руками, Федька долго не мог заснуть. «Я не могу передать того чувства волнения, радости, страха и почти раскаяния, которые я испытывал в продолжение этого вечера, – будет вспоминать Толстой. – Я чувствовал, что с этого дня для него открылся целый мир наслаждений и страданий – мир искусства; мне казалось, что я подсмотрел то, что никто никогда не имеет права видеть, – зарождение таинственного цветка поэзии… радостно мне было, потому что вдруг, совершенно неожиданно, открылся тот философский камень, которого я тщетно искал два года, – искусство учить выражению мыслей; страшно, потому что это искусство вызывало новые требования, целый мир желаний, несоответственный среде, в которой жили ученики, как мне казалось в первую минуту».[335]335
Толстой Л. Н. Кому у кого учиться писать, крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?
[Закрыть]
Чтобы заинтересовать учеников историей страны, рассказал им о войне 1812 года. Немедленно мальчишек охватил патриотический пыл, они восклицали, перебивая друг друга: «Небось Александр ему [Наполеону] задаст!», «Плох твой Кутузов!», пожар Москвы одобрили все, поражение врага вызвало ликование. Обсуждая этот рассказ поздно вечером с учителем-немцем Келлером, Толстой не мог не согласиться, что это «не была история, а сказка, возбуждающая народное чувство». Но разве плохо воскресить краски, заставить звучать оружие и барабаны? Любил он вспоминать, прогуливаясь с детьми по полям, Кавказ, казаков, жестокие стычки, Шамиля, Хаджи-Мурата. Федька, держа Толстого за руку, время от времени бормотал: «Ну, еще, еще, вот хорошо-то!» Иногда дети спрашивали его о красоте или о смерти, и Лев делился своими соображениями. Как-то на уроке возник вопрос о существовании разных сословий, и ученики стали рассказывать, в чем видят различия между ними: «Крестьяне пашут, дворовые господам служат, купцы торгуют, солдаты служат, самоварщики самовары делают, попы обедни служат, дворяне ничего не делают».
Восхищенный живостью ума своих воспитанников, Толстой решает приобщить их к русской литературе, читает им Пушкина, Гоголя. Увы, простые, полные гармонии стихи, замечательная проза оставляют их равнодушными. И учитель вынужден признать, что для великих писателей они еще недостаточно зрелы. Но инстинктивно сам вставал на сторону народа, не элиты: если кто-то и был не прав, то, конечно, не мужик, который по природе своей чист, и уж тем более не крестьянские дети – чистейшие. «Может быть, что народ не понимает и не хочет понимать нашего литературного языка потому, что нечего ему понимать, потому что вся наша литература для него не годится, и он вырабатывает сам для себя свою литературу».[336]336
Толстой Л. Н. Яснополянская школа в ноябре и декабре.
[Закрыть]
Мысль об этом больше его не отпускает. Внезапно ему становится очевидно, что литература, музыка, поэзия, живопись, скульптура – сборище ошибок, заблуждений, они слащавы, потому народ не желает и не понимает их. С яростью иконоборца принимается он крушить то, чем всегда восхищался, только потому, что Федька или Сёмка неспособны оценить эти произведения. И вместо того, чтобы попытаться поднять их до уровня искусства, стремится сам снизойти до их понимания искусства. Зачем Шекспир, Расин, Гёте, Рембрандт, Моцарт, если у деревенского дурачка они вызывают лишь скуку? «Я убедился, – пишет Толстой, – что лирическое стихотворение, как, например, „Я помню чудное мгновенье“, произведения музыки, как последняя симфония Бетховена, не так безусловно и всемирно хороши, как песня о „Ваньке-ключнике“ и напев „Вниз по матушке по Волге“, что Пушкин и Бетховен нравятся нам не потому, что в них есть абсолютная красота, но потому, что мы так же испорчены, как Пушкин и Бетховен, потому что и Пушкин, и Бетховен одинаково льстят нашей уродливой раздражительности и нашей слабости»,[337]337
Там же.
[Закрыть] и далее продолжает: «Почему красота солнца, красота человеческого лица, красота звуков народной песни, красота поступка любви или самоотвержения доступны всякому и не требуют подготовки?» Подтверждение тому, что искусство, которое проповедуют и защищают эстеты, не более чем глупость, Толстой видит в простом численном соотношении: «Нас – тысячи, их – миллионы»,[338]338
Толстой Л. Н. Яснополянская школа в ноябре и декабре.
[Закрыть] а потому художник должен подчиниться закону больших чисел – писать то, что требуют они, или не писать вовсе, если они того не желают. И вообще, можно прекрасно обойтись без писательства, народ, даже грязь которого свята, самодостаточен и не нуждается ни в ком, чтобы удовлетворить свои стремления к работе, удовольствиям, размышлениям, созиданию. Но зачем тогда яснополянская школа? Да ведь в ней не совершают святотатства – не учат детей, а только аккуратно подталкивают к осознанию самих себя, дают будущим крестьянам поэтическое понятие о крестьянстве. Сам Толстой порой мечтает о том, как уйдет из дома, выстроит избу, будет обрабатывать землю, женится на деревенской девушке. По его словам, «жениться на барышне – значит, навязать на себя весь яд цивилизации».[339]339
Петерсон Н. П. Из записок бывшего учителя.
[Закрыть] Дети, посвященные в этот план, принимают его всерьез и начинают поиски подходящей невесты. Умиленный, он разрешает им это, но однажды ему уже хотелось, из любви к простой жизни, жениться на казачке.
На Масленицу 1862 года Лев велел напечь блинов для учеников и угостил их конфетами, на Пасху все получили в подарок разноцветный ситец, карандаши, губные гармоники, шапки… Ободренный результатами своей деятельности, он решает открыть школы в соседних деревнях. Вскоре их уже четырнадцать, необходимы учителя. Ими становятся бедные московские студенты, в головах которых витают идеи революции. Но Толстой, всегда неприязненно относившийся к политике и стремящийся дать народу возможность самому проявить себя, категорически против того, чтобы нести в массы идеи Герцена и Прудона. После многих часов разговоров с вновь прибывшими ему удается обратить их в свою веру – теорию спонтанного образования, «каждый, без исключения, через неделю сжигал свои рукописи, выбрасывал из головы революционные мысли и учил крестьянских детей Священной истории, молитвам и раздавал Евангелия читать на дом».[340]340
Письмо А. А. Толстой, 7 августа 1862 года.
[Закрыть] Цивилизация казалась Толстому извращением здоровой жизни людей, «и хотя мы все и были продуктом цивилизации, но не заражать народ своим „ядом“ приглашал нас Лев Николаевич, а самим оздоровиться от соприкосновения с здоровою жизнью народа».[341]341
Петерсон Н. П. Из записок бывшего учителя.
[Закрыть]
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































