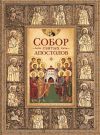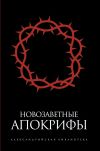Текст книги "Книга Иуды"
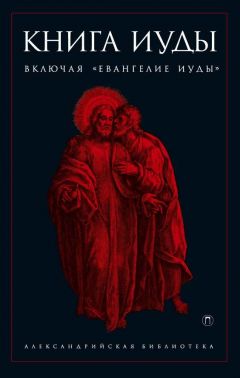
Автор книги: Антология
Жанр: Классическая проза, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 20 страниц)
Но Он был неумолим.
«Истинно, истинно говорю вам, – возглашал Он, – не останется здесь камня на камне, все будет разрушено».
Он начал говорить о будущем. Страшные, нестерпимые картины открывал Он перед их взором.
Будут войны, голод, моры, землетрясения по местам. Народ восстанет на народ и царство на царство. Это будет только начало болезней.
А потом их, Его учеников, будут предавать на мучения и убивать. За имя Его будут ненавидимы всеми.
Тогда соблазнятся многие: и друг друга будут предавать на мучения и убивать, и возненавидят друг друга…
Многие лжепророки восстанут, сотворят великие знамения и чудеса, соблазнят многих, стараясь прельстить, если возможно, и избранных. Умножатся беззакония, и охладеет любовь…
Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира и доныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть.
И будут знамения в солнце, луне, звездах и на земле; уныние народов и недоумение; и море восшумит и возмутится.
Люди будут воздыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы Небесные поколеблются…
Иуда слушал, и ему казалось, что великое разрушение уже началось. Величественные стены храма рушатся, и камни, ударяясь друг о друга, летят со страшным грохотом в бездну. Громадное красное солнце на западе истекает последним теплом и готовит миру холодную беспросветную ночь.
Из темной глубины неба с оглушительным треском летят горящие осколки, как слишком зрелые плоды со смоковничного дерева.
И Ангельские полчища, силы небесные, недоумевают и, закрывая лицо руками, возносят свою хвалу и свое упование.
И весь этот ниспадающий поток ужасов вызвал Он, Учитель, Своим словом.
О, как Он могущественен!
Иуда не сомневается больше в Его могуществе.
Недаром он видел смердящего четверодневного Лазаря, выходящего из гроба. Он сам ощущал это зловоние смерти. И на его глазах спадали погребальные пелены, и снова ожило начавшее разлагаться тело. Он кажется Иуде теперь каким-то страшным демоном, играющим легко и свободно вереницами человеческих поколений и сонмами миров.
Он, один Он и никто другой, ни прежде, ни теперь, ни после, Он один только может спасти человека, Свою много-скорбную и грешную, но все-таки Божественную Отчизну и чающий спасения мир.
Но Он не хочет.
Светлый и тихий, Он пленен какой-то нечеловеческой туманной мечтой и влюблен в таинственную красоту страдания.
Нищий и убогий, Он стоит здесь, принеся в дар Своей нищете несметные сокровища Своих сил.
Он идет навстречу страшному хаосу, Сам бросается в отверстое лоно бездны. И вместе с Ним идут те, что ради
Него оставили жен и детей и возненавидели по Его слову жизнь.
И Иудею, возлюбленный Богом виноградник, невесту Божию, он влечет за Собою.
И туда, в хаос, низвергает Он землю, солнце и вселенную.
И только когда разлетятся в куски мириады миров и погибнет в неимоверных страданиях неисчислимое множество человеческих поколений, Он обещает зажечь белый свет Воскресения.
Иуда знал, что теперь он ненавидит Этого Человека.
И он не может больше дышать с Ним одним воздухом…
В доме воскресшего Лазаря была вечеря…
Было много гостей, было празднично и радостно.
Учитель возлежал около стола.
И вот среди пира вошла сестра Лазаря, задумчивая и тихая Мария. И в руках у нее был сосуд, наполненный благоуханным миром.
Подойдя к Учителю, она разбила сосуд и пролила миро на Его голову и ноги. А сама склонилась к земле, и ее густые золотистые волосы густой пеленой рассыпались по Его стопам.
Все смолкли и замерли в изумленном молчании.
Горница благоухала от мира.
Но Иуда не разделял общего восторга.
Ему казалось, что Учитель не вправе поступать так, как Он поступает. Как, разве не Он изгоняет из мира всякое великолепие и роскошь, разве не Он требует от всех последней, предельной нищеты? Почему же теперь Он не остановит женщину, берет от нее то, от чего должен отказаться? Почему не потребует, чтобы она отдала свое богатство нищим, калекам, прокаженным, бросила бы его сюда, в Иудин ящик? Он, Иуда, более вправе распорядиться этим богатством, чем Учитель. Он ведь не проповедовал отречения во всем.
И в общей благоговейной тишине всегда молчаливый Иуда в первый раз заговорил громко:
– К чему такая трата? Для чего бы не продать миро за триста динариев и не раздать нищим?
Тень смущения и негодования пробежала по всем лицам. Все поняли, что слова Иуды относились не к Марии, а к Тому, Чьи ноги она отирает своими волосами.
И Учитель отвечал Иуде:
– Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для Меня. Ибо нищих всегда имеете с собой, а Меня не всегда имеете. Возлив это миро на тело Мое, она приготовила Меня к погребению.
В эту ночь Иуда вовсе не спал.
Он решился предать Учителя.
Он ЕГО ненавидел. Этот Человек отнял у него счастье, разбил его жизнь, сломал его душу. Он уничтожил его веру и предал неслыханному позору веру его народа. Он готовит страшное унижение его родине. Он грозит миру гибелью.
Конечно, с Ним трудно бороться.
Иуда знает ЕГО могущество.
Но ЕГО безумие больше ЕГО сверхчеловеческой силы.
Ради него Он жертвует ею. Он Сам обрекает Себя на смерть.
Пусть же совершится то, что должно совершиться.
Таких сил нельзя оставлять в руках безумца. Он испепелит мир.
Когда-то Иуда просто хотел уйти от Него. Но от Него нельзя уйти. Отравленное, губительное дыхание Его уст достигает всюду. Он – соблазнитель. И тот, кто хоть раз вкусил от Его соблазна, рано или поздно будет принадлежать Ему. Его надо уничтожить. В Его лице есть тайна. От нее можно потерять рассудок. Ради нее готовы на бесчисленные страдания, и одна мечта о том, что они увидят ее в день Воскресения, влечет их за Ним в зияющую пустоту.
Но Иуда рассеет Его соблазн.
Он, Иуда, предатель – истинный спаситель мира.
Завтра он пойдет к раввину Бен-Акибе и предаст Учителя.
Он не будет просить за Него слишком дорого. Но он возьмет ровно тридцать сребреников, цену беглого раба.
Пусть по этой цене идет Тот, Кто мог бы и не захотел стать Царем. А на эти деньги Иуда купит рабыню для своего виноградника. Тогда каждый получит то, что заслужил.
К концу первого дня опресночного в потаенной горнице Учитель совершал Свою последнюю вечерю с учениками.
Там был и Иуда.
Он уже почти сделал свое дело и в эту ночь, всего через несколько часов, должен был привести стражу с первосвященниками в сад, где Учитель обыкновенно молился, и передать Его им.
Иуда плохо видел и плохо понимал, что совершалось кругом.
Вот Учитель, кажется, берет кувшин, наливает воду в таз. Вот подпоясывается полотенцем…
Но что это?
Он наклоняется к земле, к ногам Иуды. Он моет ноги, вытирает их полотенцем. Одно прикосновение этих рук было когда-то для Иуды блаженством. Да разве и теперь не ощущает он того же блаженства? А Его волосы падают и ласкают ноги Иуде, как там, на вечере, волосы женщины. Мгновенье… и, кажется, Иуда сам упадет к Его ногам и будет целовать их.
Или… или он схватит тот длинный нож и вонзит его Ему в склоненную шею.
Но мгновение прошло, и Учитель перешел к тому, кто лежал рядом с Иудой.
Потом совершали вечерю.
Вдруг Учитель побледнел… Какое-то странное возбуждение овладело Им. Он возмутился духом.
И, смотря прямо пред Собою, Он сказал громко и отчетливо, так, что Иуда вздрогнул:
– Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению. Но горе тому человеку, которым Он предается. Лучше было бы этому человеку не родиться.
Испуганные, опечаленные, растерянные, не доверяющие друг другу и себе, ученики с нежностью и слезами спрашивали:
– Не я ли, Господи?
И Иуда спросил: «Не я ли?»
И тихо, так, что слышал один Иуда, Он сказал: «Ты говоришь».
И Он, взяв хлеб и благословив, преломил его, воздав хвалу Богу, и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, ядите, сие есть тело Мое». И, взяв чашу и благословив, и воздав хвалу Богу, подал им и сказал: «Пейте из нее все: сия есть кровь Моя Нового Завета, за вас и за многих изливаемая, во оставление грехов».
То, о чем Он говорил в Капернаумской синагоге, совершилось. Знали, что, когда придет Мессия, Он устроит великолепное пиршество в роскошном дворце, окруженном легионами воинов и бесчисленных рабов. При громких победных криках Мессия-Царь предложит собравшимся пышную и невиданную драгоценную трапезу. Это будет пир для всего мира, по крайней мере для всех верных. Он положит конец голоду и нищете.
Но это – не чаемый Мессия, это безумный, странный Мессия-нищий. Его пир – вечеря в потаенной горнице под страхом казни. Вместо рабов Он Сам служит возлежащим, приклоняясь к земле и умывая их ноги.
И на Его трапезе не видно много яств. Он дает пирующим только Свою приготовленную к смерти Плоть в этом чистом пшеничном хлебе и Свою Кровь в прозрачной и искрящейся влаге этой чаши.
Этим единственным даром, кровью Своего сердца – Собою Самим, хочет Он возрадовать мир и утолить его голод и жажду.
Его час пришел. Вот час, о котором Он говорил в Кане.
Конец сходится с началом. Чудо первой с чудом последней ночи.
Вода, ставшая вином, ныне претворяется в кровь.
И не совершается ли здесь тоже брак, тот брак, о котором Он говорил так часто – брачный пир Царского Сына?
Последней и страшной тайной обручается Он с учениками и с миром. Соединяется последней, роковой связью. Ее уже нельзя разрушить, не уничтожив себя.
Иуда один знал это…
Обручится ли он с Учителем этим обручением крови? Возьмет ли от Учителя последний дар, дар Его сердца? Примет ли в себя Его убеленное тело, он, восставший на это Тело во имя другой темной плоти и готовящий Ему страшное поругание?
Взял, принял…
И сейчас же точно темное холодное облако сошло к нему в душу и точно какая-то новая посторонняя сила овладела им.
Бессмысленными и странными глазами смотрел он кругом. Но, несмотря на эту бессмысленность, он заметил нависшую угрозу. Иоанн делал Петру какие-то знаки, и тот, возбужденный и красный, протягивал руки к одному из лежащих на столе ножей… Еще мгновение… Кто знает, что было бы через мгновение.
Но Учитель, обращаясь прямо к нему, к Иуде, громко сказал: «Что делаешь, делай скорей». И, почти шатаясь, Иуда встал и вышел…
Была ночь, когда он вышел.
Иуда, во главе вооруженной стражи и первосвященников, шел по Гефсиманскому саду за Учителем.
Вступили во глубину сада. Вышли на открытую поляну и заметили несколько человеческих фигур.
Впереди был ОН.
Он был такой же, как всегда, только казался бледнее в страшном ночном свете, да на лбу алели несколько маленьких капелек крови – должно быть, поранил Себя терновником.
Еще никогда так не ненавидел Его Иуда: за позор этой ночи, за ужас своего преступления, за свою гибель ненавидел он Учителя.
Ему казалось, что не он предает Учителя, а Учитель его обрекает на неслыханно мучительную казнь.
И он подошел и поцеловал прекрасные, сжатые, никогда не улыбающиеся уста.
«Радуйся, Равви!»
И отвечал тихо Учитель: «Друг, зачем ты пришел?»
И в голосе, и во взоре была знакомая бездонная грусть.
Его окружили, повели…
Иуда отстал и остался один в густой аллее…
И вдруг сразу, в одно мгновение, вспомнилось ему все: прошла пред ним вся его жизнь с Учителем, от первой встречи на широкой песчаной дороге и до этих маленьких алых капелек у Него на лбу…
И в этот миг он понял тайну грусти Учителя.
Это была тайна любви Учителя к нему, Иуде…
Еще тогда, с первой встречи, принял его Учитель в Свое сердце. Он говорил, что нет больше той любви, как если кто положит душу свою за своих друзей.
И Он в каждый миг отдавал душу Свою за Иуду.
Каждый миг предавал Его Иуда своим взором, но Он не отводил Своих глаз. Он знал, что готовит Ему Иуда.
Он мог бы уничтожить Иуду одним Своим словом или просто отойти от него. Но Он предпочитал быть преданным Своему другу, чем от него отречься: несколько часов тому назад, на вечере, Он спас ему жизнь.
И теперь, прощаясь навеки, Он назвал его другом:
«Друг, зачем ты пришел?»
И Он шел умирать за него, верный до конца Своей дружбе…
Медленно двигался Иуда…
Шум удаляющихся шагов стихал… Мелькали в кустах последние колеблющиеся отсветы фонарей.
Иуда был один в надвигающемся отовсюду мраке.
С ним больше не было Друга…
Иуда не захотел смотреть, как Его судят и мучают…
Только проходя по двору дома первосвященника, куда его вызывали, он увидел в углу двора Его одинокую, беззащитную фигуру. Он стоял вполоборота, почти спиной, и был окружен толпой бородатых евреев и римских солдат.
Так странно было видеть Его здесь.
Не было ни цветов, ни прозрачной воды голубого озера, ни маленьких, ласкающихся к Нему деток, ни благоговейно склоненных женщин, не смеющих прикоснуться к краю Его одежды, ни больных, ждущих исцеления.
Спина Его была обнажена, и длинная белая одежда, забрызганная кровью, тянулась за Ним по жидкой грязи. Его били.
Худой рыжебородый еврей, весь в черном, открывал большой беззубый рот, набирал слюну и плевал Ему в лицо, поднимая костлявую руку и ударяя с размаху по щеке. Потом что-то бормотал, кажется молился, – и потом опять плевал и бил, нудно и однообразно.
Сзади было двое. Один – молодой еврей, почти юноша, с толстыми губами, делал свое дело с наслаждением: поднимая палку, наносил удары и даже стонал от удовольствия. Другой – римлянин, большой и сильный, бил спокойно и серьезно. Казалось, он не знал, кого и за что он бьет. Для него это был только преступник, которого нужно бить.
Кто-то смеялся грубо и весело.
Несколько солдат рядом о чем-то спорили, кажется, о чем-то совсем постороннем.
Иуда отвернулся и пошел к выходу.
Вслед за ним летели звуки ударов, и так странно было, что все, казавшееся таким сложным, трудным и громадным, так просто и грубо разрешается этими звуками.
Выходя, услышал громкий голос Петра и испугался. Петр, должно быть, как там, в Кесарии, говорит, что Он – Сын Божий, и спорит. Если он еще не схвачен и увидит Иуду, то размозжит ему голову. Но, вслушавшись, удивился и успокоился.
Петр, волнуясь и запинаясь, божился и клялся, что не знает Сего Человека.
И Иуда подумал, что он не один.
Потом был в толпе пред дворцом прокуратора. Стоял с самого края, прячась у крыльца дома.
Там, впереди, были самые яростные, настаивающие, по наущению священников, на Его смерти. Здесь, сзади, больше было любопытных.
Ходили разные слухи. Кто-то рассказывал, что утром у священников было волнение. Говорили, что идет громадная толпа исцеленных Им калек, прокаженных и бесноватых, во главе с воскресшим Лазарем, требовать Его освобождения.
Но никто не пришел – и успокоились. Ждали чуда.
Рядом с крыльцом, где стоял Иуда, были две женщины: одна – еще не старая, другая – почти ребенок, всхлипывала и плакала навзрыд. Старшая ее утешала, говорила, что чудо, наверное, будет, хотя, кажется, сама в это верила плохо.
Другие ждали больше из любопытства, спорили.
Одни говорили, что Он Сам совершит чудо; другие – что Небо откроется, как было однажды на Иордане и недавно здесь, в Иерусалиме, и заговорит Его Отец.
Но чуда не было.
Отец молчал.
И когда Его вывели к народу – толпа увидела Его изменившееся лицо и окровавленное тело, и стало ясно, что ждать нечего. И все, что знали о Нем раньше, показалось сказкой, несбыточной и невозможной.
Тогда стали требовать Его смерти упорно и неотступно.
Когда вечером того же дня Иуда подходил к опустевшей Голгофе, первое, что он увидел, был крест одного из разбойников: тяжелое мертвое тело повисло, как будто сидя на деревянной перекладине. В оскаленных зубах, казалось, еще дрожала хула…
Потом увидел Учителя…
Сначала почти не узнал.
Как хорошо он знает это тело, казавшееся почти прозрачным в длинных складках одежды.
Теперь оно все распухло и было неестественно громадным. Оно сплошь было покрыто ссадинами и ранами. Рубцы от бичей переплетались с длинными полосами от палочных ударов. И всюду были маленькие и большие язвы от колючек на концах бичей.
Пальцы вытянутых рук торчали, как сучья на дереве, судорожно сжимая гвозди.
Голова, уже бессильная подняться к небу, опустилась на израненную грудь в недоумении и безответном вопросе.
Ужасно было смотреть на это тело…
И все-таки Он казался Иуде единственным, удивительным и несравненным.
Не было и не будет Такого.
Иуда видел теперь, что победил Он – распятый – в их неравной и страшной борьбе.
Еще до Крестных страданий Он пленил мир Собою. Уходя, Он оставил его пустым и беззвучным. Распинаясь, Он вознес его с Собою на Крест. Вся красота обесценена и повержена в прах страшным сравнением с Его непобедимым совершенством.
Вся радость отравлена жгучим ужасом Его неимоверных страданий. Его Кровь будет теперь разлита даже в солнечных лучах, и запах Ее будет теперь во всех ароматах.
Если бы Иуда не совершил этого дела, кто знает, может быть, никто бы и не дерзнул поднять на Него свою руку. И тогда его страшная мечта рассеялась бы, уступая послушной и терпеливой любви мира. И не там, за гранью гроба, но здесь, на земле, воссияла бы Божественная улыбка воскресения…
Но он, Иуда, он сам воплотил это безумие.
В этом безумии – то неслыханное чудо, которого требовали и ждали от Него люди.
Этот Крест – обетованное Им знамение Сына Человеческого.
Теперь Иуда знает, наверное знает, Кто Он.
«Воистину, Этот Человек был Сын Божий».
И от безумия этого чуда обезумеет мир, изнеможет, как и он, Иуда, в неравной борьбе.
Одни отдадут Ему всю полноту своего сердца. Это те, кто пойдет за Ним всюду, куда бы Он ни пошел.
Блаженны они, потому в Его крови они убелят свои одежды.
Но это будут только избранники.
А другие – бесчисленные множества, легионы маленьких иуд, отравленные не до конца, не умеющие жить и боящиеся умереть?
Как и он, будут бояться они; в невыразимой муке верить и сомневаться; восходить и падать; благословлять и проклинать; любить и ненавидеть; преклоняться, отрекаясь, и предавать на горе предающему Сына Человеческого.
Лучше бы было не родиться такому человеку.
Лучше было бы не родиться Иуде.
Женщины, стоявшие у Креста, обернулись, услыхав страшный, нечеловеческий вопль.
Они увидели человека, бежавшего прочь от Креста с раздирающими душу воплями.
Это был Иуда. Он бежал и, спотыкаясь, падал, и вновь бежал. Поднятыми к лицу руками он тянул свою бороду, и оттого щеки раздувались, глаза выступали из орбит, и лицо казалось смешным и страшным.
Он бежал к храму бросить свои сребреники на холодные плиты.
Вечером, в субботу, один из учеников увидел его тело во глубине обрыва. Оно сорвалось с дерева и разбилось о камни.
Оно было отвратительно: из рассекшегося живота текли внутренности.
Казалось, его уже тронули собаки.
Лицо было расплющено. Но его узнали по клочкам рыжеватых волос и остаткам того особенного выражения, которое наблюдали у него последние месяцы.
А на утро следующего дня Мария Магдалина возвестила им, плачущим и рыдающим, что у отваленного камня Гроба Воскресший Учитель благовествовал ей всемирную радость Воскресения.
Леонид Андреев
Иуда Искариот и другие[86]86
Андреев Л. Полное собрание сочинений. СПб., 1913. Т. 3.
[Закрыть]
I
Иисуса Христа много раз предупреждали, что Иуда из Кариота – человек очень дурной славы и его нужно остерегаться. Одни из учеников, бывавшие в Иудее, хорошо знали его сами, другие много слыхали о нем от людей, и не было никого, кто мог бы сказать о нем доброе слово. И если порицали его добрые, говоря, что Иуда корыстолюбив, коварен, наклонен к притворству и лжи, то и дурные, которых расспрашивали об Иуде, поносили его самыми жестокими словами. «Он ссорит нас постоянно, – говорили они, отплевываясь, – он думает что-то свое и в дом влезает тихо, как скорпион, а выходит из него с шумом. У воров есть друзья, и у грабителей есть товарищи, и у лжецов есть жены, которым говорят они правду, а Иуда смеется над ворами, как и над честными, хотя сам крадет искусно, и видом своим безобразнее всех жителей в Иудее. Нет, не наш он, этот рыжий Иуда из Кариота», – говорили дурные, удивляя этим людей добрых, для которых не было большой разницы между ним и всеми остальными порочными людьми Иудеи.
Рассказывали далее, что свою жену Иуда бросил давно, и живет она несчастная и голодная, безуспешно стараясь из тех трех камней, что составляют поместье Иуды, выжать хлеб себе на пропитание. Сам же он много лет шатается бессмысленно в народе и доходил даже до одного моря и до другого моря, которое еще дальше; и всюду он лжет, кривляется, зорко высматривает что-то своим воровским глазом; и вдруг уходит внезапно, оставляя по себе неприятности и ссору, – и любопытный, лукавый и злой, как одноглазый бес. Детей у него не было, и это еще раз говорило, что Иуда – дурной человек и не хочет Бог потомства от Иуды.
Никто из учеников не заметил, когда впервые оказался около Христа этот рыжий и безобразный иудей; но уж давно неотступно шел он по ихнему пути, вмешивался в разговоры, оказывал маленькие услуги, кланялся, улыбался и заискивал. И то совсем привычен он становился, обманывая утомленное зрение, то вдруг бросался в глаза и в уши, раздражая их, как нечто невиданно-безобразное, лживое и омерзительное. Тогда суровыми словами отгоняли его, и на короткое время он пропадал где-то у дороги, – а потом снова незаметно появлялся, услужливый, льстивый и хитрый, как одноглазый бес. И не было сомнения для некоторых из учеников, что в желании его приблизиться к Иисусу скрывалось какое-то тайное намерение, был злой и коварный расчет.
Но не послушал их советов Иисус; не коснулся Его слуха их пророческий голос. С тем духом светлого противоречия, который неудержимо влек Его к отверженным и нелюбимым, Он решительно принял Иуду и включил его в круг избранных. Ученики волновались и сдержанно роптали, а Он тихо сидел, лицом к заходящему солнцу, и слушал задумчиво, может быть, их, а может быть, и что-нибудь другое. Уж десять дней не было ветра, и все тот же оставался, не двигаясь и не меняясь, прозрачный воздух, внимательный и чуткий. И казалось, будто бы сохранил он в своей прозрачной глубине все то, что кричалось и пелось в эти дни людьми, животными и птицами, – и слезы, плач и веселую песню, молитву и проклятия; и от этих стеклянных, застывших голосов был он такой тяжелый, тревожный, густо насыщенный незримой жизнью. И еще раз заходило солнце. Тяжело пламенеющим шаром скатывалось оно книзу, зажигая небо; и все на земле, что было обращено к нему: смуглое лицо Иисуса, стены домов и листья деревьев, – все покорно отражало тот далекий и страшно задумчивый свет. Белая стена уже не была белою теперь, и не остался белым красный город на красной горе.
И вот пришел Иуда.
Пришел он, низко кланяясь, выгибая спину, осторожно и пугливо вытягивая вперед свою безобразную бугроватую голову, – как раз такой, каким представляли его знающие. Он был худощав, хорошего роста, почти такого же, как Иисус, который слегка сутулился от привычки думать при ходьбе и от этого казался ниже; и достаточно крепок силою был он, по-видимому, но зачем-то притворялся хилым и болезненным и голос имел переменчивый: то мужественный и сильный, то крикливый, как у старой женщины, ругающей мужа, досадно-жалкий и неприятный для слуха; и часто слова Иуды хотелось вытащить из своих ушей, как гнилые, шероховатые занозы. Короткие рыжие волосы не скрывали странной и необыкновенной формы его черепа: точно разрубленный с затылка двойным ударом меча и вновь составленный, он явственно делился на четыре части и внушал недоверие, даже тревогу: за таким черепом не может быть тишины и согласия, за таким черепом всегда слышится шум кровавых и беспощадных битв. Двоилось так же и лицо Иуды: одна сторона его, с черным, остро высматривающим глазом, была живая, подвижная, охотно собиравшаяся в многочисленные кривые морщинки. На другой же не было морщин, и была она мертвенно-гладкая, плоская и застывшая; и хотя по величине она равнялась первой, но казалась огромною от широко открытого слепого глаза. Покрытый белесой мутью, не смыкающийся ни ночью, ни днем, он одинаково встречал и свет и тьму; но оттого ли, что рядом с ним был живой и хитрый товарищ, не верилось в его полную слепоту. Когда в припадке робости или волнения Иуда закрывал свой живой глаз и качал головой, этот качался вместе с движениями головы и молчаливо смотрел. Даже люди, совсем лишенные проницательности, ясно понимали, глядя на Искариота, что такой человек не может принести добра, а Иисус приблизил его и даже рядом с Собою – рядом с Собою посадил Иуду.
Брезгливо отодвинулся Иоанн, любимый ученик, и все остальные, любя учителя Своего, неодобрительно потупились. А Иуда сел – и, двигая головой направо и налево, тоненьким голоском стал жаловаться на болезни, на то, что у него болит грудь по ночам, что, всходя на горы, он задыхается, а стоя у края пропасти, испытывает головокружение и едва удерживается от глупого желания броситься вниз. И многое другое безбожно выдумывал он, как будто не понимая, что болезни приходят к человеку не случайно, а родятся от несоответствия поступков его с заветами Предвечного. Потирал грудь широкою ладонью и даже кашлял притворно этот Иуда из Кариота при общем молчании и потупленных взорах.
Иоанн, не глядя на учителя, тихо спросил Петра Симонова, своего друга:
– Тебе не наскучила эта ложь? Я не могу дольше выносить ее и уйду отсюда.
Петр взглянул на Иисуса, встретил Его взор и быстро встал.
– Подожди! – сказал он другу.
Еще раз взглянул на Иисуса, быстро, как камень, оторванный от горы, двинулся к Иуде Искариоту и громко сказал ему с широкой и ясной приветливостью:
– Вот и ты с нами, Иуда.
Ласково похлопал его по согнутой спине и, не глядя на Учителя, но чувствуя на себе взор Его, решительно добавил своим громким голосом, вытеснявшим всякие возражения, как вода вытесняет воздух:
– Это ничего, что у тебя такое скверное лицо: в наши сети попадаются еще и не такие уродины, а при еде-то они и есть самые вкусные. И не нам, рыбарям Господа нашего, выбрасывать улов только потому, что рыба колюча и одноглаза. Я видел однажды в Тире осьминога, пойманного тамошними рыбаками, и так испугался, что хотел бежать. А они посмеялись надо мною, рыбаком из Тивериады, и дали мне поесть его, и я попросил еще, потому что было очень вкусно. Помнишь, Учитель, я рассказывал Тебе об этом, и Ты тоже смеялся. А ты, Иуда, похож на осьминога – только одною половиною.
И громко захохотал, довольный своей шуткой. Когда Петр что-нибудь говорил, слова его звучали так твердо, как будто он прибивал их гвоздями. Когда Петр двигался или что-нибудь делал, он производил далеко слышный шум и вызывал ответ у самых глухих вещей: каменный пол гудел под его ногами, двери дрожали и хлопали, и самый воздух пугливо вздрагивал и шумел. В ущельях гор его голос будил сердитое эхо, а по утрам на озере, когда ловили рыбу, он кругло перекатывался по сонной и блестящей воде и заставлял улыбаться первые, робкие солнечные лучи. И, вероятно, они любили за это Петра: на всех других лицах еще лежала ночная тень, а его крупная голова, и широкая обнаженная грудь, и свободно закинутые руки уже горели в зареве восхода.
Слова Петра, видимо одобренные учителем, рассеяли тягостное состояние собравшихся. Но некоторых, также бывавших у моря и видевших осьминога, смутил его чудовищный образ, приуроченный Петром столь легкомысленно к новому ученику. Им вспомнились: огромные глаза, десятки жадных щупальцев, притворное спокойствие – и раз! – обнял, облил, раздавил и высосал, ни разу не моргнувши огромными глазами. Что это? Но Иисус молчит, Иисус улыбается и исподлобья с дружеской насмешкой смотрит на Петра, продолжающего горячо рассказывать об осьминоге, – и один за другим подходили к Иуде смущенные ученики, заговаривали ласково, но отходили быстро и неловко.
И только Иоанн Зеведеев упорно молчал, да Фома, видимо, не решался ничего сказать, обдумывая происшедшее. Он внимательно рассматривал Христа и Иуду, сидевших рядом, и эта странная близость божественной красоты и чудовищного безобразия, человека с кротким взором и осьминога с огромными, неподвижными, тускло-жадными глазами угнетала его ум, как неразрешимая загадка. Он напряженно морщил прямой, гладкий лоб, щурил глаза, думая, что так будет видеть лучше, но добивался только того, что у Иуды как будто и вправду появлялись восемь беспокойно шевелящихся ног. Но это было неверно. Фома понимал это и снова упорно смотрел.
А Иуда понемногу осмеливался: расправил руки, согнутые в локтях, ослабил мышцы, державшие его челюсти в напряжении, и осторожно начал выставлять на свет свою бугроватую голову. Она и раньше была у всех на виду, но Иуде казалось, что она глубоко и непроницаемо скрыта от глаз какой-то невидимой, но густою и хитрою пеленою. И вот теперь, точно вылезая из ямы, он чувствовал на свету свой странный череп, потом глаза – остановился – решительно открыл все свое лицо. Ничего не произошло. Петр ушел куда-то; Иисус сидел задумчиво, опершись головою на руку, и тихо покачивал загорелой ногою; ученики разговаривали между собой, и только Фома внимательно и серьезно рассматривал его как добросовестный портной, снимающий мерку. Иуда улыбнулся – Фома не ответил на улыбку, но, видимо, принял ее в расчет, как и все остальное, и продолжал разговаривать. Но что-то неприятное тревожило левую сторону Иудина лица, – оглянулся: на него из темного угла холодными и красивыми очами смотрит Иоанн, красивый, чистый, не имеющий ни одного пятна на снежно-белой совести. И, идя, как все ходят, но чувствуя так, будто он волочится по земле, подобно наказанной собаке, Иуда приблизился к нему и сказал:
– Почему ты молчишь, Иоанн? Твои слова как золотые яблоки в прозрачных сосудах, подари одно из них Иуде, который так беден.
Иоанн пристально смотрел в неподвижный, широко открытый глаз и молчал. И видел, как отполз Иуда, помедлил нерешительно и скрылся в темной глубине открытой двери.
Так как встала полная луна, то многие пошли гулять. Иисус также пошел гулять, и с невысокой кровли, где устроил свое ложе Иуда, он видел уходивших. В лунном свете каждая белая фигура казалась легкою и неторопливою и не шла, а точно скользила впереди своей черной тени; и вдруг человек пропадал в чем-то черном, и тогда слышался его голос. Когда же люди вновь появлялись под луной, они казались молчащими – как белые стены, как черные тени, как вся прозрачно-мглистая ночь. Уже почти все спали, когда Иуда услыхал тихий голос возвратившегося Христа. И все стихло в доме и вокруг него. Пропел петух; обиженно и громко, как днем, закричал где-то проснувшийся осел и неохотно, с перерывами умолк. А Иуда все не спал и слушал, притаившись. Луна освещала половину его лица и, как в замерзшем озере, отразилась странно в огромном открытом глазу.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.