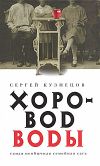Текст книги "Хоровод"

Автор книги: Антон Уткин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Как бы то ни было, к закату, промокший до нитки, заросший нехорошей щетиной, грязный и шатающийся от усталости, я, напрягая остаток сил и принуждая к тому же свою бедную лошадь, добрался до замка, а когда назвал свое имя, то был встречен как нельзя лучше. Долго мне не верилось, что я наконец-то в безопасности, сижу в доме у друзей, долго еще мерещились мне казачьи разъезды с чубатыми сотниками во главе – я становился уже не тот, молодость ушла без следа, я попросту старел и делал это уже давно, хотя заметил страшную свою усталость только после того похода.
Старик повздыхал немного, и все мы, вероятно, подумали, как не шли эти сетования к его осанистой фигуре и живым глазам.
– У графа была дочь, – продолжил он, – недурна собой, умница, что называется, – прищелкнул он языком на азиатский манер. – Но что это я – в то время, когда я видел ее, это была уже взрослая женщина с какой-то невысказанной тоской в удивительных карих глазах, с совершенно обезоруживающей и неизменно грустной улыбкой, большей частью молчаливая и погруженная в самое себя. Впрочем, она преображалась, когда ласкала ребенка…
– Ребенка? – невольно вырвалось у меня, и Квисницкий повторил:
– Ну да, сына. Очаровательный мальчуган был настоящим бесенком – ни минуты не сидел на месте, при этом, однако, неплохо успевал у своего учителя, некоего Троссера, француза, много уже лет состоявшего при графе. Сам старый граф редко спускался к общему столу, просиживал дни и ночи в темном своем кабинете, куда не был вхож никто, исключая камердинера и местного священника, – а что он делал там, чем занимался – одному Богу известно. Разок удостоил он и меня своим вниманием, расспросил о семье, некоторых представителей которой он знавал весьма коротко, закашлялся, да и тут же ушел к себе. Я глядел ему вслед, вслед этому существу в халате, протертом кое-где до дыр, из-под которого выглядывала ночная сорочка, с нечесаными, жидкими, седыми волосами, мутными, белесыми, ничего не выражавшими глазами, с трудом передвигавшему ноги в совершенно раздавленных и растрепанных туфлях, столько переживших, очевидно, на своем веку, и думал: «Матерь Божья, что делает с человеком всесильное время!» Вид этого человека, когда-то легендарного, был столь жалок, что ничуть не искупался даже этой самой легендарностью. Казалось, что жизнь не то чтобы ушла из него, но просто застыла, как студень, ожидая той минуты, когда будет растоплена смертным лучом, чтобы тонкой неровной струйкой вытечь из опустевших глазниц. Несмотря на это, челядь боялась одного его шарканья в гулких коридорах пустынного дворца. Я знал, что некогда была у него жена – впрочем, супругой она ему не была, – он вывез ее из колоний образом очень романтическим и не очень приличным. Из-за нее вступил он в дрязги с церковью, переросшие позже в настоящую войну. Она ведь была мусульманкой, да таковой и оставалась до самой своей нечаянной гибели. Может быть, старость, как это часто случается, оживила воспоминания старика до боли, и именно это заставляло его бежать общения. Он тихо угасал, и мне показалось, избегал даже своей дочери. Я вообще ощутил, что вместе с ссохшейся фигуркой старого графа и прочими обитателями по огромному пустому дому бродила некая упругая напряженность, какая-то упрямая невысказанность. Всё всегда бывало очень тихо, неторопливо, словно в костеле, и в то же время многозначительными казались мне взгляды и некоторые замечания управляющего Троссера, жилистого сухого человечка, разменявшего уж шестой десяток, и графского духовника отца Анджея, с которым мы частенько сходились в крепе за бутылочкой старого порту, на английский лад.
Так вот, мертвенную тишину нашей меланхоличной обители нарушали только шумы, производимые проказами маленького Александра, для которых не существовало времени суток. Мальчик был резов, как косули, что в большом числе заполняли леса вокруг Мышинца и на которых охотились тогда казаки, обложившие всю окрестность.
Я никуда не выходил из дома при дневном свете и довольствовался прохладными и свежими ночами, которые проводил в заросшем парке, примыкавшем прямо к строениям. Дворне, да и вообще всем, кто так или иначе видел меня, было строго наказано забыть о моем существовании, а на случай появления неприятеля на чердаке, за потайной дверью, устроили для меня убежище, которое пришлось делить мне с голубями, – усмехнулся поляк, – а это соседство не из приятных. Прошло уже дней десять. В округе было неспокойно, однажды к нам заехал уланский офицер, спешивший поскорее сбросить мундир в своем поместье. Он поведал о том, что творится за стенами и этого дома, и за стенами лесов, окружавших его со всех сторон. Армии нашей более не существовало – она рассеялась, растаяла после падения Варшавы. Рыбинский сложил-таки оружие уже в прусских землях, жандармы повсюду искали эмиссаров, обшаривали каждый подозрительный им дом, многие поляки оставили тогда семьи и исчезли из страны. Один Краков еще держался, но и ему оставалось уже недолго. Пакет, что хранил я со всем тщанием, как будто потерял уже свое значение, но я не мог вскрыть его, не зная ничего толком, несмотря на обилие самых мрачных и противоречивых слухов, которые как-то проникали сквозь толщу замковых стен и наглухо занавешенные окна. Рука моя стала лучше, однако не настолько, чтобы я мог ею распоряжаться вполне. Мне оставалось лишь гадать о содержимом донесения, спрятанного у меня на груди, да заодно и о том, жив ли вообще славный Раморино, побочный сын Ланна, стоивший всех законных сыновей всех остальных маршалов. Речь ведь и пойдет о незаконных детях, господа, простите за отступление, – улыбнулся Квисницкий. – Как вы уже успели понять, дочь старик Радовский имел незаконнорожденную, ибо в церковном браке никогда не состоял. Конечно же, никто и не смел подать вид, что графиня вовсе не графиня; ее величали отцовским титулом, и сложно было представить, чтобы кто-либо отнесся к ней без должного почтения. Достоинства, с которым она держала себя, хватило бы и на трех графинь, и еще на ганноверскую курфюрстину впридачу. Она казалась замечательной женщиной – меня крайне занимало, каким образом удавалось ей сочетать свою постоянную, чуть-чуть, пожалуй, вялую грусть, отрешенность, и жизненную неукротимую силу, которые сосуществовали в совершенно равных долях. Но вот о чем подумал я, господа, не это ли дитя непонятного происхождения поселило такую томящую скуку в обители графа, не его ли безобидный смех заставлял вздрагивать, переглядываться и чувствовать себя неловко взрослых, слышавших его? Кто был ему отец, что с ним сталось, да и была ли вообще замужем хозяйка лесного приюта? Один раз я задал эти, или похожие, вопросы Троссеру, право, больше от скуки, чем из любопытства, – улыбнулся нам рассказчик, – и поверите ли, не получил никакого ответа. Он лишь взглянул на меня недоуменно и не проронил ни словечка. В самом деле, получилось так, что я под этим взглядом будто и сам ощутил нелепость и самую невозможность такого вопроса. Все-таки, дня через два, секрет перестал быть для меня секретом, и вот послушайте, как неожиданно для меня это произошло.
Как я уже сказал, обитатели графского дома не выказывали расположения к внуку его хозяина. Иногда мне бросалось в глаза, как брезгливо улыбался священник, будто желая сказать: «Вот видите, господа, в моем приходе поселился чертенок», и как досадливо морщился сам старик, когда рядом раздавался по-детски бесцеремонный топот Александра. Ему шел тринадцатый год. Я не мог не заметить, что ребенок, хотя и не скучает, но больше проводит время с самим собою или в обществе своего воспитателя. Троссер, казалось, был по-своему привязан к своему подопечному, но никак не проявлял этого чувства, более того, производил он впечатление человека, который знает кое-что, но не только не подает виду, а как будто даже молчаливо отстраняется от своего знания в сторонку. Не знаю, что его связывало со стариком и каким образом француз очутился в этом дремучем польском уголке, только думаю, что за многие годы службы он взял себе за правило никак не выходить за ее пределы. Еще представлялось мне удивительным, что, несмотря на некоторое недоброжелательство, которое порою проступало к юному созданию, никто не препятствовал ни его незатейливым желаниям, ни его шумным затеям, так что вел он себя вполне по-хозяйски и его принимали за члена этой странной семьи. Мне сразу полюбился этот мальчик, и мало-помалу он почувствовал мою к нему приязнь. Иногда он приходил ко мне в комнату и расспрашивал о войне, которая – я и сам не знал тогда – кончилась или нет, и скучными дождливыми днями я повествовал ему о всех своих приключениях, неизменно начиная с описания Наполеона, которого видел не один раз и с которым один раз даже разговаривал. Мальчик внимал моим сказкам, затаив дыхание, а в вопросах, какие он делал мне, проглядывала мятежная душа и поражавшая меня сообразительность. Наша дружба не укрылась от внимательных глаз его матери. Порами она подолгу слушала наши беседы и улыбалась украдкой, сидя в углу с пяльцами и с отрезом шелка. Однажды вечером, когда мой неутомимый юный слушатель отправился наконец спать, надо сказать, весьма неохотно, его мать просила меня не ложиться несколько времени и вышла уложить сына. В некотором недоумении я остался сидеть в креслах, гадая, что намеревается она мне сообщить. Примерно через полчасика раздался тихий стук в дверь, и графиня, выглянув в коридор, затворила ее за собой.
«– Прошу вас, выслушайте меня, – взволнованным голосом начала она, – не правда ли, я могу на вас положиться?
– Отчего же нет, графиня? – отвечал я, сбитый с толку таким серьезным вступлением.
– Тогда слушайте внимательно, и вы поймете, что я хочу сказать вам теми словами, которые могут показаться вам лишними, – произнесла она, усаживаясь напротив».
Такой бледной, растерянной и вместе с тем решительной мне еще не доводилось ее видеть.
«Поймите меня правильно, – пояснила она, – мне не к кому кроме вас обратиться, не к кому отнестись со своими мыслями и тревогами, вы – единственный здесь, кому могла бы я довериться, вы друг нашего семейства, вы один ласково смотрите на моего сына – поверьте, для матери это очень много. Выслушайте же меня и подайте мне совет и помощь – в ваши лета, с вашим опытом это будет несложно исполнить. Я начну издалека, но это ничуть не помешает вам понять меня».
После этих слов она ненадолго замолчала, отвернув лицо в сторону, а когда оно опять оказалось передо мной, ни тени растерянности уже не было на нем заметно. Голос ее, несколько раз до этого срывавшийся и переходивший в спазматический визг, снова обрел свою чарующую глубину. Она испытующе взглянула на меня, еще раз проверяя, не ошиблась ли в выборе – правду сказать, и выбирать-то было не из кого, – и вот что я услышал.
«Вы немного знакомы с нашим семейством, поэтому знаете, что я лишилась матери в раннем детстве. Несмотря на свой малый возраст, я хорошо запомнила ее и буду помнить всегда. Отец сумел заменить мне ее, а это, согласитесь, случается нечасто. Но я была мала и не знаю, что стоило ему вынести такую утрату, я могу только догадываться, какими немыми муками была полна его душа во все эти невыносимо долгие годы одиночества. Он улыбался мне, и я не знала, сколько радости, горечи и благодарности судьбе за то, что хоть половину счастья оставила она ему, смешивалось в этой улыбке. Он боялся отойти от меня, отлучиться даже ненадолго, всюду водил меня с собою и никому не доверял ни моего воспитания, ни присмотра за мной. Я взрослела и постепенно начала с благодарностью понимать, каким неистовым чувством любил он мою мать и до какой степени боготворит меня. Я досталась ему осколком прошлой жизни, прекратившейся внезапно, наравне с воспоминаниями, которые тонкой нитью связывали его растерзанную душу с прошедшим. Вам памятна юность, когда даются обещания на всю жизнь и даже более того, обещания, которые даешь сам себе в своей детской, обещания, омытые слезами благодарности и жалости, – те самые, нарушить которые значит умереть для себя. Такие чувства теснились во мне, и я решила посвятить свою жизнь отцу, как он положил свою к моим ногам. Мы изъездили Европу, не сидели на месте дольше месяца, и мне казалось, что раны его обещают не исчезнуть – нет, – лишь затянуться тонкой непрочной коркой, способной открыть кровотечение в любой момент. И, не знаю как, но это случилось. Мы вернулись сюда, в это мрачное гнездо, где не один наш предок, удалившись с глаз людских, безжалостно и тоскливо коротал свою жизнь, которой оставалось почти всегда раза в два больше, чем было прожито. Отец на глазах терял к жизни всякий интерес, всё чаще уединялся в своем кабинете, пережившем уже несколько затворников, и всё дольше оставался в нем. Мне и тогда было больно это видеть, но оно ничто в сравнении с тем, что происходит с ним теперь и что, без сомнения, подогревается старостью. Польские несчастья еще усугубили его печали. Печали, – графиня презрительно улыбнулась, – смешное слово! Как мало у нас слов, с помощью которых были бы мы в состоянии обозначить все оттенки ощущений, а главное, величие чувств, не так ли? Я взрослела всё более и всё сильнее начинала тяготиться жизнью в этой глуши. Мы были словно отрезаны от мира, не имели с ним почти никакого сообщения, не считая разве того, что раз в год осенью обоз с оброком из дальних деревень медленно вползал во двор. Обнаружив первые признаки своих недостойных чувств, я испугалась и, замечая, что с каждым днем, утра которых отец проводил в фехтовальной зале, сражаясь с Троссером до изнеможения, они приобретают всё более определенное значение, обратилась к Богу, умоляя укрепить меня. Я повторяла детские свои клятвы и – о ужас – пустыми, ничего не выражающими словами звучали они, срываясь с губ, жаждавших жизни. Меня томило затворничество, я читала много всего, но это только подхлестывало мою развивающуюся натуру, мне страстно хотелось впитать в себя весь мир со всеми его сказочными предложениями, со всем его неведомым, однако уже таким знакомым и близким. Наконец, эти мысли превратились в смысл моего существования, и не было вокруг никого, с кем могла бы я поделиться, к кому могла бы прибегнуть за утешением, кто способен был бы наставить меня на путь истинный и утолить мою жажду жизни. Между тем, иногда отец как будто приходил в себя, и я с замирающим сердцем узнавала его прежнего. Один раз мы даже отправились в Варшаву, но все эти проталины неизменно накрывались новыми и новыми шапками снега. Его становилось всё больше и больше, он слеживался, и вот уже оказалось невозможным ни растопить его, ни расчистить. Я начинала понимать, что приговорена повести жизнь этих дремучих лесов в старом доме, но отца я бросить всё равно не могла ни за какие посулы – так, во всяком случае, я рассуждала и свято в это верила.
* * *
Отец всегда имел натянутые отношения с церковью, прежде всего, конечно же, из-за того, что так и не убедил мою мать перекреститься и повенчаться. Дело дошло до того, что домовой костел пустовал несколько лет сряду, а крестьянам отец приказал не платить десятину, но разве же это было возможно, – слабо улыбнулась графиня. – Сам отец все же верил, несмотря на ту дань, что отдал времени, – в молодые годы Вольтер не сходил у него со стола. И вот, неожиданно для всех в доме появился молодой ксендз и без всякого противодействия получил сперва наш приход, а затем сделался едва ли не единственным собеседником отца. С тех пор всё пошло как нельзя более гладко – даже епископ стал навещать нас иногда. Чем же приворожил новый священник отца, как сумел расположить в свою пользу? Я долго ломала голову над этим, пока однажды не стала случайной свидетельницей того, за чем проводит он ночи в компании отца. Вам не надо говорить, что в несчастье порою самые сильные люди превращаются вдруг в детей. Человек, который не дрогнет перед опасностью земной, понятной, смело стоящий под градом пуль, теряется, когда столкнется с тем, чего уже нельзя ни вернуть, ни исправить. За какие только сказки не цепляемся мы тогда, в какие чудеса не готовы уверовать – любой софист, пусть даже самый изощренный, позавидовал бы тому, как ловко и поистине с дьявольской изобретательностью пытаемся мы обмануть и успокоить себя и оживить надежду, из которой давно уж ушла эта жизнь. Всё оказалось крайне просто: молодой священник пообещал отцу, что душа моей матери станет являться ему и разговаривать с ним. Отец, снедаемый болью, много лет втайне ждал чего-то подобного, и когда вдруг представилась возможность утолить боль, он уверовал в нее самозабвенно, безумно, как дитя, ожидающее новогоднего праздника, и если и не было в эту ночь подарка под елкой, то это не потому, что это невозможно, а потому, что добрый Дед попросту забыл оставить деревянную куклу в крохотных панталонах. Сначала, после первых неудачных опытов, отец даже немножко повеселел, в его потухших глазах вспыхнула искорка, живой блеск, да и сдержанность, некоторое обаяние и непоколебимая вера священника располагали к себе. Еще и победы Наполеона заставили отца воспрянуть, но по большому счету, после стольких неудач, он уже не верил в свободу Польши и только грустно улыбался, когда при нем выражали надежду на возрождение королевства с помощью французских штыков. Всё равно, это было по-своему светлое время, и отец с интересом следил за развитием европейских событий и даже взялся было за переписку с некоторыми патриотами, состоявшими при императоре.
На время и мои противоречия оставили меня, и я часто беседовала с паном Анджеем – да, да, с этой хищной птицей, с которой играете вы в преферанс, – резко молвила графиня, – и не могу забыть часов, проведенных в его обществе. Очень быстро он сделался как будто моим задушевным другом, он словно проницал, какие бури обитают в моей мятущейся душе, и осторожно направлял мои мысли. Он рассказывал мне о сыновнем долге, о христианском подвижничестве и о многом другом, чего так жадно я ждала, чтобы укрепиться и сделать выбор, который на самом деле уже давно сделала внутри себя. Я пожирала широко раскрытыми глазами этого человека, который так тонко сумел понять меня и моего бедного отца, я цеплялась за него, как за Библию, и благодарила небо за то, что оно вняло моим мольбам и ниспослало нам уверенность и спокойствие в его лице. Он был как будто комментарием к самой непонятной из христианских книг. Как могла я не верить каждому его слову – ведь он самим своим существованием, самим естеством своим придавал им свинцовую тяжесть и воздушную легкость – ту, что сродни святости. Ради чего, в самом деле, образованный молодой человек запирается внезапно в деревенской глуши и с неистощимым терпением принимается врачевать кровоточащие души? Отринув свет, презрев как будто карьеру и радости жизни, которые были разложены вокруг, как английские товары в варшавском магазине. Между тем шло время, и я со страхом начала обнаруживать, что между мной и отцом словно очутилось стекло – прозрачное, но холодное. Всё чаще я замечала устремленный на меня неподвижный взгляд, и в нем читала я как в открытой книге – раскаяние, жалость, прощение, но вместе с тем непонятную мне решимость. Знаете, так смотрят люди, которые тяготятся своими поступками, однако не в силах поступить по-другому. Что это означало, я понимаю лишь сейчас. Мои наблюдения совпали с событием, перевернувшим меня и в одно мгновение разрушившим то спокойствие, которое так неохотно, но, казалось, прочно вошло в мою душу.
* * *
В 1814 году, когда царские войска возвращались в Россию, поздно ночью к нам в дом постучался заблудившийся офицер. Непосредственность стоила ему того, что нога его была разорвана в клочья нашими волкодавами. О, это были свирепые твари – сейчас их уже нет, времена меняются. Не случись этого, отец бы и не подумал оставить русского на ночь, но офицер лежал без чувств, и повиновение христианскому долгу перебороло в отце неприязнь к России… Когда увидела я этого человека, когда разглядела его черты, вобравшие в себя, казалось, самые буйные жизненные соки, я смешалась. Это был пришелец из иного мира, из того чудного мира, где днем солнце неистово заливает своим светом шумящую землю, а ночью тысячи звезд сменяют его на дрожащем от нетерпения небосклоне, откуда быстрые ветры приносят волнующие запахи молодости и непрерывного движения. Какая разница открылась между прямым и немножко дерзким взглядом этого русского князя – и аскетическими до голода глазами Анджея. Дверь приоткрылась – я вдохнула этого опьяняющего воздуха и была уже не в силах оторваться от источника. К тому времени я знала, какие чувства могла бы вызывать в мужчинах, стоило мне только захотеть. Но тут я сама сделалась мягкой, как воск, и доверчивой, словно ребенок. Разглядев нашего позднего гостя, я принялась горячо убеждать отца не отказать ему в ночлеге и помощи и так увлеклась, что остановить меня смог только недоумевающий его взгляд. Я и сама себя не узнавала. Неужели же всего несколько минут способны поселить в человеке сколько-нибудь устойчивое чувство, я не говорю уже о страсти, а ведь именно страстью оказалась вдруг охвачена я. Это было предчувствие, какой-нибудь ноктюрн – тоска по тому, чего никогда не бывало… Его оставили до утра – я заперлась в своей комнате, да так и не сомкнула глаз. Чего ждала я? Я ждала чуда. Самые смелые и неизвестные доселе фантазии закружились в темном пространстве моей комнаты, неожиданные и вызывающие мечты вторили им, я вся была ожидание. Мне чудилось, как он приближается, берет меня за горячую руку, и всё-всё, что тревожило меня, сразу становится простым и ясным. Все вопросы оказались бы разрешены в одночасье самим его неведением, и точеное знание отца Анджея показалось мне смешным и затхлым, как бумажные цветы, выкрашенные луковичным отваром. Я просто не узнавала себя, взволнованную до дрожи и утерявшую над собой всякую власть. Так прошла ночь, и по мере того, как бледнело предрассветное небо, на меня нисходили тихая радость, успокоение и усталость. Несмотря на это, я не засыпала – я стояла у окна и молилась о том, чтобы продлилось это блаженство… Днем я взяла себя в руки, что оказалось очень просто, и пошла навестить раненого. Не знаю уже, на что я была способна тогда, на что могла решиться, не будь в комнате неотвязного Троссера. Оставалось говорить глазами, и мой взгляд блуждал – другого слова я не подберу – по человеку, лежавшему передо мной с перевязанной ногой. Я ни слова не помню из того, о чем мы говорили тогда – я опять стала как во сне и мне было безразлично, что подумает мой собеседник о взглядах, которыми я его терзала. Покинув его, я узнала, что за ним прибыли разыскивавшие его товарищи, и поняла, что скорый его отъезд неминуем. От этого известия ноги у меня подкосились – так быстро, молниеносно всё мое чудо исчезало на глазах, не успев еще как следует показать себя. Я была бессильна остановить жестокое время и, не в силах наблюдать, как веселая кавалькада тронется со двора, я бросилась в часовню, ту самую, – пояснила графиня, – которая расположена в левом крыле, и в каком-то исступлении приникла к алтарю. Всё рухнуло в одно мгновенье, и вот я уже ощутила, как раскаяние теплыми слезами дает о себе знать. Когда копыта застучали о плотный песок двора, я всё-таки обернулась и из полумрака своего убежища бросила последний взгляд в сторону дрожек, увозивших этого ничем не примечательного человека, возбудившего во мне такой ураган чувств. И, представьте, я заметила, что он неотрывно и внимательно глядит в мою сторону. У меня только и достало сил на несколько шагов, которые я сделала, цепляясь за стены, присела как-то боком и провела остаток дня в таком положении. Есть ли смысл описывать, что я переживала потом? У меня не хватит на это слов, да это вам и не надо знать – хватит того, что сказано. С удвоенной нежностью потянулась я к бедному отцу, которого была уже готова едва ль не бросить навсегда. Я снова принялась за чтение, скиталась вместе с Одиссеем вдоль изрезанного эгейского побережья, делила с Гесиодом труды и дни, но это только приглушало страдание, а не освобождало от него. Целый год во мне жила надежда, притаившись так тихо, что я не всегда могла бы признаться себе, чего же я жду… Недавно я получила из Парижа некоторые книги и у г-на Бальзака наткнулась на любопытную фразу. «Тем, кто чего-либо страстно желает, почти всегда благоволит случай», – кажется, так. Надо просто уметь его заметить, – таким бы образом я продолжила это удивительное замечание… В это невозможно поверить, но я дождалась. Он, человек этот, образ которого был навсегда запечатлен в моей памяти, – а это уже не случайно – человек, коего никогда не думала я увидеть, появился еще раз. Как после этого не уверовать в провидение, скажите? Он находился в рядах русской гвардии, стоявшей в Вильне, и вытащил из огня кого бы вы думали? – нашего Анджея. – Радовская тяжело вздохнула. – Тем самым он дал нашей истории продолжение, но, в то же самое время, оказав такую неоценимую услугу ксендзу, во многом отказал собственному сыну.
– Да, да, ведь Александр… – скороговоркой произнесла графиня, и краска выступила у ней на лице».
* * *
«– Но все по порядку, – продолжила она, тотчас справившись со своим смущением. – Моему офицеру было поручено начальством сопроводить чуть было не погибшего Анджея сюда. Вы спросите, что́ за дела могут быть у польского священника и русских военных? Откуда такое внимание к этой скромной фигуре? Негодяй шпионил в пользу России, а я думаю, что заодно и в пользу Франции. Мне стало это известно совершенно случайно, и вы меня поймете, если я не буду выдавать своего источника. В то время русские власти заигрывали с поляками, стремясь заручиться спокойствием в крае, которому вскоре предстояло стать ареной борьбы двух исполинов. Поэтому армейский эскорт для должностного лица был делом обычным и ни у кого не мог вызвать подозрений. – Графиня задумалась. – Так или иначе, а судьба, о которой бесполезно говорить – она ведь вызывает немое благоговение, вот как звездное небо на исходе лета, – судьба привела этого человека в наш дом снова. Земля уходила у меня из-под ног. “Это неправда, это сон”, – такая мысль овладела моим сознанием, и прежде чем я убедилась в реальности происходящего, прошел не один час. Его появление я восприняла как указующий жест неведомых мне сил, как еще одну возможность, а согласитесь, две такие возможности – не слишком ли щедрый подарок для одного человека?
– Для двоих, – уточнил я и с возрастающим интересом продолжил внимать своей рассказчице.
– Даже для двоих это слишком много, – заметила она после небольшого раздумья. – В роли спасителя мой герой был принят куда любезнее, чем в прошлый раз. Я узнала от Троссера, что гость останется на ночь, и я решилась непременно наедине встретиться с этим человеком. За ужином мы сидели совсем рядом, и я украдкой разглядывала его. За прошедший год он мало изменился, разве складки у рта выглядели чуть жестче и глубже. Обращаясь ко мне, он неподдельно смущался, и я нашла это неоценимым. Эта мысль радостно и гулко застучала у меня в висках. Он то и дело прятал глаза, когда ему казалось, что я смотрю на него чересчур многозначительно. Я оценила такую сдержанность и сразу после ужина проверила, заперли ли на ночь собак. С наступлением темноты я накинула плащ и вышла в сад. Долго бродила я в одиночестве по его заросшим дорожкам, но ожидание не томило меня ничуть, я знала, что он, если я не ошиблась в своих наблюдениях, просто не может не заметить меня – обратное было бы противно тому чудесному стечению обстоятельств, которые позволили нам встретиться вторично. Я не ошиблась – он не спал и разглядел в темноте мое светлое платье. И страшно и радостно сделалось мне от этого. Я внимала его почти незнакомому голосу и с удивлением, упоением угадывала в нем знакомые нотки. О, нам было неважно, о чем говорить, лишь бы говорить, говорить без конца. Страшная борьба завязалась во мне. Искушение было велико и, хотя я отдавала себе отчет, что имею дело с человеком благородным, начала догадываться, что он испытывает похожие чувства – вместе противиться им становилось невозможно. Еще немного, и я сама похитила бы его, – но рассвет подстерег нас и поставил всё на свои места, показав нам вещи такими, какими привыкли мы их наблюдать. Ночную таинственность сменила утренняя прохлада, столь чуждая всему необычному. Вместе с ней и я сделалась холодна. Очарование вмиг улетучилось, я будто протрезвела и дала понять, что наступил новый день. Мы ушли в дом, и я заснула со спокойной улыбкой – я знала, что ему назавтра ехать, но как будто знала и то, что просто так всё это уже не закончится, не должно закончиться, понимаете вы меня? Он действительно уехал, я в самом деле осталась, однако не безысходная тоска, а надежда вошла в меня и стала пристально наблюдать, что и как случится дальше. – Моя собеседница примолкла, встала со своего места и приблизилась к окну. Она приподняла край сторы и некоторое время вглядывалась в темное пасмурное небо, нависшее над домом, над Польшей…»
* * *
«– Ждать мне выпало полтора года, – заговорила она, оглянувшись на меня. – Видите ли, я очень скоро поняла, что известным образом не имею никаких прав, поняла, что я, плоть от плоти, кровь от крови своего отца, как бы и не являюсь его дочерью. Нелепые законы – для чего выдумали их? Когда была я ребенком, то мало заботилась о своем положении. Сказать правду, я нисколько не тяготилась им. Но тут я начала понимать и долгие задумчивые взгляды отца, которые он устремлял на меня, да и то, отчего вдруг наши крестьяне не косили более на Бежицком лугу, и почему им, как и многим другим, теперь распоряжались какие-то тощие монахи, и по какой причине хмурится рассудительный Троссер. Анджей делал свое дело: в благодарность за все несбывающуюся, но существующую еще надежду отец одаривал церковь, с которой вошел в любовь и согласие, и с течением времени эти пожалования становились всё более весомыми. Впрочем, я и тогда не много об этом размышляла.
– Отец был слабым человеком, – продолжила она, – и прекрасно понимал это. Понимал и то, что церковная паутина всё крепче обволакивает его, что он запутался в ней с головой, а разорвать не в силах. Всё-таки он сделал попытку хоть как-то обеспечить мое будущее, чтоб не пришлось мне в конце концов торговать на базаре своими детскими кружевными распашонками. Он решился подать прошение в Сенат и рассчитывал добиться узаконения меня во всех правах состояния и титула. С этой целью мы отправились в Петербург. Еще один раз отец превозмог себя в своей ненависти к России и пошел к ней на поклон. А чтобы поклон получился не очень низким, нас сопровождал этот ужасный человек. Я по-прежнему могла его слушать часами и ничуть не догадывалась об алчных планах его повелителей. Анджей пугал отца всякими небылицами относительно того, как ведут себя русские, чувствуя себя хозяевами. Затворничество наше продолжилось и в Петербурге, куда мы прибыли зимою 1817 года. По наущению неугомонного священника был снят на окраине уединенный дом, где и предстояло нам по мысли отца дожидаться решения властей. Наитие хранило меня – я ни словом не дала понять Анджею, с которым привыкла делиться самым сокровенным, что переживаю и на что надеюсь. Он мог лишь строить догадки, да ведь и этого хватало ему, чтобы добиться своих гнусных целей. О нашем приезде стало известно в столице – боже, каких только нелепых слухов не пересказывалось о нас в великосветских гостиных. Гвардейские бездельники вечно торчали вокруг дома, но отец был суров и никого не принимал. Как несложно вам угадать, единственным, кто переступил наш порог, был князь Иван Сергеевич. Отца впечатлила виленская история, и он остался благодарен спасителю своего духовного наставника. Он появлялся у нас по утрам, когда не был занят по службе, и отец в своей благодарности снизошел до того, что раза два переговорил с князем. С наступлением ночи мой друг проникал ко мне через черный ход, и мы отдавались друг другу целиком в холодной и синей, чернильной зимней темноте. Чувства, которые не засыпали во мне ни на минуту, разгорелись наконец с уже не подвластной мне силой, и она увлекла меня молниеносно. На что надеялись мы, чего ждали? Не знаю и сама, как не ведала и тогда. Неизвестность относительно нашего с отцом дела еще подхлестывала нас, боявшихся, что каждый день может стать последним. Моя горничная бережно хранила тайну наших свиданий от всех, а я стерегла от князя другую тайну – я ждала ребенка. Как я была счастлива и несчастлива разом! Жар страсти жег меня, для меня растворилось окно в жизнь, и я стояла уже около него, опершись о подоконник, – не хватало только одного шага, чтобы спрыгнуть с него и раствориться в огромном мире. Чего не обещал мне князь! И я убеждена, что каждое из этих обещаний было бы исполнено. Я стала забывать, какой тяжкий долг наложен на меня рождением, и наконец я уступила, стараясь просто не думать об отце, о том, что станется с ним, когда узнает всю правду. Но иного не существовало – отец так не любил русских, что не сделал бы исключения даже и для князя, попроси тот моей руки. Я начала понимать, что отец вообще опасается моего замужества – ведь тогда из его рук выскальзывала последняя нить, связующая его с прошлым, и тогда, боюсь, даже изощренное лицедейство Анджея потеряло бы для него всякий смысл. Анджей в свою очередь боялся того же, чтобы не выпустить из рук дел моего отца. Но даже и в то время я думала не об этом. Это были никуда не ведущие догадки, рассеянно проносившиеся в мозгу, не больше. Я с трепетом обнаружила в себе недовольство против отца, против священника, против всего мира, который словно не желал впустить меня под свои невесомые своды. Потом и дитя… Я не желала, чтобы сын мой, как я, оказался человеком без имени, без средств, и поэтому без права на жизнь. Я решилась и до определенного момента не оглядывалась уже назад. Я больше не принадлежала себе, но только по другой причине, чем не принадлежала себе до сих пор. Чтобы нас обвенчали, я пошла даже на то, что перекрестилась – вот докуда простерся мой эгоизм, как видите. Однако, – в голосе моей рассказчицы зазвучали стальные интонации, – за всё это мне еще предстоит держать ответ, не здесь, а там, и что сейчас ронять пустые слова. Я обманывала себя намеренно, убеждала себя, что всё это я совершаю исключительно ради ребенка, но это было правдой лишь наполовину, и хорошо, если не на треть. Одним словом, в одну из ночей, не сказав, кроме верной девушки, никому ни слова, я села в сани к своему возлюбленному, и через какой-нибудь час мы были уже мужем и женой, а еще через час должны были мчаться по заснеженным полям в самую глубь России. Но судьба снова вмешалась в наши жизни, и на этот раз не так ласково, как полтора года назад. Князь точно на свое несчастье спас интригана. Вы видите, какая ирония судьбы? Хотя нет, еще пока не видите. Слушайте же. Имея безусловно кое-какие связи в столичных салонах и в третьем отделении, Анджей во что бы то ни стало стремился помешать предприятию отца. Ему уже снилось, что отцовым имуществом распоряжается коллегия иезуитов, а я, сведенная до уровня приживалки, зарабатываю свой хлеб рукоделием в крохотной келье. Я могу только догадываться, что нашептывал он знакомым сенаторам и жандармам. Видимо, поминал прошлое отца и стращал мною, словно я была самим Лелевелем. Его целью было не дать оторваться мне от отца, и мое возможное замужество путало все его планы и уничтожало плоды многолетних самоотверженных трудов на ниве завладения чужим достоянием. Хитрец подозревал и меня и князя, но долго не мог уличить нас. Дело дошло до того, что негодяй пристал к моей девушке, доброй католичке, и под страхом отлучения вырвал нашу тайну в тот самый миг, когда входили мы в убогую церквушку на самой столичной окраине, где должны были соединиться и соединились несмотря ни на что. Полиция, поднятая на ноги оповещенным отцом, опоздала на минуту. Но кто знал об этом? Никто. Поп молчал как рыба, задаренный князем и запуганный его приятелем, двое других свидетелей тоже не проронили ни слова. Где они нынче – про то мне неведомо, и, очень может быть, теперь только вы, я и мой несчастный муж, который едет сейчас сюда, знаем об этом.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?