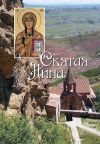Читать книгу "Слово на Голгофе. Проповеди и наставления для русских паломников в Иерусалиме. 1870–1892"
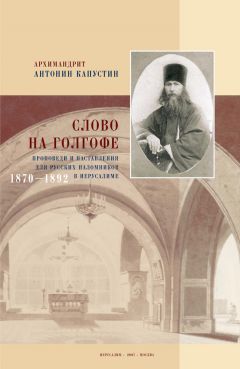
Автор книги: Антонин Капустин
Жанр: Религия: прочее, Религия
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Понятие о спасении в ветхозаветном иновозаветном мире. Произнесено в Великий Пяток на Святой Голгофе при обношении Плащаницы 30 марта 1890 г.[19]19
Душеполезное чтение. 1890. Ч. 1. С. 133–141.
[Закрыть]
Иныя спасе, себе ли не может спасти
(Мф. 27: 42).
Что проще, что спасительнее как бы подобного заключения? Дороже других всякий сам себе, особенно когда дело идет о жизни. По свидетельству Евангелия, так заключали о Христе Спасителе, обреченном на смерть, первосвященники иудейские, следовательно, наивысшая власть в народе, – книжники – его заправительная ученость, – старцы – его руководящая опытность, и фарисеи – его общепризнаваемая праведность, значит все, что могло судить здраво и непогрешимо. Что бы мы, сменившие Божею милостию иудеев у Креста Господня, могли ответить на подобное их заключение? Полагаем, нашли бы оное, во-первых, непоследовательным. Врач, спасающий недужного от смерти, уже ли по тому самому должен быть бессмертным? Одно ли и то же: спасать и спастися? Конечно, нет. Во-вторых, нашли бы его близоруким. Люди те судили о других по самим себе, предполагая, что и всякий, как они, пожертвовал бы всем на свете, чтобы остаться живым. Наконец, имея в виду общественное положение их, назвали бы подобное заключение односторонним, недостойным их как передовых людей народа, притязавшего на имя избранного, введенного в завет с Богом, Божиего. В тесном кругозоре их не было места мысли, что он мог спасти себя, но не хотел, не должен был и не считал их спасения спасением.
Братия слушатели! Место, на коем мы находимся, заключившее собою Ветхий Завет, во многом положило конец и ветхому словоупотреблению, ибо открывало собою новый мир, новый порядок вещей, новые понятия, для коих требовались и новые слова. Припомните, как разбойник, не возвышавшийся, конечно, умом далее своих дурных наклонностей и преступных целей, здесь вдруг заговорил о некоем неземном царстве, о предстоящем пришествии царя сего царства, о силе и действенности поминовения, – как давно исчезнувший с лица земли и из памяти людской первобытный рай оказался тут существующим и доступным человеку в каждую минуту, – как древо казни, позорное и ужасное, изобретенное для гибели губителей, обратилось на злоименном лобном месте в знамя победы над погибелью, в источник силы, в залог жизни, в орудие спасения. Да! спасения – вопреки посмевательным укоризнам не спасшемуся на нем, Распятому. То правда, что спасавший иныя от смерти не спасся от нее сам – к торжеству врагов и к отчаянию своих присных, – более сего, он в слух всех признался на месте сем, что оставлен Богом. Во дни плоти Своея, – говорил Апостол о Христе, – моления же и молитвы к могущему спасти Его от смерти с воплем крепким и со слезами принес, и – все же умер! Зачем? Затем, чтоб быть всем, послушающим Его, виновником спасения вечного (Евр 5: 7–9), не спасся, чтоб спасти, значит. Апостол назвал слово о сем неудобосказаемым (Евр 5: 11). Но нам, послушащим Его (Христа), оно известно и понятно, так сказать, с колыбели, от первой, затверженной нами молитвы христианской. Себе не мог спасти, да спасет иныя… Вот что остается сказать от Креста сего наветникам Христовым, извращая слова навета их. Они не знали сего, а имели нужду знать, ибо были вождями народа, его учителями и – в своей мере или спасителями (Ин 4: 22), или губителями (Мф 23: 13). Сменившие их, вожди, из рыболовов ловцы человеков (Мф 4: 19), при первом открывшемся случае не замедлили дать им благопотребный урок крестной проповеди, когда блазнивший их (1 Кор. 1: 23) Крест, хотя уже не зрелся перед ними, все же еще не мог быть забыт ими. Случилось, что двое из учеников Христовых, бывши здесь в Иерусалиме в храме на молитве, именем своего Учителя исцелили у ворот, зовомых Красными, одного безногого калеку, – тоже, по ходячему словоупотреблению, спасли несчастного. Известные уже нам первосвященники, книжники и старцы, коим до всего было дело, не пропустили огласившегося случая и подвергли допросу совершителей чудесной цельбы. О чесом сей спасеся? – спрашивали они. Получили в ответ от Апостола Петра: во имя Иисуса Христа Назорея, Его же вы распясте, – намек их, что не могший спасти себя тогда по-прежнему спасает иных теперь, – ибо несть ни о едином же ином сиасение, несть бо иного имене под небесем, данного в человецех, о нем же подобает спастися нам (Деян 4: 12). Прибавка нам давала знать, что дело идет тут о всех людях, не исключая и первосвященников с книжниками и старцами. Поняли они или нет, в каком спасении и сами оказались имеющими нужду, хотя ни в какой беде себя не сознавали, это мало нас занимает. Еще ранее рассказанного нами случая, в самый день сошествия Святого Духа на Апостолов, уже всенародно говорилось о спасении в особенном, не ходячем смысле слова. Тот же Апостол, в объяснение предивного события, сослался на предсказание Пророка Иоиля об имевшем быть излиянии Святого Духа на всяку плоть, заключив свою речь пророческими словами: и будет всяк, иже призовет имя Господне, спасется (Ин 2: 32; Деян 2: 21). Призывать имя Господне свойственно не одним, ждущим избавления от бед. Следовательно, обещаемое призывающим спасение имеет свой особенный смысл, на который указывали и ранее пророков всенародно воспеваемые псалмы Давида царя. Кому бы потому, как не вероучителям народным, углубляться в смысл того, что говорилось их отцам и праотцам от имени Божия? Но, привыкши считать себя избранным племенем на земле, главным, если не единственным, предметом божественного промышления, и, по исторически сложившимся обстоятельствам, живя пришельцами в Земле Обетованной, среди (естественно) враждебных им туземцев, грозивших им всеми бедами до последней – поголовного истребления, они иного спасения и не понимали, и не ждали от Бога, кроме избавления от своих тех или других врагов внешних и, за отсутствием их, своих каждого личных. Кому бы из них могла придти мысль, что Господь Бог их, Бог Авраама, Исаака и Иакова, а не кто другой, есть первый предмет их страха, – страха вообще и страха божественного возмездия за тот или другой проступок их, и что им предстоит искать и ожидать другого спасения, спасения от карающей десницы Божией и от всего, что навлекает сию кару, от грехов и беззаконий, от увлечений и заблуждений, от страстей и искушений, от прирожденной наклонности на зло, словом: спасения от всего, что из человека, созданного по образу Божию, делает противника Божия, диавола. Додуматься до сего могли только такие боголюбцы, как Моисей, Давид, покаявшийся Манассия, Исаия, Даниил и другие высокие и чистые умы Ветхого Завета. Но, по мере того как завет сей обветшавал в действительности от времени, понятия о спасении заметно изменялись. Вавилонский плен, имевший значение воспитательной школы для иудеев, многое помог им уразуметь в другом истинном смысле относительно судеб Божиих не только о роде Израилевом, но о всем роде человеческом. В слух имевших уши слышати уже произнесено было, прикровенное дотоле, настоящее имя Ветхого денми, Вышняго, святого, чудного, сильного, бодрого, и пр. имя Христа старейшины (Дан 9: 25) и прямо Спасителя (Ис 42: 11), несшего с собою не спасение от тех или других бед, а мзду народу, который дом (Ис 42: 12). Сия мзда, сие избавление, сие священие и есть то спасение, о котором преимущественно следовало знать и думать посмевавшимся Спасавшему иным, но себя не спасшему, изветшавшим законникам иудейским.
Мысль иного, душевного спасения в светосиянное время новозаветной благодати, можно сказать, совершенно затмила собою старые, отжившие понятия о нем. Архангел благовеститель, первый, так сказать, отверзший дверь Евангелия, возвещая преблагословенной Деве Матери зачатие предвечного сына, заповедует: нарещи имя ему: Иисус (Лк 4: 31). Избранная от всех родов Богоневеста, по своему высокому духовному развитию (засвидетельствованному Ее богохвалебною песнию в горней), не имела нужды в объяснении сего многознаменательного имени и сложила его, вместе со всею тайною благовещения, в сердце своем; между тем, от века утаенное и Ангелом несведомое таинство приходило в явление. По-человечески судивший о нем ближайший свидетель его Иосиф-обручник также от ангела, в свою очередь, получает необходимое вразумление о сверхъестественно от Духа Свята рождаемом его приемном Сыне, повторительно наименованном при сем Иисусом, т. е. Спасителем, с пояснением: той бо спасет люди своя от грех их (Мф 1: 21). «Праведного» человека могло не удивить возвещаемое ему нового рода спасение, но современные ему книжники и старцы людстии, смеем думать, сочли бы его (как потом и все Евангелие) по меньшей мере странностию, как думал наилучший из них Никодим, а то и суесловием, лжею, хулением, неистовством и беснованием… Что грех может погубить человека (в смысле погибели телесной) и даже легче, чем другое что, на то могли согласиться гробы повапленные, но чтобы кто-нибудь, помимо самого согрешающего, мог спасти его от грехов, а еще не одного кого-нибудь, а всех людей, это не могло быть ни понято, ни принято ими – мехами ветхими, говорившими: кто может оставляти грехи, токмо един Бог (Мк 2: 7). Прошел не один десяток лет после первой вести о предстоящем спасении человека от греха. Иудеи успели за это время потерять свое призрачное царство и подпасть ярму язычников, – не в первый, конечно, раз, но зато уже окончательный, ибо поработители их были вседержавные римляне. Поелику же нераскаянные дарования Божии не могли быть забыты угнетенным и опозоренным народом Божиим, то он все свои надежды и возложил на ожидаемого совершителя своего спасения, Мессию, т. е. Христа – по нашему, Который имел, по их мнению, свергнуть иноземное иго и избавить Израиля (Ин 1: 49; Лк 24: 21; Деян 1: 6), как и при каких обстоятельствах, о сем не рассуждалось. В попытках подобного рода и не было недостатка, приходили тати и разбойницы, чтобы упасти, или что то же – спасти блуждавший народ Божий, но не послушаша их овцы, по свидетельству пастыря доброго, пришедшего душу свою положить за овцы (Ин 10: 8–11). Не послушали… Но имели напряженный слух ко всякой вести о предстоявшем спасении. Весть желанная не замедлила пронестись по всей стране. В пустыне Иорданской появился Пророк, заговоривший прямо о наступающем царстве Христа Спасителя (Мф 3: 2; Ин 1: 20–27). Чуткий ко всему новому и чрезвычайному, Иерусалим спешит туда внимать веками желанной проповеди, а за ним и вся Иудея, и вся страна Иордания, тогда не пустевшая, как теперь. Что же там слышат все от Пророка? Вместо утешений, надежд, обетований, угрозу гнева Божия, уже готового разразиться над заблудившим народом, и единственный способ избыть его – всенародное покаяние. Поистине странное предисловие к чаемому спасению страны. Проповедуемый Спаситель придет, или уже пришел, и стоит незнаемо среди народа. В руках у него не скипетр царя и не меч завоевателя, а веяльная лопата для отделения пшеницы от плевы в самом народе Божием! Жестоким врагом Израиля вдруг оказывается уже не римлянин, не чужеземец и не язычник, кто бы он ни был, а он сам, его собственный грех, и освободитель от сего врага, вместо громких и славных титл, величается, как нельзя печальнее, агнцем Божиим, вземлющим грехи мира (Ин 1: 29), – агнцем, следующей жертвою, готовою на заклание! Какое потрясающее разочарование должно было следовать за такою проповедью: понятие спасения совершенно извращалось, говорилось о чем-то неуловимом для богословствующей мысли иудея, как бы он ни звался – фарисеем ли, саддукеем ли или еще иначе как. И конечно, нелегко было общественному мнению сойти с излюбленной и веками лелеянной точки зрения, видевшей в Мессии царя, грозного воителя и восстановителя дома Давидова (Мф 20: 30; Мк 11: 10). Мы знаем, что в самом обществе учеников Христовых их мысли и чаяния большею частию не возвышались далее земного величия и благополучия их учителя, а с ним и их самих, так что самым первенствовавшим между ними приходилось иногда слышать: не веста чесо просита (Мф 20: 22), не весте, коего духа есте (Лк 9: 55) и еще хуже сего (Мф 16: 23). Сам себя учитель их называл только Сыном человеческим, весьма много знаменовавшим, но ничего не обещавшим им, кроме скорбей и искушений. Сын человеческий не имать, где главы подклонити (Мф 8: 20), – предан будет в руце грешников (Лк 24: 7), не прииде, да послужат ему, но послужити и дати душу свою (Мф 20: 28), не прииде душ человеческих погубити, но спасти (Лк 9: 56). Вот и все! Дати душу… спасти души… о теле, о жизни, о мире, о земле – ни слова! Насколько мало ценил Спаситель душ земные блага, с первым и последним из них – жизнию, видно из слов его, окончательно ставящих вопрос о спасении на христианскую точку зрения. Глаголю вам, другам своим, не убойтеся от убивающих тело, потом не могущих лишшее что сотворити (Лк 12: 4). Что же лишшее оставалось бы еще по смерти для лишшего лишения. Душа с ее вечным бытием, к которой собственно и относится дело спасения, по Евангелию! Да и о душе есть заповедь, Господня не спасать ее в смысле удовлетворения ее благом временным, преходящим, мнимым, тленным, влекущим ее от спасения к погибели. Столько беседовавши о спасении, необходимо молвить и о противоположной ему сей погибели. Что она такое? Те, кто говорил: иныя спасе, себе ли не может спасти, – еще ранее на суде Пилатовом требовали: – да погубят Иисуса (Мф 27: 20). Если бы им известны были выражения Спасителя: иже аще хощет спасти душу свою, погубит ю, а иже погубит душу свою Мене ради и Евангелия, той спасет ю (Мк 9: 35), – им снова представился бы случай укорить Его в последней несообразности слов Его. Для их понятий, или спасается, или погибает весь человек, и что постигает тело, то и душу. Поелику же христианские воззрения идут далее близорукого иудейства и, вопреки глумлению его над крестным событием, приурочивают спасение человека к душе человеческой, то и погибель угрожает ей же – где? В вечной жизни? Сия вечная жизнь, насколько возможно при чувственной обстановке нашего существования на земле, просияла на взоры всего человечества здесь, у Живоносного Гроба Господня. Сама она, уже как одно продолжение посмертного бытия нашего, есть превожделенное и ни с чем не сравнимое благо, оттого в Евангелии, а затем на языке церкви часто отождествляется с вечным блаженством Сам Господь, по своему человечеству, многократно выражался подобным образом (Ин 5: 24; 6: 40). И при изображении будущего всеобщего воскресения говорит: вси, сущие во гробех, услышат глас Сына Божия (и услышавше оживут) и изыдут сотворшии благая в воскрешение живота, а сотворшии злая – в воскрешение суда (Ин 5: 28–29). В противоположность животу является суд, то есть осуждение, как бы уже не жизнь, хотя и бытие. Мы, привыкшие к стеснительным явлениям своей привременной жизни, не сумеем провести черту между жизнию и бытием в вечности, но верно она есть, и то, что мы теперь зовем жизнию – своим первым величайшим благом, так и будет вечным блаженством, а бытие без жизни блаженной, или осуждение на состояние, известное нам теперь под именем муки и, конечно, уже не облегчаемое ничем, неизменное, беспрерывное, бесконечное, и есть оная, в противоположность вечному спасению, вечная погибель.
Братие! Не у Креста сего, смертию смерть поправшего, и не у гроба сего, сущим во гробех живот даровавшего, говорить бы нам об осуждении, о мучении, о погибели. Но, проведши беседу нашу о спасении от первой страницы Евангелия до последней, мы не можем не завершить ее последним словом о нем же самого Господа, уже воскресшего, уже переступившего черту земного бытия и приемшего всяку власть на небеси и на земли (Мф 28: 18). Шедше в мир весь, – завещавает Он Апостолам, – проповедите Евангелие всей твари. Иже веру имет и крестится, спасен будет, а иже не имет веру, осужден будет (Мк 16: 15–16). Вот они – и спасение, и погибель, так легко приобретаемые! По милости Божией, мы – и Креста и Гроба Господня поклонники – и веруем, и крещены. Не отчаемся и во спасении.
Аминь.
А. А – н.
Страх пред Господом. Слово произнесено в Иерусалиме на Святой Голгофе в ночь под 30 апреля при обношении Плащаницы[20]20
Душеполезное чтение. 1891. Ч. 2. С. 260–266.
[Закрыть]
Ни ли ты боишися Бога?
(Лк 23: 40)
Мы знаем, чьи это слова, но кто бы поверил, что они вышли из уст злодея? Говорит их разбойник и обращается с ними тоже к разбойнику. Не странное ли это явление? Как объяснить его? Ни ли ты боишися Бога? Укоряет один злодей другого в том, что тот обижает своим отзывом третьего, присужденного к одной с ними казни, и укоряет именем Бога! Но отчего же они и злодеи, если не оттого, что, злодействуя, не только не боялись, но и совсем не думали о Боге? Откуда теперь могло придти одному из них на мысль стращать или усовещивать другого именем забытого ими Бога? Что оба они знали единого Бога Творца, Вседержителя, Промыслителя, Судию и отмстителя творящим злое, за это ручается их иудейство. Но вот наибольшее, последнее зло жизни – смерть – их уже настигло. Чего же еще оставалось бояться им. Наступал неизбежный, неотвратимый «конец всему».
Нет, братия! Наступало начало если не всего, то чего-то неведомого, немыслимого, невообразимого, но страшного и более муки смертной мучительного, – пробуждался и заявлял себя в неумирающей душе страх Божий, страх еще иного кроме смерти грозящего воздаяния Божественного, и только свойственный духу нашему. Мы, воспитанные в христианских познаниях о бы тии и жизни, с колыбели, так сказать, знакомы с страхом Божиим, слышим, читаем, рассуждаем о нем по руководству Святой Церкви ежедневно, ежечасно и до того внедряем в себя мысль о нем, что если не говорим прямо, то несомненно верим, что «на то и Бог, чтоб его бояться». В житейском быту у нас даже не редкость услышать острастку детям: «Не делай (того-то), а то Бог убьет!» Но, говоря и думая таким образом, мы не идем далее и даже отстаем от разбойника «благоразумного». Одно представление Бога как наказателя, мучителя, убивателя человека показывает нам, что мы еще должны поучиться страху Божию. А учителя недалеко искать. У нас есть таковый ежедневный. Припомните, что глашает богохвалебная книга древности: Приидите, чада, страху Господню научу вы. Кто есть человек хотяй живот, любяй дни видети благи? Удержи язык твой от зла и устне твоя еже не глаголати льсти (лжи). Очи Господни на праведныя… лице же Господне на творящия злая, еже потребити от земли память их (Пс 33: 14–15). Итак обещают, с одной стороны, живот и дни благи, а с другой – потребление от земли памяти. Далеко ли это от нашего: не делай, а то Бог убьет! Откуда такое безотрадное представление отношений Бога к человеку? Как все неправильное, неестественное, от греха, богомудрые слушатели, паче же – созерцатели горестных плодов греха на сем древе крестном, – грехом вызванном и от греха спасающем! Припомните, как первый из рода нашего грешник: услышав глас Господа Бога ходяща в раи, скрылся от лица Господа Бога посреде древа райского, и на дружески отеческий призыв Бога: Адаме, где еси? – ответил: убояхся, яко наг есм, и скрыхся (Быт 3: 9–10). Вот сие-то правдивое, но неправедное признание праотца и сделалось достоянием утратившего свою близость к Богу его потомства, стало его обычаем, правилом, долгом, обратилось в заповедь, в закон, в догмат его веры, зачтено за добродетель, за способ и за акт богоугождения. Чувство боязни, овладевшее первым человеком, с течением времени притупилось, уменьшилось и совсем забылось в его потомстве, а, соразмерно с тем, укрывательство, отчуждение, удаление от Бога росло и выросло до размеров всеобщего нечестия, вызвавшего кару потопа. Ужасный приговор творческий: не имать дух мой пребывати в человецех сих, зане суть плоть (Быт 6: 3), – свидетельствует, что от первоначальной близости существа богоподобного к Богу не осталось ничего и что удержать его от стремления ко злу можно только продолжающеюся угрозою казни, чем и объясняется все последующее положение вещей, передаваемое Библией. Боязнь Бога карателя, потребителя от земли памяти людской, т. е. короче, умертвителя, лежала в основе древнейшего на земле богопочтения. Умилостивительные жертвы, сопряженные с закланием животных (заместо самих людей), как раз соответствовали сему представлению Бога. Наипреданнейший чтитель и как бы любимец Бога Авраам, начав глаголати ко Господу усты ко устам, не замедлил прибавить: аз же есмь земля и пепел (Быт 18: 27), т. е. уже переставший жить. Своим беспримерным послушанием воле Божией, именно в качестве раба безответного он заслужил себе похвалу от Бога, услышав: ныне познах, яко боишися ты Бога (Быт 22: 12). Прекрасный Иосиф, страхом греха пред Богом (Быт 39: 9) удержавшийся от искушения плоти, еще большее преодолел искушение духа, оставив без должного наказания своих вероломных братьев именно потому, что он боится Бога (Быт 42: 18), более сего, – он прямо говорил им: Божий есмь аз (Быт 50: 19). Божий всеконечно был и предивный, неподражаемый Иов, своими очами видевший Бога, как подобного себе, как простого совопросника и состязателя (Иов 39: 34), и кончивший тем, что все же признал себя землей и пеплом (Иов 42: 5). Таким же Божиим был и великий Моисей боговидец, друг (Исх 33: 1) и собеседник Божий, но уже последний верный представитель до законного порядка вещей богочеловеческих. Грозное и страшное Синайское Богоявление, заключившее в письмена строго определенную и неизменную волю Божию, положило начало новому их порядку – порядку беспрекословного исполнения заповеди, т. е. заместо свойства рабству. Как рабу неключимому, человеку, в завершение состоявшегося завета, сказано было: Се дах пред лицем твоим днесь жизнь и смерть. Аще послушаеши заповедей Господа Бога твоего, поживеши, умножишися, и благословит тя Господь Бог твой. Аще превратится сердце твое, и не послушаеши, возвещаваю вам днесь, яко погибелию погибнете (Втор 30: 16–18). В существе дела, значит, все то же самое первоначальное: земля еси, и в землю отыдеши… аз же есмь земля и пепел… ничего вечного, посмертного! И точно, во все продолжение подзаконного состояния народа Божия ничто так часто не слышалось в устах вождей и учителей народа Божия, как внушение страха пред Богом, во избежание казни от Бога. Голгофское: ни ли ты боишися Бога? стало как бы знаменем, девизом всего последующего времени. Наитеплейший из чтителей Бога, в увлечении благодарною памятию благодеяний Божиих к своему племени не усомнившийся даже назвать своих единородных детьми Божиими (Пс 38: 1), Царь Давид считал самого себя рабом и сыном рабыни (Пс 115: 7), и современный ему мир учил работать Господеви со страхом и радоваться ему с трепетом (Пс 2: 11). Сии работные страх и трепет вошли, так сказать, в плоть и в кровь в наилучшую часть потомства Адамова, и близость к Богу, в образ Божий созданного существа была уже редчайшим явлением только в таких боголюбцах, как Илия, Иона, Исаия и муж желаний Даниил, сии ветхозаветные, как их справедливо назвать, евангелисты. Поразительное доказательство того, о чем мы говорим, представляют из себя блаженные, преименитые три отрока Вавилонские, объятые, так сказать, божеством среди пещи горящей (до того, что Навуходоносору виделось в пламени огня уже не три, а четыре человеческих образа), и все же в своем песненном богохвалении глаголавшие: боимся Тебе, и ищем лица Твоего (Дан 3: 41). Боимся и вместе ищем! Наступало, значит, время, и потребности, и дерзновения, и надежды видеть лице Божие, от которого в страхе, ничем неоправдываемом, отвратился первозданный человек.
Но, братия наследники греха Адамова! Сказать, что одно только из племен человеческих искало Лица Божия мы – и по преимуществу мы иноплеменники – не имеем основания. Может быть, не тем путем, не так, как нужно, не там, где следует, но думаем, что искало его всегда и все человечество. Кроме ветхозаветного, существовало одновременно с ним человечество внезаветное, и в несравненно большей численности. Что сказать о нем? Слышалось ли и в среде его – многочастного и многообразного до беспредельности – голгофское: ни ли ты боишися Бога?… Не имея чего-нибудь вполне достоверного о богопочтении гремевших своим именем и более или менее соприкасавшихся с сими местами великих народов древности, насельников великой Азии, мы, уклоняясь от прямого ответа на вопрос, заметим только, что для того, чтобы бояться чего-нибудь, надобно иметь ясное представление о том, чего боишься, но такового у поклонявшихся слепым, глухим, бесчувственным, неуловимым и неразумеемым силам природы и – много, много – мнимым источникам и проводникам их, светилам небесным, не могло быть, и все ограничивалось бессмысленным обрядом – поклонением тому, что указано и приказано, – поклонением, как видно из истории трех отроков вавилонских, достигавшим ужасающих размеров. Более ясным дело представляется в соседнем Святой Земле с другой стороны Египте, стяжавшем славу рассадника многобожия и уронившем поклонение творцу природы до чествования всех ее проявлений, всего, что ниже самого чтителя, где Бог, к стыду ума человеческого, приравнен был к домашнему скоту, и не приравнен только, а отождествлен с ним и притом не в каком-либо отвлеченном смысле, а в цельности живого, как есть, животного! Какой мог быть у поклонников такого Бога страх перед ним, легко понять.
Несообразность богопочтения доходила до последней степени, отзываясь волей-неволей и на избранной части рода человеческого. Не без воли, потому, вседетельного промысла Божественного призван был сменить на поприще истории Египтян другой, тоже в своем роде «избранный» народ древности, светоч и путевождь современного ему мира, славное имя которого не требует упоминания, – имя, долгое время считавшееся тезоименным язычеству и идолопоклонству, а потом слившееся неразлучно с христианством, от него заимствовавшим свое, благословляемое земным кругом, название. По неложному засвидетельствованию апостольскому народ сей, по-своему благочестивый (Деян 17: 21–22), но изменчивый и безмерно склонный слышати и глаголати что новое, познакомившись с Египтом и отчасти подчинившись его вероучению, перевел мерзости Египетские на свои понятия, более ясные и свободные, хаос басней и преданий старался привести в порядок, уничиженное до скотоподобия божество возвысить, богослужение очистить, и пр., но, в своем похвальном стремлении, не возвысился над самим человеком. Не имея возможности подыскать черты, вполне соответствующие величию Бога, он снял их с человека по преимуществу своего племени – со всеми его естественными свойствами, наклонностями, потребностями, слабостями и недостатками, и – увы! – Творца и Зиждителя всего сущего сделали носителем и представителем, а затем, естественно, и покровителем всего, что есть позорного на земле! Такого бога, да еще раздробленного на многие, своеобразные личности, кто мог бояться, и именем такого очеловеченного божества кто кого мог стращать или усовещивать? Не дивно потому, что, по баснословию эллинскому, какие-то титаны поголовно ополчались на верховного Бога, чтоб согнать его с неба!
Довольно для нас сих примеров внезаветного отношения человека к Богу. Как мы видим, оно дошло до полной противоположности с ветхозаветным порядком вещей. Имело ли это какое-нибудь особенное значение или было простою случайностию? Братия-христолюбцы! Мы стоим с вами на месте, преисполненном высоких и глубоких тайн. Мы не иудеи, чтобы думать, что Бог существует для одного и не существует для другого, хотя бы первый-то был предметом его преимущественного внимания. Иудейство составляло только небольшую часть человечества и имело значение евангельской закваски для окружавшего его язычества, но и последнее, освещенное иудейством, своим низведением божества до образа человека незаметным образом облегчало язычникам приемлемость к вере во Христа Богочеловека, Сына Божиего и Сына Человеческого, всем близкого, своего, кроткого и смиренного сердцем (Мф 11: 29), возлюбившего до конца своих, сущих в мире (Ин 13: 1), положившего душу свою за овцы своя, и – что всего дороже для нашего слова – не за одних своих, но и за тех, яже не суть от двора его, т. е. за язычество, и доведшего безграничную любовь свою к ним до смерти, смерти же крестныя (Флп 2: 8). Такого ли Бога бояться человеку в такой мере, чтобы боязнь была преобладающим чувством в отношении к Богу? Не вводится ли, напротив, бедный род наш таким путем в первобытную близость к Богу, исключающую всякую боязнь, – близость любви дерзновения, упования? О чем, как не о том самом, глашает на весь свет и Крест сей богочеловечный; сия печать бесконечной любви Бога к человеку и беспредельного дерзновения человека к Богу? Страха несть в любви. Совершенна любы вон изгоняет страх, – говорит стоявший тут некогда возлюбленный ученик положившего душу свою за други своя Учителя (1 Ин 4: 18).
Время возвратиться нам, богомудрые слушатели, к источному слову беседы нашей: ни ли ты боишися Бога? После всего сказанного нами мы уже знаем, что сие благое, ласкающее слух уха нашего, выражение веяло подзаконным, до-христианским, несовершенным стоянием человека пред Богом. Что же думать нам о нем теперь? Ведь и мы, в той или другой форме, зачастую повторяем его в христианской среде своей, говоря друг другу: «Побойся ты Бога!» или: «Бога ты не боишься!» и т. п. Уничижить его, отказать ему совсем в месте среди христианского общества было бы нерассудительно. Но нельзя не сказать, что, если бы вместо такого, вызывающего кару Божию увещания, вместо: «Бога ты не боишься», – мы приучили себя говорить: «Бога ты не любишь», – это было бы лучше.
Аминь.
А. А.