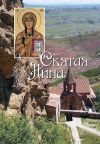Читать книгу "Слово на Голгофе. Проповеди и наставления для русских паломников в Иерусалиме. 1870–1892"
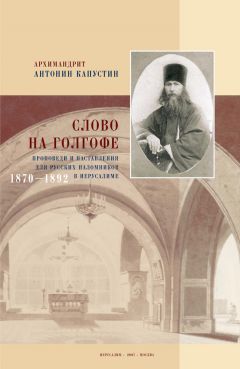
Автор книги: Антонин Капустин
Жанр: Религия: прочее, Религия
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Слово, произнесенное в Иерусалиме на Голгофе при обношении Плащаницы ночью 11 апреля 1875 г.[8]8
Труды Киевской Духовной Академии. 1875. Т. 2. С. 818–822.
[Закрыть]
Место ужаса и отвращения! Место плача и страданий! Место проклятий и отчаяния. Еще ли раз совершается на тебе некий всенародный позор, каковыми прославилось твое печальное имя? Еще ли раз зловещий лобный холм служит сборищем толпы, не в меру любопытной, не вовремя сострадательной, не к месту учительной, кого-то высматривающей, чего-то выжидающей? Еще ли раз они – те же самые, памятные неистовые вопли нетерпения, злорадостные клики отмщения, робкие протесты сочувствия, тихие рыдания безнадежности и глухие, замирающие стоны одолеваемого бессилия возносятся у древа казни от многострадальной земли в бесчувственное небо?
Есть… толпа, есть и зрелище, и глашения, и шум, и движение, и теснота, и устремление одних паче других, – нечто сходственное с тем, что передает Евангелие, но вместе и совершенно отличное от него по предмету, по духу, по установлению. Не на зрелище убиваемого осужденника пришли мы спешно и тревожно, откуда кто попал, кто как мог и кто в чем был. Нет, совсем иное зрелище, зрелище оживления, подпавшего осуждению смерти, рода нашего у нас перед глазами. Мы долго собирались и готовились к нему. Мы составили торжественный ход для сего, – вышли навстречу ему облаченные, украшенные, с возженными светильниками в руках, с песнию в устах, с спокойствием в лице, с тишиною в сердце. Наши архиереи с книжники и старцы не глаголют друг другу, ругающеся Распятому: аще царь Израилев есть, да снидет ныне со Креста, а напротив благословляют Его царство и хвалятся Его Крестом. Наши князи, не блазнясь Его крайним истощанием и уничижением, спешат Его называть и величать Христом Божиим, избранным. Даже окружающие нас воины, не причастные ни нашим скорбям, ни нашим радостям, кажется, при первом слухе о жажде умирающего, в укор пресловутому имени римскому, поспешили бы подать Ему не оцет, с желчию смешен, а чистую освежающую воду. Даже те немалочисленные мимоходящии нашего времени, заносимые на Голгофу не избытком чувства и излишком досуга, которым по условиям их верования или безверия нет никакого дела до Голгофы и нашего на ней молитвенного собрания, и те, думаем, не стали бы кивать помавательно главами своими, увидав стольких других, склонивших головы свои у подножия крестного. Говорить ли еще о том, как вси сии несчетные пришедшии народи на позор сей, видяще бывающая, или воображая бывшее, возвращаются отсюда на далекую отчизну, биюще перси своя, особенно же – наши жены, споследствовавшие издетства Христу своим христолюбивым сердцем не от близкой и малой Галилеи, а из-за сотен галилейских расстояний неизмеримой России.
Да! Времена другие, люди иные и действия инаковые, но времена – все те же. От их неустранимого и незаглушимого свидетельства не укроешься ничем. Лобное место все то же и все так же стоит перед нами – ужасное, плачевное и – дерзнем произнести – проклятое.
На языке, передавшем нам святую веру, Святая Голгофа и не именуется иначе, как ужасною[9]9
ο φρικτòς Γολγοθãς
[Закрыть]. Мы знаем, или нудимся думать по крайней мере, что она долгое время была местом публичной казни иудеев. Мимо нее с трепетом, конечно, проходили некогда мирные граждане Иерусалима, а на ней едва ли кому приходило желание и поставить ногу. Если постороннему человеку место лобное внушало такой страх, то чем оно должно было казаться самому осужденному на смерть? Пример у нас перед глазами. Сам, прославивший, по слову пророческому, место ног своих, един имеяй бессмертие, припомните, как скорбел, и тужил, и ужасался, и как, вопиял горестно при мысли о ней: прискорбна есть душа моя до смерти! Но кто же не знает, слушатели-христолюбцы, что Христос был жертвою искупительною за весь род ваш и что вместо Него следовало нам идти на крест и умереть, как умер Он? Вот почему лобное место ужасно не вообще только как место казни, а ужасно оно и для каждого из нас, как место его собственной казни. Да будет же и пребудет с нами и в нас это спасительное и охранительное чувство трепетное всякий раз, как мы восходим на Голгофу и дерзаем стоять тут!
А кто сочтет те слезы, которые пролиты на всеплачевном месте сем в течение лет и столетий! Пройдем без внимания те, никому не дорогие слезы, которыми орошалось оно всякий раз, как совершалась тут смертная казнь, не всегда, конечно справедливая и заслуженная. Останавливаемся на том, что составило всесветную славу Голгофы. С воплем крепким и слезами, – по свидетельству Апостола, встречал свою кончину Господь Иисус. Где это было, – положительно сказать не можем. Евангелие не говорит прямо, чтобы Он плакал на Кресте, но кто не признает самого горького, безутешного плача душевного в сем болезненном взывании: «Боже мой! Боже мой, почто мя еси оставил?» Наконец, если бы у Сына Божия не оставалось места для слез человеческих на Кресте, под крестом они несомненно струились потоком из очей безутешной матери и ученика, его же любяше Иисус, а за тем и всех, конечно, знаемых Его, стоявших издалеча. С тех пор на достожалостном месте сем через целый ряд веков, можно сказать, беспрерывно лились людские слезы, слезы – умиления, покаяния, страдания, благодарения, прошения… Нужно ли напоминать, что стыд той вере и горе той душе, которые без слез приходят на Голгофу и в наше время?
У страшного и плачевного сего места распятия скорее всего припоминается знаменательное слово, или определение, Моисеева законодательства: Проклят от Бога всяк висяй на древе (Втор 21: 23). Мало того ужаса, который несется с Креста, мало тех слез, которые вызывает он, – на нем лежит еще проклятие и проклятие Божие! Так что, по всей строгости закона божественного, в виду Креста надобно смолкнуть всякому голосу сердца, и смотрящий на него должен только клясть проклятого Богом. Это страшнее как бы уже самой смертной казни осужденника. Не иметь другого слова для умирающего, кроме проклятия!.. Но дерзнем ли судити; суды Господни? Да не будет! Значит, так нужно: клясть того, кто не заслужил, не взыскал, не оценил благословения. О, что сказать? Преднамеренное оставление Единородного на Кресте и предание Его на поругание всякому, кто смыслил умозаключать: Иные спасе, себе ли не спасет? – не есть ли прикровенное повторение того древнего приговора: Проклят от Бога висяй на древе? Ужасно. Но должно быть так. И оное оглушающее: уа, – не будет ли знаменовать собою только общий гул несшегося на Распятого всеродного проклятия? Тяжело и помыслить о том, что было и что значило. Но возвратимся к себе. Кого же, в самом деле, кляли в лице Осужденного ругатели? Кляли всех, начиная от себя до последнего из последних в рожденных женами, – всех, по ком был клятвою Распятый. Довольно сего. Итак, эту обремененную клятвами, преступную голову сколько можно менее поднимай, возлюбленный! Особенно старайся опускать ее здесь на лобном месте. Лобное место пусть будет для тебя местом лобного склонения во прах!
Но да простит нам святое, досточтимое и покланяемое место обозвание его: ужасным, достоплачевным и… проклятым! Пусть оно зовется, как угодно, лишь бы оно подвигало всех, стоящих на нем, с одной стороны, глашать: воистину, Божий Сын бе сей, – а с другой – вопиять: помяни мя, Гоподи, егда приидеши во царствии Твоем.
Аминь.
А.
Наставление говеющим по прочтении Великого Канона, в Иерусалиме[10]10
Духовная беседа. 1876. № 10. Март. С. 289–301.
[Закрыть]
Откуда начну плакати окаянного моего жития деяний? Вспомним, что так начал свою великую песнь о грехе и покаянии богомудрый писатель Великого Канона. Откуда начали бы и мы, в повторительное назидание себе, перебирать в памяти те лица, предметы и обстоятельства, по поводу которых плакал, – и нас возбуждал к плачу, – древний иерусалимлянин и, значит, наш временный согражданин, смолитвенник и спочитатель Святых мест? Можно назвать счастливым обстоятельством это сходство положений его и нашего. Выходя из тесного и теснящего богомысленный дух круга суеты городской на широкий простор Божией природы и свободы, юный Андрей, впоследствии знаменитый архиепископ критский, – носивший в бытность свою здесь скромное звание чтеца и нотария (по-нашему – записчика) патриаршего; может быть, на сих самых местах, за 1200 лет до нас, стоял, или сидел, и думал о временах, и для него уже давноминувших, скорбя, конечно, духом о несовершенствах избранного и, следовательно совершеннейшего из племен человеческих, и утешая себя, если уже ни чем другим, то хотя возможностию извлечь из них для себя урок.
А нам он сам уже – урок, да еще и не один! Прежде всего, встречая кого-нибудь тут незнакомого, невидного и незавидного, как говорится, убого одетого, по-видимому, без дела шатающегося по окрестностям Святого Града, – не уничижать его в сердце своем. Это первый урок. Ибо кто знает, кого мы видим перед собою из далекого будущего? Потом, подобно богомудрому юноше, и самим не терять времени даром и, бродя туда-сюда по нужде и без нужды, не спать, так сказать, умом, и еще менее – уноситься им в напрасные воспоминания своей собственной, неглубокой и часто совсем непоучительной древности, – из тесного круга родного дома, родного села, всего родного по плоти, а не по духу, а, напротив, раздумывать и рассуждать о многознаменательных случаях из жизни народа Божиего и всего человечества; ибо место это есть всесветное училище. Затем – третий урок – вдумываясь в них, стараться ставить себя на место всякого, о ком повествует древнее бытописание, и спрашивать себя: как бы мы сами поступили в том или другом случае? Ибо отчего так живо и очертательно выступает в Великом Каноне каждое упоминаемое лицо древнего мира? Оттого, что боголюбивый певец не смотрел на древность только как на занимательный, посторонний и, так сказать, от нечего делать, рассказ о чем-то давнем, а считал всех без исключения и праведников, и грешников ветхозаветных, своими близкими, состоящими в духовном родстве с собою от купели покаяния, если можно так выразиться, сам как бы находился на их месте и в их положении.
В самом деле, коснувшись, например, мысленно самого первого из грехопадений страстного рода нашего, певец немедленно возвращается к самому себе и говорит: «Воззрех на садовную красоту, и прельстихся умом.» И праотец Адам, и он тут же сливаются в одно. Не говорит он или не думает, что вот Адам и Ева взглянули на прекрасный плод и прельстились; нет, а вместе с ними, он и сам уже «Как бы простирает руку к запрещенному плоду, а оттого и заканчивает свой стих самоукорительными словами: и оттуду лежу наг и срамляюся. Не был он, конечно, наг, когда говорил это, но, очевидно, воображал себя, подобно праотцам, обнаженным и от живого сознания наготы стыдился. Заговорит ли он еще, например, об Аврааме пришельце, бежавшем от греха с родины на чужбину, – точно видишь его самого тут, оставившего родной ему Дамаск, когда ему минуло не 75, как Аврааму, а только 14 лет, и бегущего в землю, точащую присноживотное нетление. Свойство тонкого ума, чистого сердца и смиренного духа – не говорить о себе много и ясно, но предоставлять другому угадывать всю полноту исповедующейся души под кратким и как бы ненамеренным выражением. Сего произволению подражай, – заключает он, просто и совсем, по-видимому, не содержательно. Но какая глубина и сила скрывается в слове «произволение»! Кто заставил Авраама уйти из идолопоклоннического Харрана в эти, тогда еще пустевшие, места? Бог, отвечает Писание. Следовательно, уже – не одно произволение. А ему, избранному сосуду дарований Божиих, кто подсказал уйти, еще в расцвете жизни, от искушений шумной и блестящей городской жизни на пустынные горы эти? Одно произволение. Не ошибаясь можно бы сказать, что он чуть только помыслил об Аврааме, как уже стал Авраамом! Такая близость и применчивость славного писателя и отца Церкви (св. Андрея Критского) к положениям исторических лиц священного бытописания да послужит примером для нас, только что окончивших свое четырехдневное, так сказать, пребывание в школе своего мудрого наставника. Пусть бы ни одно событие, лицо, место и обстоятельство Ветхого Завета и Нового Писания, упомянутое в Великом Каноне, не прошло по сознанию нашему, не затронувши его. Дадим этот справедливый обет в честь такого редкого учителя, как Андрей премудрый, пастырей изряднейший, вселенный молитвенник, покаяния таинник преизрядный, отеческая похвала и преподобных слава.
Из многого множества приведенных в Великом Каноне назидательных примеров греха и покаяния, нераскаянности и наказания, безнаказанности и погибели, мы остановимся только на двух-трех, если не самых разительных то наиболее близких нам по своему местопроисхождению. Обитаемый нами Иерусалим стал известен и славен уже тогда, как мир ветхозаветный просуществовал более двух третей своего, указанного Богом, срока. Преславное и прелюбезное всему человечеству имя просияло уже при царе Давиде. Но пусть, согласно древнему предположению, Иерусалим будет одно и то же с древнейшим городом Салимом. Нам дает это случай пленить мысль свою одним самым высоким и досточтимым образом древности – царем и вместе священником Мелхиседеком. Его рода и племени, таинственного имени и столько же таинственного царства, а главное, его дозаветного священства никто не объяснил из древних. Еще менее можем объяснить его мы теперь. По сей безвестности Великий Канон называет Мелхиседека подобием Христа, также священника и царя, без рода и отечества, а затем и подобием или образцом мирского жития в человецех, и внушает подражать ему. Но в чем подражать? Не в царстве и священстве, еще менее – безродстве, конечно. Все, чем прославил себя таинственный «царь правды», заключалось в сделанной им торжественной встрече Аврааму, после победы сего над пятью царями иноплеменными. Мелхиседек встретил его с хлебом и вином, причем благословил Авраама во имя Бога и прославил Бога за имя Авраама. Только и всего. Что же нам приходится делать в подражание древнейшему согражданину нашему? Очевидно, что благословлять… не священническим благословением, на которое надобно иметь право, а присным языку и сердцу благим словом – всякому и о всяком и, прежде всего, Богу и о Боге. Благое слово! Как оно прилично всем нам, добрым христианам, и как оно особенно пристало (и отставать никогда не должно) нам, умиленным и сокрушенным странникам и поклонникам Святых мест! Что нам делать здесь, как не благословлять Бога за людей и людей ради Бога? Умиленный человек не разбирает, кто пред ним стоит, и что у него на душе, а, считая всякого другого таким же благим, как он сам, износит ему из благого сокровища сердца своего одно благо. Другого ничего и нет у него. Братия христолюбцы так ли? А пересуды? А злословие? А клеветы? А недоброжелательство всякого рода? Жалобы, распри, мщение, ожесточение? Что это за явления, встречаемые зачастую на стогнах Святого Града и в пределех его? Что они знаменуют собою? Во всяком случае – не подобие Мелхиседека – Христова подобия!
За «царем мира» прямо выступает пред нами уже в настоящем смысле слова царь Салимский, или Иерусалимский, – Давид, которого не обинуясь можно назвать, в соответствие «царю мира», – «царем молитвы». Близкое от младенчества всем нам имя царя Давида, видно, ближе других было и писателю Великого Канона. Он пять раз возвращался к нему. Да иначе и быть не могло. Когда дело идет о согрешении и о покаянии, как бы само собою невольно возникает в памяти это светлое имя. Оно вопиет собою о крайней слабости духа, сопровождаемой, как большею частию бывает, упрямою волею, изворотливым умом и тупым сердцем. Столько вдруг открываем недостатков в дорогом всем нам и досточтимом образе: позволительно ли это? Но, своим покаянным псалмом, известным всему христианскому миру, так сказать, наизусть, богоотец Давид сам как бы приглашает всякого судить о нем и, как говорится, казниться им. Не будем пересказывать всем известного увлечения его, как назвали бы в наше, подчас не в меру снисходительное время его неоправдываемый проступок. Взамен того, по указанному выше совету, поставим себя на место согрешившего царя. Сделать же это нетрудно. Место, где он жил и откуда смотрел на соблазнивший его предмет (более или менее гадательно, конечно), указывается в Иерусалиме. Итак, что бы мы сделали, если бы, подобно ему, гуляя по террасе своего дома или инде где, увидели то, что представилось ему? Думаем, что сейчас же отвернулись бы от соблазняющего предмета и употребили бы все старание, чтоб забыть о нем, занявшись чем-нибудь другим. В подобных случаях дорога всегда первая минута, которою у нас зовут роковою. Она решает ход всего дела, и не одного дела, а целого ряда дел, – часто всей судьбы человека, – самой жизни его; нет ничего легче слабодушному человеку, как поддаться первому искусительному впечатлению. А поддавшись, не освободишься от него уже ничем, вроме всесильной помощи Божией. И чем властнее мы, увлекающиеся, тем решительнее и безвозвратнее становимся рабами одолевшего нас помысла. Куда деваются совесть, стыд, страх, ум – наконец? Все приносится в жертву неизвестно чему и неизвестно почему. Давид, исчезавший, так сказать, в чувстве приверженности к Богу, теперь забывает о Боге – мздовоздаятеле! Он воображает себя уже всемогущим, как бы единственным на земле, и с спокойною совестию умышляет погубить человека, ставшего ему помехой, и – как? – так, чтобы никто не догадался о сем, ни сам тот несчастный, ни – решимся договорить – сам Бог! Вот к чему ведет первый, неостановленный шаг! Горько подумать. Но… О сугубом грехе покаянии сугубо показа абие Давид. Само же ты еще лукавнейшия дела соделала еси, душе, и – не покаялася Богу. – Так заключил свой стих о Давиде священнописец. Полезно и нам повторить то же, чтобы не вообразить себя и в самом деле пригодными судиями нашего ежедневного или и ежечасного учителя покаяния. Иерусалим видел еще и другую слабость пророка-царя. У него был сын, безмерно любимый. Не сомневаемся, что кроме сыновства, у отца много было и других причин любить его. Тем жалостнее становится печальная судьба обоих любящих. Сын мог быть хорошим человеком, но отеческая потачка сгубила его. То же слабодушие обратило привязанность в поклонение, чуть не обожание. Как в Боге немыслимо никакое несовершенство, так не хотел видеть его и в своем Авессаломе ослепленный родитель. А несовершенства между тем росли со дня на день до того, что поворот к лучшему оказался невозможен для сына. Кончается дело тем, что испорченный любимец бесчестит отца и в доме, и всенародно, возмущается против него, лишает его престола, изгоняет и преследует на смерть. Не поверил бы всему этому, если бы действительно не происходило так. А когда преступный сын понес достойную зверства своего казнь, отец неутешно рыдал о нем. Рыдание, как и прежнее ласкание, – оба напрасные и безвременные, говорят нам все о той же бездне, из которой нет выхода слабодушному. А так как слабых душ вообще больше, чем сильных, то не сочтем лишним взять урок и у ненаучившегося ничему доброму Авессалома. Отцы и матери! Памятник печальных дел и свойств недоброго сына здесь у всех на виду. Если у вас или у детей ваших или у ваших близких и знакомых заприметится там где-нибудь, на необъятном пространстве России, подрастающий Авессалом, памятию Иерусалима да подвигнетесь вы к тому, чтобы не дать ему дорасти до зверя, на естество (против природы) восставша.
Темный образ Авессалома дает видеть за собою во всем блеске лик другого сына Давидова – преславного Соломона. Если Давид основал, то Соломон возвеличил Иерусалим. Прославился же он тем, что был премудр и что воздвиг храм Богу в Иерусалиме. Бог видимым знамением, как было во времена Авраама и Моисея, явил свое благоволение к здателю; это уже одно показывает, что за человек был Соломон. Он родился после грехопадения родителя, был сын покаяния, так сказать, воспитался в правилах строгого благочестия и в страхе Божием, «бысть, – скажем словами Писания, – вождь всех царей от реки Ефрата до предел египетских» (2 Пар 9: 26). Но, царствуя мудро и славно над другими, Соломон не сумел царить над собою. Подданные ума его – сердечные пожелания – взяли верх над ним, и рачитель премудрости под конец жизни своей превратился, по слову Великого Канона, в рачителя блудных жен и отступил от Бога! Страшно подумать. Он, чудный благодати премудрости исполненный, объюродел, забыл все и стал поклоняться идолам, потому что им кланялись его жены! Когда вы, идучи по трогательной памяти «потоку Кедрскому», спускаетесь к Силоаму, по левую руку у вас возвышается гора, от времен Соломона зовомая «горою Соблазна». Там ослепленный мудрец соблазнял народ израильский жертвоприношениями идолам, – в виду им же воздвигнутого храма истинному Богу! Что же? Сказать ли при этом: мудрые, берегитесь стать безумными, державные – рабами неключимыми, славные – позорными, писатели и учители народные – бичами народа и старцы, убеленные сединами, – посмешищем детей?.. Отложи грехи поне на старость, говорит чьей-то душе песнописец. И нужно ли договаривать: чьей?..
Древо не благо не замедлило сотворить плоды злы.
Славное извне царство Соломоново, как надобно думать, не было образцом благосостояния внутри. Рачитель несчетных жен не мог быть рачителем довольства народного и обременял людей налогами. Сыну и преемнику его пришлось горько расплатиться за погрешность отца. Третий царь иерусалимский, Ровоам, при самом вступлении на престол, столкнулся с подавленною волею народною и бедственно вышел из борьбы с нею. Кому неизвестно, как происходило дело? Юный властитель земли сей, на заявление народное, обещал подумать в течение трех дней. Прекрасное решение! Видно, что то был сын премудрого. Он немедленно созвал совет из старейшин, служивших верой и правдой отцу его. Но, вслед за их мудрым внушением, обратился еще за таковым же к своим молодым сверстникам и совоспитанникам. Легко предвидеть, что за решение должно было выйти из голов юных, отуманенных чадом славы, или хотя одной молвы, хотя одной новости. От 12 частей Давидова царства осталось за юным государем, вследствие советов незрелых, только две! Обращались мы выше к отцам и матерям, обращались к старцам, умаляющимся умом. Обратиться ественно теперь к «головам юным», которые «теплые» люди удостаивают еще именем «горячих». Иерусалим много раз их носил на себе, носил и тогда, когда у него не было ни царя, ни жреца, ни судий, ни пророка, и когда дело шло о потере не 10 из 12, а всего, что держали неискусные руки… Но не нам учить Иерусалим. Мы собрались сюда учиться у него. Случаев, подобных Ровоамову неудачному совещанию со старыми и юными, не искать стать во всех слоях общественной и домашней жизни. Итак, кого Бог призвал управлять хоть чем-нибудь на свете, тому необходимо взять урок и у третьего царя иерусалимского, чтобы не повторить его печальной ошибки.
Из потомства Давидова, царствовавшего в Иерусалиме, еще могли бы мы привести в назидание себе несколько поучительных имен. Несмотря на то что им досталась в обладание только шестая доля древнего царства, престол их был силен и славен паче престола отпадших 10 колен. Причиною сего, как объясняет Святое Писание, были личные заслуги пред Богом Давида и особенное благоволение Божие к Иерусалиму, «Иерусалима ради града, его же избрах Себе от всех колен израильских» (2 Пар 12: 13; 3 Цар 11: 32), на положение имени моему тамо (3 Цар 11: 36). – Так объясняет причину сам Бог. Посему в общем ходе ветхозаветной жизни уже не важно было – царствовали ли здесь благочестивые венценосцы, каковы: Аса, Иосафат, Езекия и Иосия, или вероотступники, вроде Охозии с Озией, Ахаза с Иоахазом. Великий Канон мало занимается ими, и если упоминает о ком-нибудь из них, то только по соприкосновенности с ними великих Пророков Божиих: Илии, Елисея, Исаии, Иеремии. Как будто и существовали они только ради избранника Божия – Иерусалима, на котором положено имя Господне – неизгладимое, вечное. Вещественно Святой Град неоднократно, в течение веков, почти исчезал с лица земли; но в общем убеждении человечества не переставал существовать ни на одно мгновение. И счастливою, и злополучною судьбою своею он равно действовал постоянно и неизменно на сердца верующих, как не действует ничто другое на свете, и, конечно, главнее всего – направляя их к спасительному покаянию. Действовал же наиболее путем жаления, умиления, сокрушения, так как, по особому смотрению Божию, редко можно было восторгнуться от радости, вспомнивши Иерусалим. Уходя вместе с богомудрым писателем и наставником нашим из пределов ветхозаветных указаний, унесем, на память себе, его душеполезный совет: подражай его плачевному житию и спасешися.
Из девяти песней Великого Канона только одна последняя посвящена писателем памяти новозаветных лиц и событий, да и те все средоточатся около одного и того же образа и подобия души боголюбивой – Христа вочеловечившегося, плоти нашей приобщавшегося, и вся, елика суть естества, хотением исполнившего, греха кроме. Будем верны и мы духу песнописца, – не распространимся об указаниях Нового Писания, вводящих душу ко умилению. Евангелие говорит нам о них ежедневно, и все они нам известны, так сказать, наперечет. Разбойники и блудницы, фарисеи и мытари, и прелюбодеивающиеся, и весь сонм грешников, предвосхищающий царствие Божие у праведников буквы законной, – стоят у всех перед глазами. Расслабленный, кровоточивая, хананея, самаряныня, юноша умерший, сотнич отрок, Иаирова дщерь, беснующиеся, прокаженные, слепые, хромые, глухие, немые, ничащие низу: не знакомые ли это все наши от дней раннего детства? Это уже не примеры только нам, а как бы мы сами, – те же Христовы слушатели, спутники, собеседники, – каждый с своим недугом, с своим горем, своим помыслом, мольбою и надеждою, – ах, лишь бы только не с своим требованием, не с укором, не с сомнением и – всего хуже – не с отрицанием. В Великом Каноне упоминаются Закхей, Симон Фарисей, сестры Лазаря, Марфа и Мария, – люди, если и сомневавшиеся и возражавшие, то все же глубоко верующие. А нет там ни Каиафы-христоборца, ни Пилата-христоубийцы, ни Иуды-христопродавца. Явный знак, что о них даже и вспомнить не стоит сердцу кающемуся.
Взамен того, ярко блестит в святых песнях Христов светильник, благодати Предтеча, горлица пустыннолюбная, глас вопиющего, проповедующий покаяние. На утренний, пробуждающий свет его глядел бы и не нагляделся всю жизнь!
Каждую из своих девяти песней богомудрый «покаяния учитель» заключает ублажением самого светлого и чистого и дорогого из образов новозаветных – избранного и предуставленного от вечности в посредство между Божеством и человечеством, – Богородительницы пречистой, естеством Девы, нетленной, безмужной, Владычицы чистой, единой всепетой, престола Господня, надежды и предстательства и матери жизни нашей. Сколько в словах этих любви, веры, радости и богословствующей мысли у человека Божия! И все это нам свои, родные звуки! Под их утешающее напевание мы и родились, и крестились, и воспитались, и живем, и движемся, и есмы. Они же нам слышатся и здесь, сопутствуя нам в наших любимых странствованиях в Горнюю, в Вифлеем, в Гефсиманию, – всюду, где только воображению нашему дан повод видеть Ее тихий, как свет вечерний, и поистине чудный и, если бы мы дерзнули так выразиться, – ненаглядный облик. От них, как от света тени, бегут в глубокую подзаконную древность и все, вызванные Великим Каноном и нашим словом, примраченные черты, затмевающие желанный образ богоотца Давида, со всем его полуясным, полумрачным потомством, закончившимся неожиданно, может быть, для него самого такою яркою и лучезарною звездою небесною! При Ее только искупительном и очистительном светении и стало возможным прославляемое и поклоняемое чудо из чудес – бессеменного зачатия рождество несказанное.
Аминь.
А. А.Иерусалим,19 февраля 1876 г.