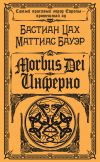Читать книгу "Инферно"

Автор книги: Айлин Майлз
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Айлин Майлз
Инферно
(роман поэта)
Inferno
Copyright © 2010, 2016 Eileen Myles
All rights reserved
© Юлия Серебренникова, перевод, 2019
© No Kidding Press, издание на русском языке, оформление, 2019
* * *
Посвящается Мишель Ти
Рассеянный человек тоже может вырабатывать привычки.
Вальтер Беньямин
Инферно
У моей преподавательницы литературы была очень красивая попа. Мы видели ее, совершенную и округлую, когда Ева Нельсон писала на доске какое-нибудь важное слово. Реальность или, может быть, иллюзия. Она открыла дверь. С каждым движением плечей и руки, которая мягко, но с нажимом выводила буквы, предназначавшиеся для наших глаз, ее попа легонько покачивалась. Меня никогда раньше не учила женщина с телом. Что-то медленное, ужасное и светящееся происходило во мне. Я стояла у подножия рая. Она открыла дверь.
На ее семинаре по мировой литературе нас таких, из католических школ, было много. Мы не особо отличались друг от друга: восемнадцатилетние ребята, которые ходили на Благословение кораблей покричать и выпить пива, учились в Пресвятом сердце, играли против команды Девы Марии. Не то чтобы мы сильно отличались от остальных. Все, как мне казалось, жили в более-менее католическом мире. Но те из нас, кто не знал ничего кроме, – мы были особенно заметны. Если нам в голову приходила какая-то мысль, что-нибудь важное, мы принимались шипеть: Сст. Сст. Как стайка змеек. Мы имели в виду: «Сестра». Сестра, посмотрите на меня. Спросите меня.
Ева Нельсон читала с нами Пиранделло. Что здесь действительно важно: и тут она повернулась к нам своей изумительной грудью. Я заметила, что когда женщина начинает преподавать, она обзаводится гардеробом, который немного отличается от того, что она обычно носит. Например, позже в том же семестре я пришла на вечеринку, которую она устроила у себя дома в Кембридже, и она сидела на диване в рубашке своего мужа. Он оказался красивым и сдержанным молодым мужчиной по имени Гэри, это он был Нельсоном, и она была в его рубашке, и ее груди вообще не было видно, но у нее была коллекция кофточек из джерси – желто-коричневая, персиковая и светло-золотистая, а одна, кажется, была прямо белая. В основном она носила теплые цвета – ничего прохладного, ничего синего. Ничего цвета пустого неба – только цвета солнца, горячего и далекого, ее грудь была прямо передо мной, я смотрела на ее лицо и чувствовала, что живу.
В моих любимых передачах по телевизору я к тому моменту начала замечать, как все может быть немного иначе – или совершенно по-другому, например, человек покупает газету в киоске, бросает четвертак в тарелку для мелочи, как делает это каждый день, а монетка встает – потому что она так отскочила от других блестящих монеток в тарелке – встает на ребро. И потом весь день этот человек слышит мысли людей на улице, мысли своей жены, своей секретарши и даже собаки. Это было безумие, и на следующий день он снова бросает монетку. Привет! – говорит ему парень за прилавком, который продает ему газету каждый день. Тут вчера один тоже бросил, и я – эй, да это же ты и был. Лица этих двух мужчин, настоящие человеческие лица, увеличиваются, и музыка, которую вы до этого не замечали, прекращает играть. Эй, да это же ты. Ага, это я.
Детство было как будто чем-то укрыто. Думаю, дело в монашках. Своими головными уборами, похожими на ведерки мороженого, плотными, ниспадающими черными одеждами, которые слегка касались покрытия школьного двора и пропитанных маслом деревянных полов моей школы, монахини окутывали мир благоразумием и богом. Правила заливали календарь, циферблат, и день, и небо, весь мир был правилами – ведом богу, говорили монашки.
Фантастическая грудь Евы Нельсон подпрыгивала, когда она рассказывала нам о модерности, о безысходности, о неопределенности, об ощущении уязвимости и о возможности другого – что это только сон, все это. Если, бросив монетку, можно высвободить скрытый хор голосов – что ж, возможно, это и правда сон. Но мы не знали, не могли знать, мы жили в этом.
Следующая книга, которую мы будем читать, сказала она, на время отодвигая экзистенциализм в сторону, была написана гораздо раньше. Это часть литературного канона, но книга очень современная, политическая. Ее глаза так здорово сверкали, когда она говорила что-нибудь умное. То есть постоянно. Она не строила из себя, не забрасывала нас словами. Она как бы подружилась с нами, как с волками, и верила, что волки хорошие и их можно научить. Но она была из Нью-Йорка, из еврейской семьи, и родилась сразу умной. Она была блондинкой. Евреи бывают блондинами? Я не знала. Мне столько еще предстояло узнать. Иногда на ней была зеленая кофточка или вроде того, но она никогда не носила ничего темнее.
Данте не мог говорить о своем времени иначе как в поэме. В стихах «Ада» зашифровано очень много всего. И дело не в цензуре. Это была эпоха не сатиры, а аллегории. Убеждения Данте в структуре поэмы – как окна в здании собора. Ее глаза блеснули. О Господи.
Я знаю, как помочь вам с этим текстом. Она делала паузы, когда говорила, чтобы мы за ней успевали. Нет, она не думала, что мы тупые. Я чувствовала, как ее глаза встречаются с моими. Ты не тупая, Айлин. Она знала меня. И это было лучшее, что когда-либо со мной происходило. Еще до всех событий, бесповоротно изменивших мою жизнь, я почувствовала, что она уже знает меня. Я сидела в ее кабинете на Коламбус-авеню, в здании «Салада Ти», в Бостоне, был вторник, середина дня, и меня видели – еще до слов, до всего. Она делала паузу и давала словам время осесть. Время у нас было.
Я хочу, чтобы каждый из вас написал «Ад». Класс застонал. Тогда было время Данте. А сейчас – ваше. Она улыбнулась.
Теперь оно было нашим. Я покажу ей свой ад.
Возвращаться домой было хуже всего. Я жила в Арлингтоне, совсем рядом с Бостоном, но вы, наверное, понимаете, что это был другой мир. Весь этот свет заполнял мою голову и изливался наружу в грязном городе, куда я приезжала на занятия, – а потом я ехала домой. Как правило, я либо болталась без дела, пока не освободится Луиз – девушка из Лексингтона, с которой я недавно познакомилась, либо ехала сама. Стоило начать двигаться в сторону дома, как у меня портилось настроение. Мне становилось плохо, и если я хотела, чтобы Луиз меня подвезла, мне приходилось ждать, но от этого с каждой минутой я чувствовала себя все паршивей, или же я не тянула и отправлялась в свое жалкое путешествие одна.
Бостон не поддавался логике. Арлингтон-стрит – вся нарядная и яркая, с блеском в стеклах, с темными церквями. Доезжаешь на трамвае до Парк-стрит. Стоишь в метро, смотришь на Бостон, нарисованный на стене. Бостон был не для Бостона. С чего тебе смотреть на рисунок, изображающий место, в котором ты и так находишься. Бостон был обращен наружу. Казалось, сам по себе он не существовал. Люди сюда приезжали.
В трамвае все вечно были старые и усталые. Сходишь на Парк-стрит, каждый шаг дается с трудом – как под водой, спускаешься на красную линию, стоишь и ждешь поезда в сторону Гарвард-сквер. Автобус до Арлингтона – это было уже полное поражение. Как будто не было никакого колледжа. Автобус поворачивает у «Мебельного магазина Гордона», проезжает мимо пожарной части, мимо которой он проезжает сколько я себя помню. Идешь по улице Свон-плейс, как в детстве, и столько всего происходит в голове. Я была светом.
Моя семья была как стая злобных кошек. Заходишь в комнату, и обязательно кто-нибудь обернется. А вот и ты. Так что я дожидалась ночи, когда можно было побыть наедине с собой и поработать.
Ты свет не собираешься выключать? Мама стояла в ночной рубашке и, щурясь, смотрела на меня. Я недолго, ответила я. Она что, не знает, что это мой письменный стол? Он был белый с коричневым, коричневая часть – из формики, прохладная. Иногда, в минуты отчаяния, я прижималась к нему щекой, как будто он был живым. Я хотела разбудить свой мозг, хотела, чтобы меня любили. Коричневая часть была сделана «под дерево», а еще там была корзинка с не самыми лучшими яблоками, и когда я училась в колледже, по ночам я сидела на своем столе, в своем мире, ела яблоки, варила кофе и думала.
Итак, мне нужно было написать стихотворение. Данте писал терцинами – то есть в каждой строфе у него по три строки. И еще, конечно, вся эта система рифмовки. В начальной школе я могла сочинить стихи о чем угодно, просто могла и все. Я была той-девочкой-которая-придумывает-смешные-стишки, все быстро узнали, что я это умею, и постоянно просили сочинить что-нибудь. Вон про нее. А там через улицу какая-нибудь девочка в скаутской форме. У девочки-скаута в зелененькой форме / очень строгие моральные нормы.
Я не понимала, что тут такого сложного. Ведь католики так и живут, днями напролет отмеряя ритм собственными телами. Поэзия, наверное, изменилась. Ведь Ева Нельсон имеет в виду весь мир. Так что, может, у меня там будет Элдридж Кливер, и Тедди Кеннеди вроде как козел, я дам ей понять, что я не думаю про кого угодно, что он хороший человек, просто потому что он католик. Я не такая наивная. Уильям Ф. Бакли вот вроде умный…
Но писать стихотворение. Захватывающе. Мне всегда было сложно печатать на машинке. Бумага была очень мягкая и вечно застревала, маленькие прямоугольники с исправлениями, которые я наклеивала поверх ошибок, всегда выглядели лучше, чем страница целиком с прыгающими по ней буквами. Кажется, до этого я никогда не печатала стихи, и было трудно делать одинаковый отступ слева, потому что каретка на моем «ройале» проскальзывала на возврате.
И все-таки я знала, что делаю, у меня была план, и я загибала пальцы, чтобы считать, и все умещалось и звучало здорово, и поэт устал, и я устала – и не спала всю ночь.
Айлин, ты что, так и не ложилась?
Я помню, что растерялась, когда увидела, как остальные кладут свой «Ад» на стол Евы Нельсон. Все написали эссе. О господи. Я что, сделала что-то не так. Мне всегда легко давались творческие задания – это был мой конек. Если в школе была возможность что-то нарисовать или написать, поставить пьесу или еще что – я всегда это делала, это были мои проекты. Монахини считали, что я немного отстаю в развитии, а таким было позволено отличаться, если они вели себя тихо, поэтому я не вылетала из школы.
Когда я занималась каким-нибудь проектом, время останавливалось и можно было мечтать. Что мне не нравилось во взрослении, так это то, что все хотели, чтобы ты сосредоточилась и не отвлекалась. А я от этого только нервничала, нервничала постоянно, и становилось все хуже и хуже. Что учеба может быть чтением книг, что главное, что от тебя требуется, – это думать и мечтать, – в этом было столько надежды, но что если я ошибалась. Мне было нехорошо, и я ничего не говорила обо всем этом в «корвейре» Луиз, мы обогнули озеро, свернули на шоссе номер два, я была дома.
Ну что, – она улыбнулась. В тот день Ева Нельсон выглядела особенно счастливой. Иногда она носила медальон, и сегодня он был на ней. Я думала, что он что-то значит. Он подчеркивал ее груди – я не могла смотреть. И все-таки он что-то значил. Студенты еще заходили в класс. Она выглядела загадочно, как будто у нее был для нас сюрприз. Как будто она хотела сказать нам что-то хорошее. Я сидела тихо. Я двигалась вместе с комнатой. Была весна.
Сегодня я раздам вам ваши работы. Некоторые меня особенно впечатлили. Теперь у меня есть представление о ваших взглядах, мы живем в мире, гораздо более сложном, чем он был во времена Данте, так что я думаю, вы все и правда постарались, чтобы описать его. Уверена, это было непросто. Было похоже, что она нас дразнит. Некоторые засмеялись, как будто понимали, о чем она. Я и близко не представляла. Только чувствовала что-то сильное.
Один человек действительно написал стихотворение. Айлин, ты не против, если я прочту его для всех? Бывали такие моменты, когда я чувствовала, что буквально тону в жизни. Когда все складывалось так, что я оказывалась в моменте, переполненном возможностью, возможностью, которую невозможно осознать. Это вроде как на тебе те же ботинки, ты так же дышишь, сидишь – кругом люди. Один или двое улыбаются и оборачиваются. Ты их знаешь. Я помню, как Арлин сказала: Лина, как будто даже она почувствовала, что с моего мира сейчас снимают крышку.
И все равно потом я поеду домой. Я буду в Арлингтоне к ужину, и брат с сестрой обернутся, когда я войду в комнату: а вот и ты. Я упаду на диван и буду подпевать любимым песням. Я закрою глаза. Я буду петь. Может быть, я поступлю в магистратуру. А на выходных я напьюсь, встречу кого-нибудь симпатичного, и мы, наверное, будем целоваться. Я любила целоваться. Любила забыться в пьяных объятьях. Быть с кем-то, чувствовать, что я могу быть такой, превратиться, отпустить все. Однажды меня поцелует женщина. Я даже могла это почувствовать. Возможно, я не всегда буду жить в Бостоне. Буду путешествовать. Моя жизнь изменится. Все в моей жизни было на своем обычном месте, но я не могла удержаться на ногах, как будто огромная волна обрушилась на меня и сбросила за борт, и я очнулась, или это во сне, или я умерла, я не знала – нет, я не могла говорить.
Я не помню, как она читала. Я помню, как она читала меня. Помню, как она читала мое стихотворение. Как она держала в руках то, что я написала, светящийся листок, мой, который вышел из унылой печатной машинки, стоявшей на кухонном столе в доме номер тридцать три по Свон-плейс. Эту печатную машинку подарил нам отец, она даже еще не была моей, она была нашей, семейной. Она станет моей, когда я уйду из дома. Я уже ушла, я возьму ее с собой, но сейчас все в классе сидели, слушали, а Ева Нельсон стояла и читала мое стихотворение. Волны накатывали и накатывали.
Нам нужно поговорить как-нибудь, Айлин. Можем назначить встречу. Я молчала как собака. Выхватила стихотворение у нее из рук и вышла в коридор. Я вижу свое лицо в лифте, среди других лиц. И в поезде, и на улице, я улыбалась и улыбалась.
Я вдруг поняла себя, вот и все. То, чем я всегда занималась, потому что была глупой и ненормальной, – необязательное, но особенное… что-то безумное – может быть, это и есть мое дело? Эта мысль промелькнула мгновенно, как крошечный огонек, и исчезла.
Поэтическая сфера
Мой номер этой девушке дал мой сводный брат. Она позвонила как-то днем, когда я стояла у себя на кухне, на Томпсон-стрит. Я, как обычно, была без денег, голодная, ну, может, булочку съела, у меня оставалась пара сигарет и определенно не было никакого плана. Я начинала потеть. Просто немного пота от умеренного голода, а потом это чувство. Просто чувство, что я, может, вообще не выйду из дома, хотя у меня серьезные неприятности, относительно серьезные, в общем, когда зазвонил телефон, я, понятное дело, сняла трубку.
Я познакомилась с твоим братом Эдди в «О’Генриз». В Гринвич-Виллидж, добавила она, как будто это должно было меня впечатлить. Вообще-то, он мой сводный брат. Она даже не запнулась. «О’Генриз», звучало правдоподобно. Мы с ним как-то ходили туда выпить, один раз точно. Там было дорого, и, хотя у меня это название всегда ассоциировалось с шоколадным батончиком, я понимала, что это, по идее, было писательское место. Мой сводный брат работал в рекламном агентстве и в нашей семье считался настоящим писателем. Не блудным поэтом вроде меня. Э… да… сказала я, с телефоном в руках оглядывая кухню, пятна солнечного света, этот день и его скудные перспективы. Он сказал, что ты наверняка сможешь рассказать мне, как все устроено в поэтической сфере. В поэтической сфере – я даже не отняла трубку от уха и не посмотрела на нее в недоумении, как это делают по телевизору. Поэтическая сфера, неплохо. Интересно, брат что, решил подшутить надо мной? Она, кажется, сумасшедшая. Я подумала, может, нам с тобой встретиться где-нибудь и выпить? Я тут пока не очень ориентируюсь.
Знаешь бар на Вэйверли-плейс? В подвале, очень симпатичный, там, кажется, тусуются писатели и художники. «Локал», – подсказала я – да, это недалеко от меня. Так что, встретимся? В четыре нормально, сказала я, вешая трубку и оглядываясь. Из моего окна было видно сотни других окон, из которых на меня смотрели или не смотрели. Я все время вспоминала «Окно во двор».
Однажды утром – я не уверена, было это до или после, но это даст вам представление о моей жизни в то время, – я проснулась довольно поздно. Тогда я в основном работала официанткой. Я работала официанткой и встречалась с парнями, но думала о девушках. Обычно я закрывала место, в котором работала, и отправлялась в другое – с тем, кто оказывался рядом. Мне нравится анонимность толпы, нравится теряться среди незнакомцев. Я выглядела как все и была частью поколения, которое это вполне устраивало. У меня были длинные волосы, довольно красивые, между прочим. Так вот, однажды утром я лежала на своем матрасе, и тут зазвонил телефон. Он стоял на полу в другом конце комнаты. Я несколько раз споткнулась о книги и пластинки. На третьем звонке я сняла трубку. Это Айлин Майлз? Э… да. Я была голая, накануне я допоздна пила и теперь чувствовала себя жирной. Вы живете на Томпсон-стрит, квартира сто пять? Да. Может, я что-то выиграла. Отлично, у нас тут ружье, и сейчас оно направлено прямо на вас. На пол! И я упала. А теперь я хочу, чтобы вы – в эту секунду до меня дошло, что я могу просто повесить трубку, и я ее повесила. Когда позвонила эта девушка, я стояла перед всеми этими окнами.
Я надела белую рубашку, посмотрела в зеркало, порылась в карманах и нашла тридцать семь центов. Я взяла сумку, чтобы выглядело так, как будто мне есть что в ней носить. Сунула туда книгу. На мне не было носков – была ранняя осень, безработное время. По голосу она молодая и какая-то жалкая, но, возможно, у нее есть деньги. Может, она купит мне выпить. Главное – шевелиться, подумала я, закрывая дверь.
И она так и сделала. Она купила мне «Хеннесси». Я взяла тебе «Хеннесси», она улыбнулась с таким видом, как будто сделала что-то хорошее и вообще понимала кое-что в жизни. Она была молодая, если мне было двадцать семь, то ей – двадцать один или двадцать два. Из Су-Фолс, сказала она. Было похоже. Рыжеватая блондинка с длинными прямыми волосами, вся в светлых веснушках, немного гнусавит. Она говорила очень быстро, без умолку. Не ясно было, умная она или нет, но подкованная. Кое-что она знала, но не особо разбиралась. И она хотела стать писательницей. Она рассказала, как ходила со своей тетрадкой в какое-то издательство вроде «Харкорта, Брейса и Йовановича», пробилась через администраторов, налетела на какого-то редактора на верхнем этаже высоченного здания и заставила его и еще пару человек прочесть ее рукопись. Она была абсолютно сумасшедшая, но в этом что-то было. И что они, спросила я. Они были очень славные, посоветовали пообщаться с другими писателями, может, перебраться в центр.
И вот… «О’Генриз» – она пожала плечами и улыбнулась. О, это было умно. Я почувствовала за этим нашим девичьим разговором серьезную депрессию, гора отчаяния наблюдала, как эта девушка подбирается ко мне, ее странные маниакальные надежды и дурацкая тетрадь с каждой секундой подползали все ближе и ближе. Я ждала, когда она скажет: давай я прочту тебе что-нибудь, и потом я буду сидеть, потягивая свой «Хеннесси», слушать ее банальные стихи, и все потому, что у меня нет денег. Но если я прислушаюсь к ней, действительно прислушаюсь, то, может быть, я смогу не обращать внимания на эту гору тоски, может, мне станет интересно, я отвлекусь, и мне покажется, что это и есть жизнь. Романтика и тоска. И я в ней. Ну и так и получилось.
Тебе нужна работа? Мы собирались взять по третьему стакану. Она продолжала вытаскивать из кошелька двадцатки, и я заметила, как из-за них выглядывает маленькое лицо Бенджамина Франклина, так что деньги у нее откуда-то были. Но она доставала их аккуратно, как ребенок. Бедный и смышленый. На лампах над нашими головами были коричневые бумажные пакеты. Из-за этого свет в зале был мягкий, как будто все освещалось теплом. От выпивки мне стало лучше. Хочешь колы? Она пила «Хеннесси» с колой. И правда здорово, сказала я. У меня закончились сигареты. Вот, возьми мои, она заговорщицки улыбнулась. Она была такая девушка-девушка, немного простоватая, но при этом она напоминала мне девочек из начальной школы, которые становятся твоими лучшими подругами на пару недель, ну знаете, как это бывает. Кэти Хастон, например, была очень хорошенькая и всегда придумывала самые лучшие игры, но главным для нее было не попасться монашкам, так что, когда одна из них услышала, как мы смеемся в церкви, я сразу оказалась в немилости, Кэти больше со мной не общалась. Я заставила ее покраснеть – переживание, приоткрывшее что-то во мне.
Она объяснила, что осталась без вещей в первый же свой день в Нью-Йорке, прямо на Центральном вокзале. Ты приехала на поезде? Нет, на автобусе. Мне кажется, на Центральном нет автобусов. Ее вещи лежали в камере хранения, и каким-то образом ее ограбили, и у нее ничего не осталось, и она оказалась здесь совсем одна и около часа просто бродила по городу, а потом решила выпить на последние семь долларов, зашла в отель «Карлайл» и села за барную стойку напротив телевизора. Парень, который сидел рядом, завязал с ней разговор, он был очень славный и предложил угостить ее ужином. Оказалось, что он в городе всего на пару дней, в общем, она осталась с ним в отеле и они отлично провели время. Вот как раз тогда она и ходила по издательствам. Днем его не было, он работал, и она решила, что ей, наверное, тоже нужно что-то делать. Так быстро писательницей не станешь, это долгий путь. Не уверена, что у меня есть на это время, призналась она и потушила свою сигарету «Бенсон и Хеджиз». Да, знаю, это тяжело, сказала я.
Мне не хотелось об этом думать. Она начинала меня раздражать. Этот парень из отеля закончил с работой и уехал домой в Калифорнию или еще куда-то, но перед этим он сделал кое-что странное, сказала она. Он дал мне четыреста пятьдесят долларов. Ты шутишь, я раскрыла рот. За что. Вот и у меня был тот же вопрос, воскликнула она. Она действительно закричала и случайно опрокинула свой стакан. Наверное, нам пора. Ага, кивнула я. Классная худая девушка в коротком топе принесла нам счет в коричневой пластмассовой тарелочке. Мы были парой неудачниц. Спасибо, хорошего вечера, сказала официантка, когда Рита выложила еще пару двадцаток. Ты голодная? Ее звали Рита. Когда она сказала: меня зовут Рита, она протянула мне свою длинную руку так, как будто она лет тридцать в бизнесе. Теперь мы шли вниз по Восьмой.
Он сказал, что они могут мне понадобиться. В смысле деньги, спросила я. И они и правда были мне нужны. Конечно, я пожала плечами. Так что вечером я сняла себе номер в «Карлайле» и на следующий день снова пришла в бар. Ко мне снова подсел парень. Блондин, волосы ежиком, пояснила она. Сам он был из Нью-Джерси, но на неделе оставался ночевать здесь. Я сказала, что только что приехала, он сказал, давай я покажу тебе город. Он отвел меня в «Локал». «Локал», поправила я. Она просто посмотрела на меня, у нее были бледно-бледно-голубые глаза, и в них читалось только: ты вообще не понимаешь, о чем я. Уверена, что так и было.
Ей не было никакого дела до поэтической сферы. Второй парень хотел трахаться всю ночь. И я была не против, заметила она, но утром он сказал, ты же проститутка, правильно.
Я просто потеряла сумку, объяснила она мне, как будто я была этим парнем. А он говорит, и что ты собираешься делать, и сует мне в руку два полтинника. Я убрала их в сумочку, она пожала плечами.
Бармен, очень славный человек, сказал мне, что если я тут еще задержусь, то у меня наверняка будут проблемы. Я сказал ребятам на стойке регистрации, что ты моя племянница. Он улыбнулся и налил ей еще выпить. И они мне не поверили.
Я поселилась в «Уорике», сказала она. Там не так славно. «Карлайл» был в старом стиле. К этому моменту я уже думаю, что она такая же ненормальная, как я. Но у одного человека, который там остановился, очень славного, кивнула она мне, есть деловой партнер, который приезжает в город завтра, – итальянец, ну, то есть два итальянца. Торгуют итальянскими сумками. У меня назначено свидание с ними двоими, но я должна привести подругу. Она улыбнулась мне так ласково, одними губами. Едва заметное усилие, почти звук. Она была немного не в себе, но, господи, она была хороша. Кажется, она хочет, чтобы я стала шлюхой.
Это просто свидание, сказала она. Я никого здесь не знаю. Нам не придется ничего делать – эти парни, им просто одиноко. Мы поужинаем. Сходим на дискотеку, сама увидишь. Но я не хочу встречаться с ними одна. Теперь она выглядела немного напуганной и отчаявшейся. Она обрабатывала меня. Когда твой брат –
Мой сводный брат.
Прости, когда твой сводный брат сказал, что его сестра поэт и живет в центре –
Ты сразу поняла, что мне нужны деньги.
Ну, да.