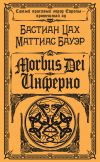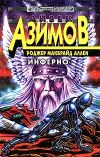Текст книги "Инферно"

Автор книги: Айлин Майлз
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Чтения
Я шла на восток. По пути я курила, это помогало скоротать время, к тому же люди держались от меня подальше. Ну, не прямо так, но определенный эффект был. Куда идти, я узнавала из «Войс», сзади на обложке публиковали анонсы чтений. По вторникам поэты собирались у Эмили Глен, на Ди-авеню, это где социальное жилье. Она была славная, ну в общем-то и все. Ей было что-то около шестидесяти, и выглядела она как то, что стало с Бэби Джейн. Она угощала нас чаем с домашним печеньем, и у нее был любимый лоснящийся стул, и два толстяка сидели на диване, и иногда приходил смуглый, довольно молодой парень. Джеймс. Мою собаку звали так же, и это совпадение меня смущало, но собака эта была у меня недолго. Джеймс, парень, был чересчур серьезным, но по-своему сексуальным, думаю, у него была жена. Он был богат. Было не совсем ясно, чем он занимается. Вроде как он строил какие-то здания, но в это было трудно поверить. Лет ему было примерно как мне, но обращался он со мной как с маленькой девочкой. Не хочешь почитать нам, спрашивала у меня Эмили. Вперед! – улыбался Джеймс. Подбадривая меня. Я пожимала плечами и, держа листки на дрожащих коленях, вся в поту, читала для этой невообразимой компании чудиков, частью которой я была.
Когда я бросила Квинс-колледж и осталась просто жить в Нью-Йорке, мне казалось, что я в какой-то гигантской бочке и все падаю и падаю, но это и была жизнь, разве нет. Я написала стихотворение, оно называется «Когда уходишь», и оно об этом прыжке в ничто, о том, как это – перестать пытаться быть хорошей, бросить учебу и вместо этого попытаться что-то сделать. Я даже не могла как следует объяснить себе это. Я просто продолжала падать.
Стоит подумать об этом,
когда уходишь.
Мне было так неприятно, когда Рита спросила о поэтической сфере, потому что я сама спрашивала. Я ни черта не знала. И все же я верила. По четвергам я ходила в подвал в Верхнем Вест-Сайде, на его самодельной вывеске было написано: «Инфинити спейс». Вывеска была фиолетовая, а буквы – как черные руны. Дэн как-то-там, с дивана Эмили, мурлыкал в микрофон, практически полностью сооруженный из изоленты. «Инфинити спейс» принадлежал ему, и он направлял эту ночь своим мягким, полным чувства голосом. Он был чрезвычайно обходителен с женщинами, так обходителен, что я подозревала, что он говнюк. Он не был феминистом, он был просто озабоченный. Иногда я по два часа ждала, чтобы подняться на сцену и прочесть стихотворение, меня вообще никогда не вызывали. Какая-то женщина, вся замотанная в шарфы, сидела склонившись над списком выступавших. Она поднимала глаза, оглядывала зал, качала головой и возвращалась к списку. Такое давление. В один из вечеров свои стихи читала женщина в цилиндре по имени Альта, из Калифорнии; стоя перед микрофоном, она расхваливала свое замечательное издательство, которое называлось «Бесстыжая девица» и выпускало эти прекрасные (это она так сказала) книги, а они выглядели самодельными и дешевыми, хуже даже, чем комиксы. Тускло-голубые, серые, пыльно-розовые. Унылые цвета. Цвета непригодившейся бумаги. Я их узнала. И она проделала весь этот путь из Сан-Франциско, и она была старая, ей было лет тридцать пять, не меньше, и еще она была лесбиянка. Кажется, она говорила что-то о бисексуальности. Как будто это была их работа, этих людей, – говорить своими густыми голосами о сексе, как о чем-то крайне важном. Было ясно, что я смогу отважиться войти в этот мир, только если буду одна, потому что будь у меня друзья, они бы просто рассмеялись, увидев всех этих ненормальных, но в Нью-Йорке я посвятила себя жизни, в которой мне не оставалось ничего другого. Если это то, что делают поэты, если они вот такие, я с ними. Это был профессиональный выбор. Было самое время браться за дело. Днем я почти всегда сидела дома, если только не шла в кофейню, чтобы писать там, так что вечером мне нужно было приключение – выйти на сцену, как в той песне Джони Митчелл: «она клеит свои печали скотчем к стойке микрофона», – это про меня, и я знала, что однажды стану знаменитой. Все это было необходимо – я проталкивалась в неизведанное, пусть иногда это и значило сидеть в зале, полном придурков, в обшарпанных, никому не нужных подвалах и ждать своей очереди.
Один раз очередь до меня так и не дошла. Те, кто успел выступить, рассказывали о своем семинаре в Принстоне и говорили, что я должна к ним как-нибудь приехать, и однажды я взяла и приехала. Я сильно опоздала, ехала на автобусе от «Порт оторити». Я позвонила на чей-то номер, и лысый парень на машине забрал меня с автовокзала, он сказал, что встреча уже почти закончилась, но, может, ты захочешь прочесть нам что-нибудь, я чувствовала себя как шарик, из которого спускают воздух, а когда дочитала и подняла на них глаза, вид у них у всех был абсолютно испуганный, и они спросили, изучала ли я поэзию в колледже, и я ответила нет. Не изучала.
Мне показалось, они думают, что я какая-то дура, из-за того, что я приехала к ним в Принстон; они преподавали в колледже, все эти люди, у них была работа, так что, может, они и не были настоящими поэтами. Притворщики. Кто-то подвез меня обратно до остановки, от всего этого мероприятия я слегка приуныла – я знала, что они считают меня немного сумасшедшей, но они же пригласили меня.
Что я поняла на всех этих сборищах, так это что можно все. Давно пора было. Вся моя жизнь была одной сплошной темой для разговора. И хотя у меня было относительно нормальное детство – у нас был свой дом, я ходила в колледж, каталась с друзьями в их машинах и слушала всякие группы, со мной все-таки успело произойти много вещей, которые я не могла обсудить ни с кем из моего привычного мира. И я прикинула, что перед этими случайными людьми, поэтами, или кто еще они там были, я могу отчитаться обо всем, что у меня на душе, что можно писать стихи об изнасиловании или о том, как я смотрела, как умирает мой отец. Я до сих пор так делаю.
Я была с людьми, но совершенно одна. И я наслаждалась возможностью дышать свободно. Это было искусство. Хелен постоянно была в процессе расставания с Херби, в конце концов она действительно ушла от него и уехала из Нью-Йорка, но до этого, каждый раз когда она предпринимала очередную попытку, мы с ней отправлялись в другой Нью-Йорк – классный Нью-Йорк, мир баров. Было такое место, называлось «Лайонз хэд», и там вроде бы тусовались журналисты «Виллидж войс», но кто их знает. Какой-то парень предложил купить мне выпить. Я сказала ага, а сама думала, не текстами ли он зарабатывает на выпивку. Мне бы подошла такая работа, думала я.
Два парня протиснулись к нам с Хелен в толчее у барной стойки, и мы стали пить и болтать. Кажется, ее парень мне нравился больше, но это было неважно. Несколько лет спустя я вошла в лесбийский мир, вот так же никого не оценивая. Я считала, что быть художником – значит, что ради опыта ты должен попробовать все. Эти парни купили нам выпить, у моего были рыжие волосы, которые он зачесывал назад и получалась маленькая корона. Выглядело странно. Он был похож на солнышко с детского рисунка. У него были светлые веснушки, и еще он разговаривал со мной, немного как будто я была маленькой девочкой или как будто он шептал что-то ласковое в микрофон. Я поэт, сказала я. Это было, как если бы я сказала, хочешь посмотреть на мою задницу, и нагнулась. Очень странно. Он, похоже, был совершенно счастлив узнать это. Его глаза увлажнились. Когда я впервые участвовала в более-менее нормальных чтениях, он был в зале. Мы пошли в этот бар на Бауэри, который назывался «СиБиДжиБиз омфаг». Что это вообще за херня? Каждый раз, когда кто-нибудь объяснял мне, что значит эта аббревиатура, я забывала. А бар становился все популярней и популярней. Хотя там просто слонялись какие-то толстые байкеры. Нью-Йорк вроде как огромное публичное пространство, но на самом деле он весь состоит из миллионов отдельных тусовок. Это вообще не похоже на большой город. Скотт купил мне как минимум три кружки эля, и я читала в кромешную тьму, и, думаю, я сбивалась, но я ощущала вокруг себя тишину, про которую непонятно было, хорошая она или плохая. Я чувствовала, что я как ангел, защищена лучом света. Думаю, я выступила так себе. Но Хилли, управляющий клубом, стал после этого очень мил со мной, называл меня «малышкой». Думаю, я выглядела очень молодо.
В Кембридже я ходила на поэтические семинары в Гарвард-ярде. Одна женщина с семинара сказала, что на нее очень повлияла нью-йоркская рок-поэтесса Патти Смит. Эти два слова никогда раньше не произносились вместе: Рок-Поэтесса. В байкерском баре по средам после чтений были концерты, и иногда я оставалась послушать. Хилли говорил, что это хорошие группы. Там играли Planets. А еще Ramones, Blondie и Talking Heads. Внезапно о них все заговорили. Каждый, кого я знала, выбирал «свою» группу и ходил на все ее концерты. Мне больше всего нравились Talking Heads, но Дебби Харри жила со мной в одном доме и дружила с Тони, так что на нее я тоже ходила. А потом случилась Патти Смит. Едва ли не первое, что я сделала, приехав в Нью-Йорк, – убедила Херби и Хелен пойти со мной на ее концерт в отель «Дипломат». Она выступала с Сэнди Буллом, он играл что-то вроде фолка. У меня была его пластинка. Он как-то приезжал в «Клуб 47» в Кембридже – из-за него они и согласились. Он играл на этой дребезжащей гитаре, которая называется «уд». Патти, поэтесса, вроде немного рисовалась, но мне это нравилось, а потом стало пугать. Она меня сбила. Это был спектакль, как будто если ты забавная и классная – это уже поэзия. Она много говорила между стихотворениями, или песнями, или что это там было. Как на пластинке, когда кто-нибудь весь такой клевый. До этого мне такое никогда не нравилось. Боб Дилан – думаешь, да он обкурился. Даже когда так делал Бобби Дарин, мне становилось неловко.
Там были все ее друзья, маленькая банда, и они кричали что-то, и Патти отвечала, и это явно придавало ей уверенности. Как будто они все были у кого-то дома. Это напомнило мне, как в детстве я побывала на съемках передачи. Четвертый канал заставлял нас выкрикивать всякое, чтобы Большой брат Боб Эмери чувствовал себя комфортно. Патти очень нужно было наше внимание. Это было видно. Неловко было не слушать ее. Невозможно игнорировать. Так она себя ощущала. Это не поэзия, Лина, сказал Херби.
По-моему, это будущее поэзии, ответила я. И сейчас это по-прежнему будущее. Когда Патти выступала в «СиБиДжиБиз», я стояла у бара и меня била дрожь. Не могла ничего с этим поделать. Она была абсолютно серьезна.
После тех чтений Скотт без конца говорил мне, как здорово все прошло. Все прошло ужасно, но люди стали по-другому ко мне относиться, я это видела. Я хочу сказать, когда ты что-то делаешь и люди это видят, и им нравится, то кажется, что надо с ними по-доброму как-то. Но вместо этого хочется убраться подальше. Почему? Мне нужно было побыть одной, и его это бесило. Я должна была подумать о том, каково это – быть знаменитой. Я была на сцене минут пять. Это было так хорошо.
Поэтические чтения были как старое телевидение, когда у каждого было свое маленькое шоу. Только телевидение стало умнее (хуже), с поэзией этого так никогда и не произошло. Она остается глупой, и управляют в ней всем дураки. Это единственный способ держать двери открытыми.
Маргерит Харрис устраивала поэтические вечера в пабе «Доктор Дженеросити» в Верхнем Ист-Сайде. Я еще не знала город, так что чтения были хорошим поводом побывать в разных районах и оглядеться. Пабам и барам само собой не хватало посетителей в часы после бранча, и эту пустоту заполняли поэты. Я все время натыкалась на того смуглого парня. Я встретила его в Верхнем Вест-Сайде, потому что в «Вест-Энде» регулярно проходили чтения. Там было классно – возможно, дело было в том, что прямо напротив был Колумбийский университет, да и само место было отличное. Из-за спины читающего лился свет с Бродвея, и было видно зиму, и голые деревья, и машины, которые мчались по Бродвею, и поэт читал. Все было как в кино. Это был тот же джаз-клуб, в котором я работала по ночам. Столиков было много и никто не ел, так что можно было просто сесть, выпить кофе и послушать. Если вы терпеть не могли школу, то это было как школа, которая бы вам понравилась. Можно было сидеть и писать что-то свое, можно было встать, уйти, вернуться. Можно было съесть сэндвич, правда, я такого не помню. Иногда поэт по-настоящему завладевал залом, вдруг становилось тихо. Я постоянно там бывала. Я ходила посмотреть на всех, это лучший способ разобраться. Получаешь представление о разнообразии.
По воскресеньям были вечера журнала «Амазонка». Я не пропускала выступления лесбиянок, потому что была уверена, что сама стану лесбиянкой. Но сначала я хотела стать поэтом. И мне все еще нравились мужчины. В смысле я старалась. Время от времени встречалась с кем-нибудь, кто мне нравился. Я не торопилась. Поэтессы из «Амазонки» были жутко странные. Дело было не только в том, что они лесбиянки. Это же была планета поэтов. Все странное было странно в квадрате. Они были такими благочестивыми. Это напоминало театр. Почти как монашки. Не верилось, что им действительно все это так нравится. Одна из них даже была в концентрационном лагере, так что она была вне конкуренции. Вся эта культура добродетели и страдания, никто никогда слова плохого не скажет. Так они себя держали. Хотя одна Амазонка, Джоан Ларкин, была похожа на тех, кого я знала. И она пила пиво, слава тебе господи. Помню только, что свет делал ее волосы рыжеватыми. Они у нее были каштановые (как у меня), и читала она относительно нормальным голосом, и еще она казалась немного слишком серьезной, но душевной. Глядя на нее, я думала, что, может, и правда смогу когда-нибудь стать лесбиянкой. Я не помню ее стихов, но помню, что их хотелось слушать. В смысле часто я не слушала. Я просто смотрела. Наверное, как поэта меня сформировало телевидение.
Эта женщина, которая устраивала чтения в «Докторе Дженеросити» (или «Докторе Джи»), выглядела как ведущая детского телешоу из «Убийства сестры Джордж». Это британский фильм. И, возможно, один из первых фильмов о лесбиянках. Она носила шарфы и твидовые пиджаки. Седая. Мы все сидели там и вежливо внимали Маргерит Харрис, которая напоминала нам, что «Доктор Джи» был основан ПОКОЙНЫМ ПОЛОМ БЛЭКБЕРНОМ. Это был человек, чье отсутствие стало главной характеристикой этой части поэтического мира. Пол Блэкберн и правда был тем, с кого начался Поэтический проект в церкви Святого Марка, но потом «они» отдали его дело кому-то другому. Я так и не смогла выяснить, кто были эти «они». Смысл был в том, что Пола кинули. А потом он умер. Вот почему некоторые кривились, когда слышали про церковь Святого Марка. Я никогда раньше не видела, чтобы взрослые вели себя так по-детски. Меня это потрясло. Это было очень глупо, как спортивные соревнования. А так как я была новенькой, все хотели заполучить меня в свою команду. И охотно делились со мной своими предубеждениями.
Я уже давно слышала о чтениях в «Чамлиз», но никогда на них не ходила, потому что они были в одно время с чтениями в «Вест-Энде». Приблизительно тогда рухнул отель со знаменитым рок-н-ролльным баром. «Бродвей сентрал». Был, и не стало. Это был удар для целого круга людей из того времени, которое я чуть-чуть не застала. На чтениях они стояли в задних рядах и кричали давай давай. Они еще существовали, битники. Поэты. Дональд Лев и Энид Дэйм жили там. В отеле, который рухнул. Они просто сложили свои вещи в коробки и перенесли в другой отель. По тому, как люди говорили, было понятно, что их мир разваливается на части. Например, «Сидер таверн» была уже не та самая «Сидер таверн». Той самой больше не было. Пожар. Дональд Лев и Энид Дэйм устраивали чтения под высокими потолками «сада на крыше» фальшивой «Сидер таверн».
Это была бирюзовая комната, в стенах журчала вода, кругом были пластиковые растения, щебетали птицы, у микрофона стояла Барбара Холланд и внушала ужас. Ей было под шестьдесят, ее кожа загрубела, зубов почти не осталось, и она пришла с миллионом сумок, так что казалось, что она живет на улице, но у нее была крошечная квартирка где-то, а потом зазвучал ее скрипучий кадансированный голос. Она читала «Яблоки Содома и Гоморры». Стихотворение было длинное и выразительное, она помнила его наизусть, и паузы, к которым она пробивалась, отпечатались у меня в памяти гораздо отчетливее, чем слова. В ней было что-то ужасающее и изысканное, как в старом высохшем дереве. Как в пальме с огромной и безобразной сухой юбкой. «Яблоки Содома и Гоморры» – стихотворение о предательстве. Он плохо с ней обошелся – когда она была молода. Пол Блэкберн, подумала я. Ну нет, вряд ли, говорили все, но мне нравилось так думать. Со своими яблоками и уязвленной гордостью она бродила по Юниверсити-плейс, по Верхнему Ист-Сайду; искала кого-то в ночи. Она выглядела, как могла бы выглядеть Энн Бэнкрофт, сложись ее жизнь иначе. Мы кивнули друг другу. Она не собиралась дружить со мной, но она легонько кивнула мне и пошла дальше. Она вела себя как звезда. Люди относились к ней с благоговением, и она бывала на всех чтениях. Она всегда носила с собой маленькие брошюрки со стихами, их можно было купить, а потом где-то, в «Принт сентер», кажется, издали сборник ее стихотворений в мягкой обложке. Там были нарисованы дерево и яблоки. Когда она умерла, устроили большие чтения. Внезапно стало казаться, что каждый поэт в Нью-Йорке знает, кто такая Барбара Холланд. Боб Хольман, должно быть, организовал эти чтения, потому что это на него похоже.
«Чамлиз» поразил меня, когда я наконец там оказалась, так великолепно и дорого выглядела его деревянная отделка – это был маленький изысканный паб в Вест-Виллидж, многие приходили сюда поесть, и противный звон посуды постоянно осквернял пространство поэзии. «Чамлиз» был похож на симпатичный частный колледж. По-моему, в этом было что-то не то. В известной мере поэзии нужна неудача, потому что неудача порождает пространство. Которое никому больше не нужно. Поэты как класс презирают успех.
Я видела Пола Блэкберна на фотографиях. У него были большие уши, и он был беден. Он едва мог позволить себе «голуаз», которые его убили. И все же женщины вились вокруг него, желая прослыть бывшими любовницами и женами Пола. Прямо в очередь выстраивались. Все воспринимали это нормально. Славу среди поэтов он заработал тем, что на все чтения приходил с большим катушечным магнитофоном и записывал, кто на что способен. Он был поэт-эрудит. Переводил трубадуров, амбициозный, но классный. Его собственные стихотворения были свободными, как разговор на улице, например, было одно, в котором он смеялся над другим типом людей, над теми, кто продал свой голос:
Я отдал его весь… за этот
чертов кабриолет
Поэты терпеть не могли тех, кто открыто стремился к успеху, – особенно тех, кто стремился к успеху в нашей среде, – как будто действительно была какая-то «поэтическая сфера».
Они не любили Герарда Малангу, потому что он был связан с «Фабрикой» и носил сумку через плечо, и им определенно не нравилась Энн Уолдман. Это она в тот день выступала в «Чамлиз». Я видела, как устанавливают камеру. Зачем? Раньше я такого не видела. О, она очень знаменита. А стихи у нее как? Мужчина рядом со мной фыркнул в ответ. В зал влетела женщина, похожая на оленя. В смысле глаза у нее располагались как-то по-животному и она немного напоминала Шарлотту Рэмплинг. На ней была фиолетовая шляпа с полями, и она села, а потом несколько раз вскакивала, чтобы сказать что-то оператору. Похоже было, что она накрасилась. На поэтические чтения?
Я хочу сказать, да, выступления Патти Смит были чем-то вроде шоу. Но люди, которые говорили о налитых грудях своих возлюбленных, вообще не стеснялись устраивать спектакль, их голоса дрожали, каждая строка заканчивалась негромким вздохом, который должен был добавить стихотворению звучности, но получалось фальшиво. По-моему, все эти белые люди пытались говорить как черные, это черные так загибают слова. Я заметила, что все, кто считал, что они как Патти Смит, в конце каждой строки ныряли вниз, но в последний момент слегка подбрасывали слушателя, подвывая. Как Патти Смииит. Патти такого не делала. По манере читать сразу было понятно, кто с какого берега. За долю секунды становилось ясно, кого стоит слушать, а кого нет. Даже неплохие поэты иногда привыкают читать неправильно. Это грустно, потому что вряд ли они когда-нибудь услышат себя со стороны и исправятся. Энн Уолдман была звездой. Весь вечер она держалась так, как будто это была репетиция чего-то еще. В каком-то смысле так и было. Кто-то сказал что-то о немецком телевидении, вроде как снимали для него. Но кто смотрит немецкое телевидение.
Как бы то ни было, я придумала, что сказать ей после выступления, чтобы послушать, как она говорит, когда не читает стихи, и я тут же почувствовала, что как будто говорю с подругой. Этой женщине нужно было заниматься политикой, она молниеносно концентрировалась на собеседнике и так же молниеносно переключала внимание на что-то другое, прямо как мэр, только она была классная. Это она была той поэтессой-лесбиянкой, которую я так хотела встретить! Я поверить не могла, что слышу в ее стихотворениях что-то лесбийское! Я видела ее качающейся в гамаке, в картотеке церкви Святого Марка. Это был «Ньюсуик» или типа того. В «Чамлиз» она ходила по сцене с надменным видом, указывала на что-то, говорила нараспев – читала, как двигалась. Это был один большой гребаный спектакль, но зал страшно завелся, даже те, кто старался ее не замечать.
Во времена учебы в колледже Энн была секретарем у поэта по имени Джоэл, который курировал чтения в церкви Святого Марка вместо Пола. Мне говорили, что когда решается, кто будет главным, им никогда не становится «тот самый парень». Им становится парень рядом с этим парнем. Как будто не может все доставаться одному человеку. Со Святым Марком, похоже, получилось так, что второму парню все это было не нужно, а Энн – нужно. Он понятия не имел, что со всем этим делать. Думаю, когда он ушел, она просто продолжила заниматься Проектом. Наверное, это была одна из тех подработок, которые дают студентам в Беннингтоне. Возможно, она с самого начала делала все за Джоэла. Это устроило бы их обоих. Я никогда не понимала, чем он занимается, хотя постоянно видела его, когда приехала в город. Он был седой, носил хвостик и выглядел как все грустные парни из «Сидер таверн» и «Лайонз дэн» и даже как те, кого я встречала в Сан-Франциско, в Норт-Бич, завсегдатаи «Везувиоз». У него был очень глубокий зычный голос, но это был нью-йоркский голос, еврейский. Как у Артура Миллера. Я слышала его стихи, ничего особенного, но Брайан и Чак, бармены из «Тин пэлас», сказали мне, что у Джоэла есть несколько прекрасных стихотворений, они показали мне пару, стихи и правда были отличные. Простые, но в них было какое-то электричество. И еще он был другом Пола. Когда Джоэл читал, его голос был как инструмент, которым пользовались много лет. Старые поэты – как старые кинозвезды. Это было прекрасно. Слышно было весь алкоголь и все сигареты, и он наклонялся к самому микрофону и создавал небольшое пространство для своей ноющей боли, боли мужчины среднего возраста. Она заполняла бар. Это было слишком. Чак и Брайан говорили: Джоэл милаха. Позже я прочла роман, который написал Гилберт Соррентино и который ходил по рукам среди поэтов. Он был о поэтической сцене пятидесятых и об одном парне, кажется его звали Лу. Лу был выдающимся поэтом, ярким пятном света, все в него верили.
О ком это, спросила я.
О Джоэле.
Мне стало нехорошо. Он не был теперь тем парнем. Даже в шестидесятые он уже им не был. Мир, которые его окружал, тоже стал другим. Все кончилось. Это было уже не то место. Сама мысль о том, что этот мир, так похожий на мой, мог стать просто чем-то из романа, что моя собственная новизна может исчезнуть, превратиться в миф… Я чувствовала, что ребята, которых я знаю, так любят эту нашу историю, что не могут даже представить себя вне ее, как это все время делала я. Потому что я и так вне. Я женщина, и к тому же я.
Первого января перед церковью Святого Марка выстроилась самая настоящая очередь. Было морозно, а церковь окружала черная чугунная ограда. От нее было еще холоднее. То, что здесь читали стихи, было грандиозно. Нечасто жизнь оправдывает ожидания. Так же было с Эйфелевой башней – она мне понравилась. Голос объявил, что Йоко Оно и Патти Смит и Аллен Гинзберг и Роберт Уилсон – все будут выступать в поддержку Поэтического проекта церкви Святого Марка. В поддержку церкви, как я стала его называть.
Неужели у церкви какие-то трудности. Это не укладывалось в голове, потому что, стоя там в тот день, я внезапно обнаружила, как нас много. Я была горда, что первого января я среди этих отчаянных. Что решила прийти. Кто бы мы ни были, мы были друзьями – даже со знаменитостями, которые там выступали, мы были одной струной. Внутри как будто пели кантри и суетились, и каждый в очереди был с кем-то немного знаком, и еще некоторое время она плотно обвивала здание, вытянутая серая фигура из нас, кутающихся, курящих, пьющих кофе у высокой чугунной изгороди, увешанной афишами там, где я стояла – вместе с длинноволосым парнем, который жутко расстроился из-за того, что нам не удалось попасть внутрь. Я не переживала, но решила, что с этого момента всегда буду попадать туда, куда хочу, начиная с завтрашнего дня. Патти Смит выступает. Новость разнеслась по толпе. Внутри все уже произошло, так зачем оставаться здесь. Мы ушли и съели по миске супа.
Несколько недель спустя я вернулась туда, и там было пусто. Так тоже было хорошо. Церковь напоминала пещеру, темная, со множеством скамеек, а посередине проход, ведущий к подиуму, на котором стоял поэт, улыбался, смотрел вниз, потом на публику. Чтения были другие, но выступающих здесь представляли так же многословно и бессмысленно. Лохматая женщина взволнованно рассказывала о поэтах, которые читали в тот вечер. Где Энн Уолдман, спросила я у кого-то. Ее никогда здесь не бывает, ответил юноша в очках. Она отправляет сюда этих людей, прошептал он. В тот вечер выступали два, нет, три поэта. Одним из них был Арам Сароян, и он вел себя так, как будто был кинозвездой. Он был невысокий и очень красивый, в красной клетчатой рубашке. Он напоминал безработного актера. Всех этих парней, похожих на Аль Пачино. Волосы у него были непослушные, но красиво подстриженные. Он читал обычным голосом (но застенчиво) о том, как его знакомые делают обыкновенные вещи, и люди в зале все время по-свойски смеялись. Это был еще один клуб. Клуб близких знакомых. В книжном на Гарвард-сквер я купила книгу, она была издана в Калифорнии и называлась «Снова в Бостоне», ее написали парни из Нью-Йорка, которые поехали в Бостон выступить на чтениях и увидеться с друзьями, а потом каждый из троих написал, как все это было. Книга была демонстративно скучная, как будто они были персонажами комикса в газете, – так вот чтения в тот вечер немного напоминали все это. Итак, на Арама я посмотрела. Потом встал парень с хвостиком. Ему было лет тридцать, на нем был пиджак, но он не выглядел как преподаватель из колледжа. Скорее, как кинорежиссер. Немного похож на художника, мне так показалось. Из Европы. Он читал неуклюже. Безыскусно. Я хочу сказать, грубо, животно, по-мужски. Мне это понравилось. Что простой парень может быть поэтом. Он говорил естественно: взволнованно, немного возбужденно. Но время от времени вставлял эти «О». Как это делают поэты. О нарцисс. О: как будто он был поэтом и одновременно смеялся над этим. Вот это я сразу ухватила, пригодится. Можно быть абсолютно серьезной, как будто ты в великолепном дворце, потом вжик, отъезд, и он уже маленький, игрушечный и у тебя на ладони, а потом ты берешь и заходишь в него. И он снова настоящий. А ты снова серьезная в своем маленьком дворце.
И все это можно сделать при помощи голоса. Я хотела стать диджеем на радио, когда в колледже у меня был не очень хороший период. Меня вдохновил робкий диджей из «Садового короля», которого играл Джек Николсон. Он сидел в темноте и рассказывал историю своей жизни диктофону. Это было лучшее выражение того, что такое поэзия, во всяком случае лучшее, какое я тогда знала, теперь я была готова использовать возможности, которые слышала вокруг. Думаю, их все равно нужно записывать на бумаге. Стихотворения, я имею в виду. Второго поэта звали Билл, и он выпускал журнал «Сан», который всем очень нравился. Я видела один выпуск на барной стойке в «Вест-Энде», потому что кого-то из местных пьяниц там напечатали. Там на обложке были ребята в ковбойских костюмах. Это больше напоминало телевидение, чем поэзию (я начинала думать, что это со всем так).
Следующим вышел Рон Паджетт. Мне показалось, что это птичье имя. Мистер Пэррот, мистер Пиджин. Персонаж из детской книжки. И он был совсем другим – до жути милый, вот какой он был. Паджетт мог быть таким милым, что это начинало пугать, а потом снова – абсолютно безобидно милым. Как ковбои на обложке «Сан». Почему взрослые мужчины ведут себя как дети. Зачем кому-то читать стихи, изображая безобидного библиотекаря. Это что-то американское? У Рона Паджетта был среднезападный акцент, я давно подозревала, что большинство поэтов – со Среднего Запада и что многие из них учились в Айове. Это был известный факт. Даже в колледже об этом говорили. Рон Паджетт либо и правда был из Айовы, либо прикидывался – это было его «О». Он оставлял нам возможность думать, что он самозванец. Это не европейский, это американский тип притворщика. Притворство бывает разное, и некоторые его виды приносят успех. Думаю, я раскусила Рона.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?