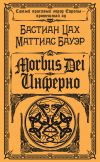Читать книгу "Инферно"

Автор книги: Айлин Майлз
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Кантри
Мы встретились с итальянцами, продавцами сумок. Моего звали Аттилио Виола. Ему, наверное, было лет под сорок. Вид у него был немного криминальный. Он мог бы играть в спагетти-вестерне. Волосы у него были гладкие, хорошие волосы. Прямые и тонкие, они размашисто падали на лоб. Мне кажется, его волосы начинали редеть, но ему оставалось еще как минимум лет десять (во всяком случае, я ему этого желала) до зачесанной лысины.
Рита несколько раз звонила мне в тот день, чтобы обо всем договориться. Она очень боялась, что я не приду. Постоянно перезванивала – узнать, все ли в порядке, и напомнить, что это всего лишь свидание. Мы можем делать все, что захотим. Какую кухню ты любишь, щебетала Рита. Я сделала себе гамбургер на ланч, так что теперь даже и есть не хотела. Это было плохо.
Итальянскую, сказала я.
У Илая была широкая улыбка, как у хиппи. Длинные ноги, черные джинсы и ковбойские сапоги, и как-то днем мы оба просто болтались без дела. У прачечной на Томпсон-стрит стояла старая обшарпанная скамейка. «Санди таймс» валялась вся чем-то измазанная, объявления шуршали под ногами. Он вышел из двойных дверей лондромата и вернулся с парой бутылок «наррагансетта». Моя голова сама повернулась. Возьми одну, он улыбнулся. Это было классно. Я взяла бутылку, и мы стали разговаривать. Он только что переехал сюда из Западной Вирджинии. Тебе нравится «джек»? Он имел в виду бурбон. Он предложил мне сигарету, длинный «пэлл-мэлл». У меня есть какие-то деньги, ответила я. Мы купили бутылку «джека», поднялись наверх и всю ночь слушали кантри. Оказалось, что кантри – отличная музыка. Я понятия не имела. Один и тот же припев накатывает снова и снова, и с каждым разом все веселее, как на аттракционах. Похоже на соревнование – кто остроумнее всех споет о том, как ему плохо. Страсть к сексу, к выпивке. Это была любовь. Ты влюблена, Айлин, спросил Илай.
У него были кроткие глаза, ласковые, карие, как у коровы. Он был хороший парень. На самом деле ему просто нужно было поговорить с кем-то о девушке, которая разбила ему сердце, и о том, как он приехал в Нью-Йорк. Вроде он не был музыкантом. Думаю, не был. Он любил музыку, любил выпить. Он был таким другом, из-за которого я поняла, что скучаю по времени, когда у меня были друзья. Довольно быстро все свелось к тому, что я просто знакомилась с поэтами и все. Я помню, один парень сказал мне, что все его друзья – писатели. Что он старается подружиться с писателями, которые его восхищают. Потом этот самый парень женился на жене Пола Блэкберна. На вдове. Меня это потрясло. Все это казалось неправильным. Все, что не происходило абсолютно случайно, казалось мне неправильным. Я только что приехала из Арлингтона. Разве это не значит – использовать людей. Разве это не плохо?
Писательство было как одно из тех мест, куда отправляешь купоны, вырезанные из коробок от хлопьев. Посылаешь свое маленькое стихотворение в «Поэтри». «Поэтри» присылает его обратно. Иногда, когда я выбирала журнал поменьше, в конверте была записка, в которой говорилось, что мне, видимо, одиноко. Возможно, вместе мы могли бы что-то написать, предлагал редактор. Я думала, я уже пишу! Комкаешь эту бумажку, получается шарик. (Как будто я не хранила их.) Дорогая Айлин,
Я проснулась у Илая на полу. Я была так умопомрачительно счастлива тем, что живу вот так, нараспашку, в Нью-Йорке, что у меня (кажется) случился опыт общения с мужчиной, такой же грубоватый и непосредственный, как мужская дружба. Парень, рассказавший мне, как сходится с людьми, которыми восхищается, видимо, восхищался и мной, но не из-за моих стихов. Как будто я вошла в комнату, но для всех, кто в ней был, я как бы вошла в какую-то другую комнату. Моя ошибка заключалась в том, что я забыла, что я женщина. И мне все еще немного нравились мужчины. В смысле иногда я приходила на чтения и думала, ммм вот с ним бы я переспала, и этот парень был просто ужасным поэтом, и мне было все равно, я просто ждала там, пока все остальные наконец уйдут, и потом я оказывалась на его гребаном водяном матрасе и выяснялось, что у этого поэта умный член – он меня понимал. Интеллект этого парня полностью миновал его стихи, он весь был в его члене. В ту ночь он был мной наизнанку. Секс с мужчинами иногда был хорошим. Расстраивал их взгляд на вещи.
Я бегала на стадионе у Ист-Ривер, как-то раз, двадцать лет спустя, и тот самый парень поравнялся со мной, и мы просто посмотрели друг на друга. Это было как крупный план в кино. Было так приятно. У него был довольно удивленный вид. Я улыбнулась, и он улыбнулся в ответ, и мы чуть-чуть пробежали вместе. В этом было все. Потом он помахал и убежал.
Однажды ночью я слонялась в темноте по лофту еще одного парня, парня по имени Джон. Джон Свон.
Мы были примерно одного возраста, и он мне нравился. Джон был симпатичный. Хорошенький, кудрявый и довольно крупный. Мощный парень, полные руки. Мне трудно описать его так, чтобы не создалось впечатление, что он был толстым. Но он не был. Он был сильный, кровь с молоком. И вроде как нацист. У него был голос самого нежного парня на свете, но он был гнусным извращенцем, это чувствовалось. У него была девушка Аурелия, на вечеринках он обычно прижимал ее к своему по-детски пухлому телу так, как будто они только что выпрыгнули из постели. Это было сексуально, но довольно странно. Потом вокруг стало полно парней вроде него, но эти уже были бизнесмены. Красные подтяжки. У Джона в руке всегда был стакан виски. Он носил грубые рубашки и джинсы и говорил очень мягко. Когда я думаю об этом сейчас, я понимаю, что он был типичным парнем с писательских курсов, обхаживал всех модных университетских поэтов, которые были немного старше нас. Тома Лакса, Джеймса Тейта. Билла Нотта. И у всех них обычно были шикарные подружки. Вот это жизнь, потягивал виски Джон.
Мы, те, кто занимается поэзией, думает о ней все время, – кто вместе с остальными людьми ходит по улицам мимо палаток с пиццей и деревьев, мы одновременно – граждане тайной страны со своей валютой, которую мы меняем по случайному курсу, просто вышептываем в громкой гудящей тишине дня, в галереях, у марксистов, в загроможденных книжных магазинах (загроможденных тонкими журналами неправильной формы, книгами и людьми, как правило лет двадцати-тридцати), в провонявших барах, где поэты встречаются и читают свои стихи. Свидетельства копятся в десятках, сотнях заляпанных и отсыревших дневников, в записных книжках, погнувшихся в задних карманах или исписанных долгими ночами в молодости (сюда также относится дополнительное время тех, кому удается оставаться молодыми сверхдолго, до сорока, пятидесяти, шестидесяти или даже до семидесяти, когда они все-таки умирают). Все мы осушаем свои стаканы, потягиваем пиво, курим, конечно, – несколько длинных сигарет одновременно тянутся к пепельнице.
Жизнь поэта – это невероятная трата времени в четырех стенах, дни и ночи проносятся, легко или трудно, в наших комнатах, за окнами, которые вы знаете по фильмам. Мы сутулимся и раскачиваемся над клавишами наших зеленых, наших серых, наших розово-голубых механических печатных машинок или, может быть, темных, холодных как камень машинок «селектрик» с их предоргазмическим гудением, и мы глотаем таблетки и смеемся над тем, что ты или я только что написали, сомневаясь, что значит эта строчка – тут кого-то посылают или это про секс. Или и то и то. Обычно и то и то.
Сознание расширяется. Встаю, затягиваюсь, смотрю на Четырнадцатую, Одиннадцатую улицы или на авеню Эй и дальше – в сторону милого тихого парка между Второй и Третьей.
Выглядываю во внутренний двор, смотрю на дом Ричарда на Пятой. Он откашливается, смеется, скаля зубы. Голос как тромбон. Середина дня. Ричард сегодня не работает. Будешь, говорит он, протягивая косяк. Потом мы садимся и пишем еще двустишие. Мы называем их двойками. Мы сразу придумали правила. Тройки или двойки. Однерки! Так что это больше походило на то, как дети играют в карты. Вскакиваю со стула, так, что он отлетает, смеюсь. Вот, попробуй это.
Ричард широко улыбается, продолжает стучать по клавишам. В сексуальном столкновении наших жизней (когда твое время еще не превратилось в товар, дилетантское, ребяческое, хулиганское, безнадзорное, чрезмерное, до всего, когда твои дни праздные, только твои, смещенные, жизнь, можно сказать, состоит сплошь из свободного секса, переходящего в искусство, опять в секс и снова в искусство. Вот во что мы верили). Мы использовали молодость, пространство и время во имя поэзии. Это привилегия нашего образа жизни, жить вот так. Абсолютно все события и мгновения, даже если не вплетены в письмо, как-то бешено заряжены, отпущены парить вдоль проводов крошечных, бесконечно малых дрожащих силовых линий этости. (Любимое слово Крис.) Растраченные жизни. Мы проводим свое время на орбите поэзии. Это м-м-м-м-миф.
Нотт поражен
У Билла Нотта в холодильнике была коллекция винтажной «колы». Одна из бутылок была аккуратно подписана: окт. 1972. Вот эта очень хорошая, сообщает он нам, демонстрируя бутылку и вглядываясь в темноту внутри.
Дом Билла – грязная развалина в Джамейка-плэйн. Не хватает целой стены. Он стоит в гигантском кукольном домике посреди Бостона, дует ветер. Февраль. Билл согнулся перед холодильником, хочет показать нам еще одну бутылку. Он такой тощий. Штаны ему велики. В 1966-м он объявил о собственной смерти – разослал всем открытки. Билл Нотт умер (хнык-хнык) и переродился как Святой Жиро, который некоторое время жил и писал стихотворения за Билла. А потом просто стал Биллом.
Джон Свон делал серию плакатов – стихотворения были напечатаны пятисантиметровыми буквами на цветной бумаге разных бледных оттенков. Примерно 30 × 40. Стихотворение Билла Нотта он напечатал на бумаге теплого ванильного цвета, буквы были ярко-красные. Шрифт назывался «Авангард».
Стихотворение называлось «Стихотворение к себе»:
То насколько мир
Не поражен тобой
Даже листиком не моргнет
Приводит меня к мысли[1]1
В сокращенном варианте стихотворения, который приводится в «Инферно»: Leads me to grop. В полной версии: Leads me to think. В английском нет слова grop – видимо, это усеченное grope, нащупать. В такой форме для англоязычного читателя это слово может выглядеть примерно как droogs в «Заводном апельсине». Слово grop есть в каталанском, там оно значит узел, то есть knot – и вряд ли это совпадение, учитывая, что фамилия автора пишется почти так же, Knott. – Здесь и далее прим. пер.
[Закрыть]
Что красота естественна, заурядна
…
Это было похоже одновременно на «Заводной апельсин» («я и три моих druga») и на Владимира Маяковского («и я – красивый, двадцатидвухлетний!»). Но Билл Нотт не был героем книги и писал не в России, а здесь и сейчас, в нашем веке!
Я приклеила плакат на стену в своей квартире, и сколько я жила там, столько он там висел. Это стихотворение постоянно присутствовало в публичном пространстве моего сознания. Наш лендлорд выкрасил квартиру в плоский невыразительный бежевый. Это был цвет, который только прикрывал что-то. Но плакат со стихотворением Билла был немного светлее фона, и стена ожила вокруг кроваво-красных букв. Время войти в мой кабинет и начинать писать, время встать там и читать:
«Приводит меня к мысли…»
«Даже листиком не моргнет…»
Я перечитывала его снова и снова, как молитву. Стихотворение говорило. Это было непосредственное общение, не с Биллом, с самим стихотворением. Оно научило меня писать. Знал ли он что-то еще – что-то, чего не было в этом стихотворении?
Однажды он читал стихи в церкви Святого Марка вместе с Джеймсом Тейтом, и я была готова увидеть дьявола во плоти. Я так много о нем слышала. У него были длинные сальные волосы, наверное до плеч. Иногда он тощий, сказал Ларри Цырлин, а иногда толстый. Ларри был типограф, поэт, у него был печатный станок. Билл, по всей видимости, был подвержен резким сменам рациона и перепадам настроения. Он псих, говорит Ларри. Потом, подняв глаза к небу: он великий.
Билл был одет в полосатую оксфордскую рубашку, такую большую, как будто раньше она принадлежала кому-то толстому. Одна пола торчала наружу из мешковатых вельветовых брюк, которые кое-как на нем держались. Он был худой, и когда он начал читать, он стал как парус. Он размахивал руками. Он подошел близко к микрофону, как гончая. Ласковая гончая. Он раскачивал тело бедрами влево-вправо. Волосы у него были длинные, свалявшиеся и сальные. Он читал его.
«То, насколько мир…» (Долгая пауза. Зал затих.)
«Нотт поражен тобой…»
Казалось, что его мучает собственное стихотворение, но он явно был очень изящным человеком. Гениальным. Казалось, он все время ускользает. Тот факт, что в стихотворении была шутка с его именем, казалось, никак его не касался. Стихотворение просто случилось, и в тот вечер мы собрались, чтобы отпустить эту птицу летать под высокими сводами церкви. Он смотрел вниз, на свои записи. Это сводило его с ума, но он продолжал делиться с нами своим даром. Он читал негромко, страстно.
Говорят, что Билл Нотт стал вдохновителем панка. В семидесятые он был абсолютным героем для Тома Верлена и для Ричарда, все они были похожи на Билла. И Патти Смит так выглядела. Неряшливый мальчишка-романтик. Волосы в точности как у Курта. Тогда многие так ходили, но неряшливость была таким обычным делом, что мы и не знали, что это какой-то стиль. Скорее, это само привязывалось. Например, идешь и видишь рубашку на крышке мусорного бака. Она ждала именно тебя. Сейчас так много людей из мира «литературы» против этого нашего стиля жизни. Хотя Максин Хонг Кингстон, например, говорит, что король нищих даже на троне сидит в лохмотьях. В смысле если бы вам сказали, что можно жить так – в открытом настежь опустошенном доме. Не то чтобы править миром, но порождать его – ну, и что бы вы делали?
Однажды вечером Джон пригласил меня в гости. Мне так сильно хотелось, чтобы он напечатал мое стихотворение на одном из своих дурацких плакатов. У меня было одно, которое идеально подходило, «Греция». До этого он напечатал всего одну женщину, Рошелль Оуэнс. Она была отличная, но она была чьей-то женой. Поэтому он ее и знал. Посреди комнаты у Джона стоял большой письменный стол. Очень крутой. Это стол моего отца. Он умер? Да, сказал Джон. Покончил с собой. Мой отец тоже умер, сказала я. Да, сказал Джон. Он взял со стола мои стихи. Так что ты хочешь, чтобы я сказал, сказал он, смотря на них. Это хорошие стихи. Он положил свою пухлую лапу мне на колено. Не потому что он хотел меня, а просто потому что решил, что может это сделать, или потому что думал отделаться от меня таким образом. Давай без этого, сказала я. Ну и зачем ты тогда пришла. Я пригласил тебя к себе домой. Он посмотрел мне прямо в лицо. Мы застыли на мгновение, как животные, которые услышали звук выстрела. Пойдем, я за тобой закрою, сказал он.
Нью-Йорк
Мы договорились встретиться в фойе отеля «Парк шератон». Я ненавидела то, какой может быть ранняя осень в Нью-Йорке. Просто некуда деться. Здания надвигаются, солнце палит, и влажно так, что кажется, что ты вся грязная, даже если ты только что помылась. Годы спустя я научилась любить такую погоду. Потому что можно было спуститься в метро и очутиться в аду. По какой-то причине мне стало это нравиться. Хотя понадобились годы. Думаю, нужен опыт, чтобы понять, что и в аду может быть неплохо. Например, лето, которое я прожила в Нью-Мексико, привило мне вкус к сухому жару, лето в Нью-Мексико и сауна, в которую я часто ходила несколько лет спустя. Как только начинаешь различать сухую жару и влажную, становится легко определить, где ты находишься. Я сидела в нью-йоркском лондромате и смотрела на даму напротив. Я говорю, жарко. Она, влажно. Но прямо тогда мне было двадцать четыре и я ничего такого еще не ощущала.
Помню, как я впервые оказалась в нью-йоркском метро. Я была с семьей, мы приехали на Всемирную выставку. Мой отец уже несколько лет как умер, и мы все еще пытались приноровиться к тому, как теперь была устроена наша семья. Отец всегда хотел что-то делать, например ездить вот в такие путешествия, но только благодаря матери все это становилось возможно. Так что теперь во главе нашей экспедиции был человек, который мог все организовать, но понятия не имел зачем. В общем, мы были в Нью-Йорке и мать нашла нам дешевый мотель в Джексон-Хайтс. Это Квинс. Не знаю, как она вообще нашла это место. Было такое телешоу «Машина 54, где вы?», и там была песня в начале та-та-та-та та-та-Гарлем, все стоит до Джексон-Хайтс. И вот мы оказались в этом месте из телевизора. Это был выкрашенный в мятный цвет маленький мотель, построили его, наверное, в сороковых, а в пятидесятых переделали все в калифорнийском стиле, и еще у них был микроавтобус, в который мы набивались вместе с другими людьми странного вида, чтобы доехать до метро во Флашинге и спуститься под землю. Мейн-стрит, Флашинг-лайн – жуткая и великолепная. Совсем не как то мерзкое современное метро, которое досталось Бостону, для него сделали яркую дизайнерскую расцветку, чтобы все приезжие думали: Бостон, как по-скандинавски! Маримекко! Тут прямо как в гостиной! Предполагалось, что всем должна нравиться середина шестидесятых и гельветика, и все во мне этому сопротивлялось. Я хотела латинской мессы, неприветливой церкви, мое метро должно было быть грязным и старым, таким, чтобы, когда я приеду в город с матерью и позже, когда вернусь сюда взрослой, уже сама, я почувствовала, что нахожусь в преддверии порока. Оно было таким старым, что уже было новым. Поезд, в котором мы ехали на Всемирную ярмарку, был темно-зеленого цвета и так истерзан на службе городу, что походил на военную технику. Он был похож на сломленного нациста. Нью-Йорку не нужно было притворяться и нравиться всем. Вместе со своей семьей я погружалась в это прошлое. Реклама в метро была цвета ржаного хлеба и мозольных пластырей. Моя мать погладила мое бедро в обрезанных джинсах с брызгами отбеливателя, чтобы подбодрить меня, мол, ничего с нами не случится в этом шумном, скрипучем, старом, темном поезде из парка аттракционов, поезде, полном мрачных людей, которые вместе с нами едут обратно во Флашинг. Я закатила глаза. Мам! Она сердито выдохнула в ответ.
Прямо перед тем, как я переехала сюда, за два года до этого, накануне бесславной попытки осесть в Калифорнии, я приехала в Нью-Йорк, остановилась у Хелен и Херби, и они были моими местными-неместными гидами. Нью-Йорк, который они мне показали, иллюстрировал миф о том, что это рай на земле. Мы шли мимо дома Боба Дилана на улице Макдугал. Он прямо живет здесь, спросила я. Ему принадлежит весь дом, сказал Херби. В Арлингтоне всем принадлежали их дома, так что я подумала, ага, ну а что, конечно, Боб Дилан купил весь дом, как еще. Но он настоящий, и живет прямо здесь. Мы прошли через парк по соседству, Вашингтон-Сквер-парк, и он выглядел таким по-летнему свободным и открытым, как никогда потом. В смысле это был 71-й или 72-й и, возможно, это были его лучшие годы. Я помню женщину в шляпе, может, кожаной, а может, соломенной, с широкими полями. Она прогуливалась с плавностью человека, живущего в городе / за городом. В Нью-Йорке было так классно. Здесь чувствовалось то расслабленное отношение ко времени, о котором я читала в колледже. Пол Гудман рассказывал нам о том, что такое «негритянское время» – бесконечный день гетто. Херби, надо сказать, был черным. Он знал, он знал. Он отвел нас к «Максиз Кэнзас-Сити». Кажется, еще рановато для выпивки, усмехнулся он. Вот здесь тусуется Энди Уорхол. Я никогда не думала, что эти люди вообще где-то живут. Конечно, такое могло быть, я слышала о таком, но где-нибудь в Париже, между войнами. Но Нью-Йорк был здесь и сейчас. Люди, о которых я читала, которых видела в журналах, просто выходили из этих дверей, на этот тротуар, стояли прямо тут. Заходили внутрь, покупали выпить. В этих каменных коридорах, жизнь началась. Миф оказался правдой.
Но метро было лучше всего. В 1972-м на станцию приехал поезд, и это был самый грязный, самый дико разукрашенный монстр из мультфильма, пускающий слюни, с красными губищами, бессвязно выкрикивающий ярко-голубые имена, написанные пушистыми буквами, и даты, и у него были огромные глаза, а потом зубы раздвинулись и мы шагнули внутрь. Что это, спросила я Херби. Ты о чем, он улыбнулся. Как будто он и правда не понял, о чем я. Поезд, снаружи. Его как будто весь изрисовали. Дети, засмеялся он, дети так развлекаются. Какие дети? Которые думают, что поезд – это их тетрадка. Ох, Лина, здесь столько всего безумного происходит. Он отвернулся от меня, то ли я смущала его, то ли ему было известно что-то об этом мире и он был его частью, а я нет, так что со мной нельзя было об этом говорить. Это называется граффити, вмешалась Хелен, глаза у нее горели. У Херби есть друзья, которые живут на окраине… Он не любит об этом говорить, да, Херби. Она потрепала его по волосам, он нагнул голову и пододвинулся к ней. Теперь мы все сидели. Поезд визжал, стонал и трясся.
Все было иначе три года спустя, когда мне было почти двадцать пять и я, выделяя из пор пивной пот, шла к Западной Четвертой улице, чтобы сесть на поезд «Эф» и доехать до «Парк шератон». Илай, у тебя есть доллар. Погоди, сказал он, трубка сползла ему на грудь. Я думала о нем с теплом. Сосед.
Я точно знала, сейчас он слезает со своей кровати-чердака, в которой частенько лежит днем, а теперь смотрит на пол под кроватью. Не-а, сказал он в трубку, тут ничего, погоди, сейчас штаны найду. Я слышала, как мелочь падает из карманов на пол. У него был пол из красноватого темного дерева. Я, наверное, лежала на нем ртом в ту ночь, когда мы отключились. Давай-ка посмотрим, у меня есть двадцать восемь, тридцать пять – может, и наберется… Ага, у меня есть доллар. Зайдешь?
На метро, спросил он, с любопытством глядя на меня. Точно, ответила я. Я не стыдилась своих планов на вечер, но из-за разговоров об этом я могла начать слишком много думать. Значит, ты идешь на свидание. В Верхнем Манхэттене, подтвердила я. На проезд, значит, он пожал плечами. Моя ладонь была раскрыта, монетки падали в нее одна за другой, скрепляя печатью мою жалкую участь. А ты что делаешь, спросила я. Я заметила гитару наверху, в его кровати. На нем была рубашка, которая мне нравилась, темно-коричневая рубашка для сафари со множеством карманов. Эту рубашку подарила ему женщина, которая его бросила. Я думала о любви как о путешествии. Когда тебе двадцать с чем-то, ты плывешь, пых-пых, цепляя по пути чувства и переживания. Казалось, что все тогда много чего чувствовали, и можно было накрутить это все на себя, как делал Илай, и жить в этом какое-то время, или полностью отстраниться, как это делала я (по профессиональным соображениям), и расценивать свои поступки исключительно как искусство, материал для творчества. Я читала книгу скандинавского писателя Кнута Гамсуна, она называется «Голод». Он там просто ходит по всему Бергену за какой-то девушкой в красном платье и с толстыми косами. Что-то возбуждало мужчин, и они писали об этом. Как будто ничего не имело особого значения, но предпринимать что-то было абсурднее, чем старый добрый экзистенциализм. Такое поведение было бы постыдным, будь он реальным человеком. Но он не был. Он был писателем. Герой этой книги собирался голодать, пока ему не удастся заработать своим искусством. Что, по сути, было моим идеалом. Никто никогда не говорил мне, как жить, говорили только, чего нельзя делать. А все эти книги о жизни художников, которые я читала, в смысле в них не было инструкций, но эти люди доводили свою простую веру в свободу и искусство до крайности. Это я могла. Еще до того, как я научилась писать, до того даже, как выучила буквы, мы с моим лучшим другом Билли Лебланом пошли гулять и написали целую пачку писем, используя известные нам символы: солнце, волна, палочка, – мы создавали свои буквы. У нас было так много чего сказать всем, и мы тщательно формулировали наши мысли, восковыми мелками на бумаге, и мы сложили их и опустили в почтовый ящик на одном из соседних домов. Мы были очень взволнованы, потому что молчание нашего детства закончилось. Мы писали. Мы сели на тротуаре перед тем домом. Мы предвкушали ответ. Мы все ждали и ждали. А потом просто забыли об этом. Но то солнце, первый крошечный символ, все еще там – сияет у меня в голове.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!