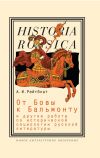Текст книги "Очерки по социологии культуры"

Автор книги: Борис Дубин
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 57 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Борис Дубин
Очерки по социологии культуры
Избранное
© Б. Дубин, наследники, 2017
© А. Рейтблат, составление, предисловие, библиографич. список, 2017
© Радио Свобода, фото, 2017
© ООО «Новое литературное обозрение», 2017
* * *

От составителя
Борис Владимирович Дубин (1946–2014) был очень одаренным человеком, причем одаренность эта распространялась на самые различные сферы: от поэзии до социологии.
Вот как он характеризовал себя в curriculum vitae 2013 года:
«Родился 31 декабря 1946 г. в Москве. Закончил филологический факультет МГУ (1970), занимался исследованиями по социологии книги и чтения в Государственной библиотеке СССР им. В.И. Ленина (1970–1984), Институте книги при Всесоюзной книжной палате (1984–1988). С 1988 до 2012 г. – в Аналитическом центре Юрия Левады (Левада-Центр, до 2004 г. – ВЦИОМ, ВЦИОМ-А). Преподавал социологию в Институте европейских культур (РГГУ), Московской высшей школе социальных и экономических наук, Государственном университете – Высшей школе экономики.
Области научных интересов: социальные изменения; общественное мнение и политическая культура; социология религии, литературы, искусства, массовых коммуникаций; переводоведение.
Автор книг “Есть мнение!” (1990, с коллективом авторов), “Советский простой человек» (1993, с коллективом авторов), “Литература как социальный институт” (1994, в соавторстве с Л. Гудковым), “Интеллигенция” (1995, в соавторстве с Л. Гудковым), “Литература и общество” (1998, в соавторстве с Л. Гудковым и В. Страдой), “Слово – письмо – литература” (2001), “Интеллектуальные группы и символические формы” (2004), “На полях письма. Заметки о стратегиях мысли и слова в XX веке” (2005), “Жить в России на рубеже столетий” (2007), “Проблема «элиты» в сегодняшней России” (2007, в соавторстве с Л. Гудковым и Ю. Левадой), “Общественный разлом и рождение новой социологии: Двадцать лет мониторинга” (2008, с коллективом авторов), “Классика, после и рядом” (2010), “Россия нулевых: политическая культура – историческая память – повседневная жизнь” (2011), многочисленных статей по социологии, ряд которых издан на основных европейских языках.
Переводчик, автор работ по истории мировой литературы и культуры. Лауреат премий журналов “Иностранная литература”, “Знамя», “Знание – сила”, Министерства культуры Венгрии, имени Анатоля Леруа-Болье (Франция – Россия), имени Мориса Ваксмахера (Франция – Россия), Премии Андрея Белого за гуманитарные исследования (2005), Международной премии Ефима Эткинда (2006). Кавалер ордена Франции “За заслуги” (2008)».
Уже по этой краткой справке видно, что Б.В. Дубин оставил богатое литературное наследие[1]1
См. библиографический указатель его работ, включенный в настоящее издание.
[Закрыть]. Он много переводил – поэзию испанского Возрождения, лирику испанского и английского романтизма, стихи и эссе О. Паса, С. Вальехо, Х. Лесамы Лимы, Х. Ортеги-и-Гассета, А. Мачадо, Х.Р. Хименеса, Ф. Пессоа, Дж. Агамбена, И. Берлина, У.Х. Одена, Х. Арендт, С. Зонтаг, Э. Ади, К. Бачинского, Ч. Милоша, Г. Аполлинера, А. Арто, С. Беккета, Ф. Понжа, А. Мишо, Р. Шара, М. Бланшо, Э.М. Чорана, М. де Серто, И. Бонфуа, Ф. Жакоте, Ж. Старобинского, Ж. Дюпена, М. Деги и многих других.
Дубин, по сути, «ввел» в русскую культуру Борхеса, дав большое число образцовых переводов, составив и откомментировав ряд сборников, а потом не раз переиздававшееся собрание сочинений. Цикл его статей о Борхесе мог бы составить отдельную книгу.
В журнале «Иностранная литература» он с 1995 года вел рубрику «Портрет в зеркалах», представив русскому читателю панораму наиболее ярких поэтов и прозаиков второй половины XX века. Писал он и стихи (входил в 1970-х в группу СМОГ), но долго не публиковал их (в советскую эпоху это было сложно по цензурным причинам, а позднее играла роль скромность, а также, возможно, нежелание ломать сложившийся образ социолога); лишь за несколько лет до смерти он выпустил сборник своих стихов и части переводов «Порука» (СПб., 2013).
В постсоветские годы, когда он работал во ВЦИОМе и наследовавшем ему Левада-Центре, Дубин написал много научных статей, посвященных острым проблемам российского общества в сферах идеологии, образования, культуры (они печатались как в журнале ВЦИОМа «Мониторинг общественного мнения», так и в общей прессе («Знамя», «Дружба народов», «Знание – сила» и т. д.)), причем в них был всегда ощутим социально-критический посыл, направленный против тех, кто мешает России стать цивилизованной демократической страной, кто насаждает ксенофобию, хочет вести агрессивную политику и до конца ликвидировать свободу слова. Тяжело переживал он действия российского государства по удушению гражданского общества, которое стало нарождаться в России в первые постсоветские годы, – независимых партий, общественных организаций и объединений, частных средств массовой коммуникации (радио, ТВ, газет и журналов), частных издательств и т. п.
Но, возможно, наиболее ценная часть его наследия – теоретические и эмпирические работы по социологии культуры, прежде всего литературы. Филолог по образованию, Дубин благодаря опыту работы в социологических учреждениях и знакомству с обширным массивом социологической литературы стал профессиональным социологом. Филологическая подготовка позволяла ему избежать схематизации и вульгаризации при социологическом анализе литературных явлений, чем нередко грешат социологи, обращающиеся к изучению литературы.
Б.В. Дубин и Л.Д. Гудков, работая в Секторе книги и чтения Государственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина, создали в конце 1970-х – начале 1980-х годов (при содействии коллег по сектору) своеобразную версию социологии литературы, в теоретическом плане исходившую из понимающей социологии М. Вебера, структурного функционализма, интеракционизма и формальной школы, а в практическом учитывавшую опыт отечественной социологии чтения – от работ Н.А. Рубакина до исследований упомянутого сектора.
Интерпретационную рамку для понимания социальных процессов, отражаемых и опосредуемых литературой, дала теория модернизации (усвоенная главным образом через работы Ю.А. Левады и А.Г. Левинсона). Соавторы стремились показать, какие социальные потребности и на какой стадии порождают литературу как социокультурное образование, какие факторы обеспечивают ее структурную дифференциацию (выделение различных социальных ролей: писателя, издателя, критика, библиотекаря, историка литературы, школьного учителя, читателя и т. п.), как воспринимаются литературные произведения в обществе, какова смысловая структура литературных видов и жанров. Проект в теоретическом плане был чрезвычайно амбициозным, поскольку ставил задачу системного описания литературы как социального института (до того не ставившуюся ни в литературоведении, ни в социологии). Исходным мотивом была концептуальная потребность дать строгое описание того, как в литературных текстах (экспрессивно-символических формах) могут быть представлены различные социальные процессы, отношения, конфликты, напряжения, а также – механизмы их мысленного, сублимированного разрешения. Внутренним ценностным (идеологическим) обоснованием такой задачи была необходимость увидеть, как в поздней советской литературе (героях, сюжетах, формах времени и пространства, типовых социальных отношениях, конфликтах, желаниях, образах «своих» и «чужих») представлены процессы медленной эрозии тоталитарного сознания, как возникают – вследствие усложнения условий жизни, мобильности населения, урбанизации, усвоения новых культурных образцов – модели нерепрессивных, немобилизационных человеческих отношений, могущих служить индикаторами самоопределения, автономной субъективности, морали, свободы, интимности и доверия. Решение нельзя было искать в предшествующих опытах литературоведения, занятого «отражением общества в литературе» и использующего так называемый «социологический метод», поскольку социологическое литературоведение хотя и предлагало ряд интересных наблюдений, но не выходило за рамки индивидуальных интуиций и остроумных интерпретаций, к тому же нередко грешило вульгарными обобщениями. Дубин и Гудков стремились теоретически и концептуально «адаптировать» нечеткую литературоведческую терминологию, чтобы ее можно было использовать для анализа того, как нормы и правила социального взаимодействия людей (поведения в группах, саморепрезентации), обобщенные типы людей (социальные роли, институты, социальные группы), рамки конструирования реальности и т. п. представлены в средствах литературы – языке, условностях, литературных формулах, героях. А это в свою очередь потребовало обращения к смежным дисциплинам – рецептивной эстетике, социологии знания и идеологии, феноменологии, истории чтения, библиотек, цензуры и т. п., теории коммуникации и проч. В итоге была намечена проблемная структура дисциплины и выработаны методы анализа: социология литературы рассматривалась как один разделов понимающей социологии культуры.
Обширный массив данных о массовом чтении, полученных в ходе исследований Сектора книги и чтения (таких, например, как «Динамика читательского спроса в массовых библиотеках СССР»), давал уникальную возможность эмпирической проверки и анализа выдвигаемых гипотез. Поэтому первые опыты концептуальной интерпретации были посвящены таким разновидностям литературы, как советский роман-эпопея, исторический роман, научная фантастика, детская литература, на которых можно было прослеживать общие рамки конструирования «советской вселенной» – ее границы, структуры внутренней организации общества, типы вертикальной мобильности, технику социализации и т. п.
Но дело не ограничивалось лишь анализом текстов. Соавторам было важно наметить в теоретическом плане, как выработанные инновационными группами (авторами, задающими новые образцы отношений, моральных оценок, представлений о реальности) идеи или формы ретранслируются в обществе, как от групп «первого прочтения» модели нового понимания и интерпретации передаются другим группам и слоям. В этом рассмотрение проблематики старого и нового в литературе вплотную смыкалось с анализом роли элит в обществе и структуры коммуникаций. Поэтому материалом, на котором Гудков и Дубин рассматривали социодинамику культурных образцов, стали, с одной стороны, литературные и общественные журналы, а с другой – школьные и университетские учебники литературы, которые предлагали стандартные основания для социализации входящего в жизнь поколения – образцы понимания истории страны, модели ролевых отношений, основы идеологии литературы, равно как и способы разграничивания того, что является литературой, а что – нет (включая и подавление интереса школьников к тому, что не входит в конвенциональный набор представлений о высокой литературе). Технически это потребовало разработки индикаторов, позволявших видеть уже в самой форме издания тех или иных текстов (серии, дизайн книги, шрифт, наличие комментариев, отбор произведений в писательских сборниках и собраниях сочинений) характер читательской адресации, а значит – проектируемую структуру социального взаимодействия групп носителей авторитета письменной культуры с культурно неполноценными аудиториями. Дополняли тематику литературной социализации и усилия по описанию библиотек (массовых и специализированных – научных, ведомственных и т. д.) как института, аккумулирующего коллективную «память» групп и сообществ разного уровня. Речь шла не только о собственно дисциплинарной парадигме, но и об исследованиях, имеющих вполне практический, в том числе и общественный, смысл: так, анализ журнальной системы СССР показал, как нарастает консолидация этнонациональных элит в республиках, что через несколько лет стало одним из факторов развала советской империи.
Помимо содержательного анализа массовой литературы советского и постсоветского времени Дубин уделял много внимания разработке концептуального аппарата социологического описания литературной системы. Речь идет, прежде всего, о его работах об изменениях в составе тех текстов, которые образуют основу внутренней структуры литературной системы, того, что задает норму «литературности», систему референции различных действующих лиц литературной системы: критиков, читателей, издателей, школьных учителей, а стало быть – и самих писателей. В его интерпретации именно постоянно меняющаяся «классика» (корпус авторов, которых современники воспринимают как образцовых) задает парадигму литературы как института. Но именно поэтому сфера его интересов как социолога литературы не ограничивалась собственно классикой, а охватывала и явления, пограничные с «высокой» литературой, – боевик, исторический роман (и даже внелитературные сферы и явления, организованные по схожим с литературой принципам, – спорт, моду, массовые коммуникации и т. п.).
Возможности продуктивной работы в Секторе книги и чтения в первой половине 1980-х годов с изменением общей атмосферы в стране и в Библиотеке имени Ленина резко уменьшились. Дубин и ряд других сотрудников сектора перешли в Институт книги при Всесоюзной книжной палате и постарались продолжить там свои теоретические и эмпирические разработки. Результатом стала серия статей по социологии книгоиздания, книготорговли и библиотечного дела, анализу искусственного дефицита книг в советское время как стратегии подавления социокультурной дифференциации и интеллектуальных запросов в обществе. Эта работа была продолжена им во ВЦИОМе и Левада-Центре.
К сожалению, условия работы в исследовательских структурах практической ориентации (Сектор книги и чтения, ВЦИОМ / Левада-Центр) не способствовали подробной проработке различных аспектов социологии литературы; были созданы лишь своеобразная «карта» этой проблемной области[2]2
Книга, чтение, библиотека: Зарубежные исследования по социологии литературы: Аннот. библиогр. указ. за 1940–1980 гг. / Сост. Л.Д. Гудков, Б.В. Дубин, А.И. Рейтблат. М.: ИНИОН, 1982.
[Закрыть], пропедевтический очерк[3]3
Гудков Л.Д., Дубин Б.В., Страда В. Литература и общество: Введение в социологию литературы. М.: Институт европейских культур РГГУ, 1998.
[Закрыть] и описание основных проблемных «узлов»[4]4
Гудков Л.Д., Дубин Б.В. Литература как социальный институт: Статьи по социологии литературы. М.: Новое литературное обозрение, 1994.
[Закрыть]. Помимо этого были написаны десятки статей, посвященных самым разным сюжетам. Хотя писались они на протяжении значительного времени, их объединяет ряд ключевых тем: литература как социальный институт и динамика основных его элементов (писатель, читатель, библиотека, журнал в конце XX – начале XXI в.); соотношение классики, авангардной и массовой литератур, биография как литературная конструкция, соотношение литературы и других форм социальной коммуникации, и др. В соответствии с этим и был структурирован настоящий сборник[5]5
Благодарю Л.Д. Гудкова за помощь в подборе статей и определении структуры книги, а также за обсуждение вступительной заметки.
[Закрыть]. Часть вошедших в него работ хорошо известна читателям, другие публиковались в малотиражных изданиях и не входили в сборники работ Дубина.
Б.В. Дубин: «…Если можно назвать это карьерой, пусть это будет карьерой»
Интервью проведено Г.С. Батыгиным 20 июля 2001 г.[6]6
Впервые: Социологический журнал. 2002. № 2. С. 119–132.
[Закрыть]
Борис Владимирович, пожалуйста, расскажите о своей родительской семье, в какой школе вы учились, как определились ваши интересы. Если предположить, что жизнь – это литературное произведение, значит, в начале этого произведения должны быть какие-то аллюзии на развитие сюжетной линии.
Опрашивать социологов, которые знают все эти хитрости, нелегко, все-таки я умею убегать от вопросов. Ну ладно, буду убегать умеренно. Во-первых, давайте зададим повествованию хронологические рамки. Я сорок шестого года рождения, школу окончил в шестьдесят пятом году, в шестьдесят пятом же поступил в МГУ на филологический факультет, который в семидесятом году окончил. С тех пор началась работа. Вот такие рамки.
Вы москвич?
Я москвич, но москвич какой-то странный… Как, наверное, большинство советских москвичей. Сначала из деревни в столицу перебралась мама моей матушки и постепенно перетащила сюда остальных. Отец тоже из деревенской семьи. Так что и мама, и отец оказались в Москве. Жили на самой окраине города, в Текстильщиках, тогда это был абсолютный край: за поселком – пруд, а за прудом – Подмосковье.
А кто были ваши родители по профессии?
Раньше это называлось «служащие». Мама у меня детский врач – педиатр, а папа – военный врач.
Учились в обычной школе или языковой?
Школа была обыкновенная, самая что ни на есть средняя, сначала в Текстильщиках, а потом мы переехали в район неподалеку от Университета. Там тоже была обычная средняя школа. Может быть, в ней были чуть лучше преподаватели литературы, неплохие преподаватели иностранного языка, в старших классах был отличный преподаватель математики (школа была связана с мехматом МГУ). О профессии никогда не думал, но понимал: будет что-то гуманитарное. В самых общих чертах: зеленая лампа, круг света, книги, мерная, тихая, спокойная работа…
Вы были отличником?
Конечно. Дети военных, как правило, отличники. Школу я окончил с серебряной медалью, но при поступлении в университет это не помогло, сдавал все экзамены на филфак.
Вы на филологический факультет поступали вполне целенаправленно? Это определилось заранее или решение было спонтанным?
А куда еще было поступать? Родители, конечно, меня не одобряли. В занятиях филологией они не видели профессию и хотели чего-нибудь более «положительного», но, с другой стороны, они не знали, чем бы я мог еще заниматься, кроме книг. Я был довольно спортивным, но во всем остальном – человеком гуманитарно-ученого склада. Спорт вполне совмещался с гуманитарной ученостью. Особенно я увлекался баскетболом, но люди моего – среднего – роста в то время на баскетбольную карьеру рассчитывать не могли. Начинался «ростовой» баскетбол, и нас перестали принимать в спортивные секции. Кто знает, может быть, я и пошел бы по баскетбольной линии, тем более у меня кое-что получалось. До районных, городских соревнований я уже дошел, но дальше ходу не было. Куда ж еще идти? На журналистику меня не тянуло, я достаточно дистанцировался от горячей современности – того реального, что так или иначе происходило вокруг. В доперестроечное время никогда не читал газет, никогда не слушал радио, кроме «Голоса Америки».
Круг вашего чтения, вероятно, определился уже в школьные годы?
Я был очень домашний, одинокий и ни на кого не ориентировавшийся человек. Мама меня приучила к чтению еще до школы. Она привела меня в маленькую районную библиотеку. Там я читал все, что попадало под руку, а где-то во втором классе случился, что называется, прорыв… совершенно случайно, в пионерском лагере. Там оказался паренек (я сейчас и не помню, как его звали), который отличался поразительным разнообразием знаний и интересов. Я-то считал, что я много читаю и, в общем, кое-что знаю. Но этот паренек!.. Бывают такие люди – ходячая энциклопедия. Во всяком случае, раньше они были. Это меня так поразило и так понравилось, что я стал читать и днем, и ночью, и всегда. Родители, особенно отец, несколько ворчали. Понятно, что из этого профессии не сделаешь.
Так вот… Сделать профессией это можно было только на филфаке. Филологу можно читать и даже получать какие-то деньги за удовольствие. Вообще филология мыслилась как достаточно нереальная профессия. Мне было понятно, что мои интересы лежат, скажем так, совершенно не здесь. Меня увлекала в большей степени литература зарубежная, а не отечественная, литература нереалистическая, я реализма не признавал (в этом смысле) довольно долго, в том числе русского реализма. Жизнь была совершенно фантастическая.
Что вы имеете в виду под реализмом? Чернышевского?
Ну, Чернышевского, да и великий русский реалистический роман. Тем более что реализм преподавался в школе, а это уже последнее дело. Поэтому любимыми писателями были писатели зарубежные…
Тогда просвещенные люди Хемингуэя читали.
Да, и я читал, но не в такой степени. Я не был в этом смысле модником. Действительно, я был отдаленным от всего и всех, замкнутым человеком. Ориентировался на какой-то собственный мир. Почему эти книги, а не другие – шут их знает. У родителей была Большая советская энциклопедия. Я листал статьи, которые были посвящены литературе, где про писателей говорилось (бред в каком-то смысле): «…искажал действительность», «…ориентировался на символизм, декаданс и проч.». Я этого писателя тут же замечал и искал его книжки. Чем вреднее, с точки зрения Большой советской энциклопедии, тем для меня было притягательнее. В основном круг чтения задавался периодом от романтиков до символистов. По тем временам книг было достаточно. Они были доступны в том смысле, что много было переведено, так или иначе книги можно было найти. Совсем уж авангарда тогда почти не переводили.
Все-таки это был конец пятидесятых – начало шестидесятых годов. Только-только начал просачиваться Хемингуэй, его двухтомник вышел, появилась трилогия Фолкнера. Собственно русско-советская нереалистическая литература тогда вообще не существовала, Булгакова не было – «Мастера…», Платонова еще не было (первый сборничек его я увидел только в университете), обэриутов не было. На что же было ориентироваться? На ту литературу, которую преподавали в школе? Я ее никогда ни во что не ставил. Любимый поэт – Блок, и все, что вокруг символизма. Блоком я был увлечен все отроческие годы, в двенадцать – пятнадцать лет, до состояния бреда, до потери реальности….Поэтому куда? На филфак.
Извините, один «политический» вопрос. А комсомол и вся эта сфера присутствовали в вашей жизни?
Принудительно. Это очень простая история. Если не считать затерянности в этом, скажем, символистском романтическом мире, складывались типовые ситуации. Да и затерянность эта, я думаю, не была такой уж редкостью, тоже случай типовой. С комсомолом приключилась очень типичная история. Я ни за что не хотел всем этим заниматься, не имел никакого отношения к этому вплоть до одиннадцатого класса.
Мы были последним поколением советских школьников, которые учились одиннадцать лет. И в выпускном классе, где-то зимой, ближе к весне, преподаватели, которые хорошо ко мне относились, спрашивают: «Ты куда хочешь поступать?» – «На филфак». – «Как на филфак? Ты же не комсомолец?» Я говорю: «Ну и что?» – «Ты что, даже и думать нечего, поэтому ты давай». Ну, я как всегда, как та девушка, которая думала, что рассосется… Но ничего не рассасывалось, и ближе к весне за меня взялись все, от директора и до преподавательницы литературы. Я же медалист в перспективе….Ну, что делать? Надо так надо. Созвали собрание, приняли. Этим дело закончилось. Опять-таки не помогло, поскольку происходили постоянные конфликты – теперь уже на филфаке, с руководством. Я был не совсем благонадежный, но это уже филфаковские дела.
Ближе к концу школы меня вынесло через мою будущую жену на московских неподнадзорных поэтов. Тогда они еще не были даже кружком, скорее распространялись как круги, что ли. Шел примерно шестьдесят четвертый год. Вся эта история, поэтическая, продолжалась примерно по шестьдесят шестой, то есть последние два года школы и первый год университета. Тогда мы создали что-то вроде литературного общества. Оно называлось СМОГ. Я не входил в число его наиболее активных деятелей, но в круг активного общения входил.
Общество молодых гениев?
Да, «самое молодое общество гениев». Там были замечательные поэты: Лёня Губанов, Володя Олейников, Володя Батшев, Сережа Морозов. Это те, кого я лучше знал, действительно очень хорошие поэты. Затем кто-то из них бросил писать, Лёня помер, судьбы у всех сложились по-разному. Так вот. Среди них было несколько очень интересных поэтов и интересных людей. Для меня, человека одинокого и ни с кем не общавшегося, это был неожиданный круг, интересный и важный. В то же время я дичился, боясь потерять свое одиночество, а с другой стороны, уже пришло время быть среди сверстников и людей постарше. Меня, вообще говоря, всегда тянуло к людям постарше, в том числе значительно постарше, к поколению старших братьев, дядьев, отцов по возрасту, но не по прямой родственной связи. Притягивала боковая линия, старшее поколение – не отцы, от которых надо отталкиваться, с которыми надо сражаться, терять силы на преодоление зависимости, а дядя, старший брат – те, которые понимают. Вот такое сложилось сообщество. Это было очень интересно. Опять-таки, с одной стороны, как бы не потерять одиночество, а с другой стороны, найти, наконец, свой круг. Эти две страсти разрывали в разные стороны.
Начались события шестидесятых годов. В шестьдесят шестом году – процесс Даниэля – Синявского, перед этим дело Бродского. До поры до времени таких ребят власти терпели, а тут нужно было что-то предпринимать. Володю Батшева быстренько посадили, судили и отправили в Сибирь (потом он описал все это в романе «Записки тунеядца»). Остальные немножко присмирели, попытались как бы побарахтаться, написать какое-то письмо наверх. Но потом, поняв, что настает полная безнадежность, мы стали постепенно закисать, выплывали кто как может, в одиночку.
Вас не выгнали из университета?
Нет. Меня вызывали к руководству. Заведующим учебной частью на факультете был Михаил Зозуля, ничем по филологической части не отличавшийся, видимо, человек прямых надсмотрщицких функций. Ситуация сложилась тяжелая. Потом – к декану (тогда это был А.Г. Соколов). Потом уж совсем дико и смешно – вызвали родителей. Но это было смешно внешне. А начальники понимали такую простую вещь (я теперь так думаю), что отца можно взять в оборот и поставить перед фактом. Когда отец военный – это особая ситуация. Его можно крепко взять в оборот, а что будет делать сын? Сын пойдет вразнос, что называется, не пожалеет отца… Или пожалеет. Тогда можно одним ударом убить двух зайцев. Примерно так и получилось. У меня были непростые отношения с отцом, но подводить его и портить ему жизнь я не хотел – или не решался. Поэтому продолжал заниматься всем тем, чем занимался раньше, писал в стол, пытался искать людей, которые что-то делают. У меня было несколько друзей – хороших поэтов. Один, самый близкий, Сергей Морозов, потом, уже в середине восьмидесятых, покончил с собой, другой, мой университетский товарищ Миша Елизаров, пропал, куда-то его унесла жизнь, не знаю, жив ли он сейчас. Вообще в жизни того поколения немало тяжелого, безнадежного: много смертей, много самоубийств, пьянства – беспробудного, саморазрушительного, много людей пропавших. Особенно из тех, которые пытались найти себя в литературе и искусстве. Это была сфера непрофессиональная или не до конца профессиональная, очень жестко контролируемая, а с середины шестидесятых годов – предельно жестко. Практически никакая иная судьба, кроме судьбы комсомольского поэта, была невозможна. Обычная карьера – выезжать на стройки пятилетки. Это было совершенно не для меня и не для моих друзей. Этот вариант вообще не рассматривался. Выход был примерно такой: попытаться найти себе скромную профессию, с помощью которой жить, а все остальное – мое: заниматься, чем занимаешься. Жизни и судьбы здесь никакой нет.
Если можно, вернемся на филологический факультет. Какая у вас была специализация?
Я поступал на русское отделение. У меня была тяга к зарубежке, но я ясно понимал, что моего языка не хватит, чтобы сдать экзамен на «ромгерм», при всем том, что я занимался английским со второго класса индивидуально с учительницей. Язык был неплохой, но это был не ромгермовский уровень, я бы не сдал экзамен. Кажется, там еще что-то нужно было сдавать, чего мне не хотелось. А русское отделение по типу экзаменов и всему остальному было наиболее приемлемым. Но судьба распорядилась иначе. Всех мужиков, поступивших в том году на русское отделение, загребли и создали из них особое отделение. Это было не в первый раз, а, может быть, во второй. Считалось экспериментом. Создали отделение под названием «Русский язык для иностранцев» или «Русский язык за рубежом», причем всех нас перефранкофонили, поскольку мы были «англичане», один или двое «немцев». Всех нас перегнули во французскую линию – считали, что в ближайшие годы мы будем сильно дружить с франкоязычными странами Северной Африки. Поэтому мы проходили Алжир и Марокко по истории, по географии, по страноведению, по литературе. Я принадлежу к числу немногих людей в этой стране, которые имеют представление об алжирской литературе, причем я имел представление о ней еще тогда, когда ее вообще почти еще не было. Получилась такая странная специальность. Опять-таки были конфликты с начальством, отсюда следовало, что никакого приличного распределения, вроде аспирантуры, не будет и про Африку можно забыть, тем более что ко мне где-то на последнем курсе подошел человек…
Да, тогда я ходил в литературное объединение при гуманитарных факультетах. Люди, которые вели литобъединение, менялись. (Вообще в первой половине шестидесятых в Москве было несколько «открытых» литературных объединений. Среди других эту ниточку тянул Эдик Иодковский. То здесь, то там на территории Москвы он находил теплое место, где на какое-то время создавал питомник, а потом очередное начальство его проваливало, и он шел дальше. Человек он был очень занятный – комсомольский поэт: «Едем мы, друзья, в дальние края…» Но при этом у него было несомненное чутье на стихи и желание помогать людям, которые, с его точки зрения, талантливы. Он занимался этим делом, рискуя престижем, имиджем, положением. Не такое уж блестящее, но какое-то положение у него было. Потом, уже в перестройку, он случайно и нелепо погиб.) Все эти литературные дела тихо-мирно продолжались и на филфаке, потом на одной из встреч свои стихи прочитал зашедший «со стороны» Володя Батшев, филфаковское начальство отреагировало и т. д. Так что где-то на последнем курсе человек, который тогда присматривал за университетским объединением (потом он стал деканом филфака – Иван Федорович Волков), подошел ко мне и спросил: «По-прежнему литераторствуете?» Я сказал, что да, пишу. «То же самое, что раньше?» Я говорю, да, то же самое, что раньше. Он как-то криво усмехнулся и отошел. Вопрос о моем распределении был решен. Куда мне в Африку? Ищи сам. Но я был молодой-зеленый, сунулся в какие-то организации московские – молодежные, международных связей и т. п., на меня, видимо, смотрели как на идиота. Надо было приходить с рекомендацией, либо со знакомством, с лапой и со всем прочим, либо уж с таким послужным списком, что медали должны были проносить в три ряда.
А учителем работать?
Вариант другой – идти работать учителем словесности. Как-то мне это не сильно хотелось, педагогической жилки в себе я совершенно не чувствовал и плохо себе это представлял. К тому же я был очень влюблен в свою будущую жену, и мысль о том, что придется уехать на периферию и расстаться с ней, мне была тяжела. Это сильно осложняло нашу жизнь: и ее, и мою. Мы держались друг за дружку. Деваться было некуда, я пошел в Ленинскую библиотеку, где до того подрабатывал каждое лето, таская книжки, и предложил им свои услуги. Они опять взяли меня в хранение таскать книжки. Я бы таскал их и таскал. Там были десятки ребят, которые на ярусах или в других группах работали, потаскают книжки четыре часа в день, а потом занимаются своими делами. Это был своего рода вариант для поколения дворников и сторожей, впрочем, он существовал задолго до этого поколения. Было ясно, что никакой реальной карьеры, никакой общей жизни, в общем, не будет. Делать обычную карьеру не было ни желания, ни сил, оставалась другая жизнь – не карьерная: зарабатывай небольшие деньги, а дальше живи как хочешь.