Текст книги "Ладья тёмных странствий. Избранная проза"
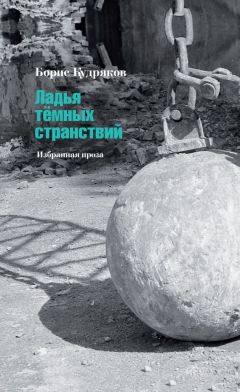
Автор книги: Борис Кудряков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Борис Кудряков
Ладья тёмных странствий. Избранная проза
© Б. Кудряков, тексты, фотографии
© К. Козырев, Б. Останин, составление, 2017
© А. Конаков, вступительная статья, 2017
© Д. Пиликин, интервью, 2006
© ООО «Новое литературное обозрение», 2017

Борис Кудряков. Автопортрет <Начало 1970-х>
Черное и безголосное
Борис Кудряков при жизни сторонился властей, опасался людей, панически боялся милиционеров, мог не есть по три-четыре дня, был склонен к отшельничеству, регулярно уходил в леса и болота, периодически подозревал существование зловещего заговора против своей персоны. Иными словами – вел себя как любой нормальный человек эпохи «развитого социализма». Тогда многим хотелось превратиться в тело без органов: чтобы не совокупляться с официальными структурами, не поедать ежедневную норму партийной риторики, не испражняться по долгу службы на ближних, не видеть надоевших плакатов, не слышать избитых лозунгов, не чуять запаха мертвой плоти, доносящегося с Красной площади. Габитус Кудрякова был близок габитусу гладкого туловища, счастливо лишенного носа, глаз, ушей, языка и «дрона».
Именно поэтому его фотографические работы следует понимать как артикулированный отказ от зрения; вспомним навязчивый (во множестве текстов!) мотив ослепления:
она не выпускала меня, а пальцы её медленно давили на глаза («Встречи с Артемидой»),
когда вырезали глаз он смотрел на нож («Последняя часть первая»),
мне в глаза шалуном были пущены пульки («Белый флаг»), садовник выжигает себе глаз сигареткой («Лысое небо»),
глаза на мосту закрылись, обессиленные, убитые стеклом («Сияющий эллипс»).
Точно так же художественную прозу Кудрякова следует интерпретировать в качестве отказа от говорения, отчаянной попытки создать «черное и безголосное тело». Автор словно стремится истратить проклятую часть, именуемую языком, уничтожить, избыть, извести его, завить меандрами, изблевать барочной пеной, растворить в заумь, в мелкую взвесь букв, в простое животное мычание, в белый и черный шум. Формальное разнообразие рождается из грезы о радикальной человеческой безъязыкости; за потрясающей лексической роскошью текстов угадывается тоска по тотальной аскезе речи.
Подыскивая аналогии такой стратегии, авторы «второй культуры» регулярно сравнивали Бориса Кудрякова – с Самюэлем Беккетом.
* * *
Гран-Борис ощущает мир преимущественно кожей, тактильно. Гран-Борис не хочет видеть, Гран-Борис не хочет слышать, Гран-Борис не хочет говорить; Гран-Борис мечтает стать слепым и глухим шаром, катающимся в потемках позднего социализма.
Но вот любопытное совпадение: искомое (чаемое) состояние Гран-Бориса (это, известное всей «второй культуре», имя будет указывать здесь лишь на концептуального персонажа прозы Кудрякова) представляется очень похожим на исходное (нечаянное) состояние знаменитой маленькой О. Ситуация такого совпадения, какой бы странной она не была, позволяет нам лучше понять некоторые особенности текстов Кудрякова, некоторые их черты, обусловленные спецификой именно советской жизни (и потому неизбежно ускользающие от оптики того же Беккета, Арто, Делёза и проч.).
Итак, нас интересует не постструктуралистское тело без органов, но заболевший советский ребенок, не изыски европейского театра абсурда, но брутальность сталинской биополитики, не Моллой, но – «маленькая О.» Так Ирина Сандомирская обозначает «“cogito” [Ольги] Скороходовой»[1]1
Сандомирская И. Блокада в слове: Очерки критической теории и биополитики языка. М.: Новое литературное обозрение, 2013. С. 17.
[Закрыть], слепоглухой писательницы, потерявшей в детском возрасте (после перенесенного менингита) зрение и слух, а чуть позже (как следствие утраты слуха) – еще и речь. Ставшая инвалидом, потом сиротой, медленно передвигавшаяся сквозь недружелюбное пространство и время, маленькая О. на ощупь исследовала социальные ландшафты зрелого и высокого сталинизма, и Сандомирская предлагает считать подобную (трудную, даже опасную) практику – универсальной аллегорией письма в сталинскую эпоху.
Спустя двадцать лет, в постоттепельном СССР, на фоне ползучего контрнаступления неосталинистов, очень похожим образом ведет себя и Гран-Борис, терпеливо фиксирующий многообразие телесных и языковых фактур начинающегося застоя. Но если для маленькой О. отсутствие слуха, зрения и речи – трагическое последствие тяжелой болезни, то для Гран-Бориса скорее – вожделенная цель.
Тебя тащили по парковой дорожке, мимо закурившего слепого, размышляющего: что он теперь может? Наслаждаться тьмой? <…> жестокость тьмы не без добра, не позволяет оптическому насилию иссушить мозг. Лишиться бы ещё слуха и осязания – предел счастья («Ладья темных странствий»).
Следует всерьез отнестись к этим словам; перед нами вовсе не пустые риторические восклицания – но манифестация оригинальной этической программы, верность которой может приводить человека к тем же последствиям, что и перенесенный менингит.
* * *
Нет ничего удивительного в том, что радикальный этический выбор Гран-Бориса ежедневно оплачивается страданием и болью. Добровольно отказавшийся от зрения, слуха и языка, Гран-Борис не может предупредить козней и избежать ловушек, которые готовит ему мир. Вспомним здесь мучения маленькой О.:
мир превратился в заговор злых вещей: печка нарочно становилась на ее незрячем пути и больно била о свой угол, ведра кидались ей под ноги, чтобы свалить и обдать ледяной водой, стулья подставляли ножки, а стол, как драчливый теленок из страшного младенческого воспоминания, только ждал случая, чтобы повалить ее на землю и избить.[2]2
Сандомирская И. Блокада в слове… С. 21.
[Закрыть]
Это же и ситуация Гран-Бориса:
утром, надевая рубашку, ощутил укол-удар в центр спины, в позвоночный столб. Выгнул спину. В сердце шумел напалм. Пал на колени, ударился лбом о пол. Позволил таракану пощекотать барабанную перепонку. Откуда боль? Горячо, воспаленье легких: раздавил зубами бутерброд со стеклом. Шестой этаж, в кабине лифта отвалился пол. Спасли подтяжки. Вернулся в комнату. Снова удар в спину. Откуда в квартире шершни? («Сияющий эллипс»)
Собственно, в плане содержания вся проза Бориса Кудрякова – череда жутких сюрпризов, чудовищных открытий, кошмарных откровений, коварных ударов, сокрушительных оплеух, на которые была так щедра эпоха. Высочайшая интенсивность внешних шоков, помноженная на гипертрофированную гаптическую чувствительность концептуального персонажа, порождает странную, порой откровенно ирреальную картину мира: стрела вонзается в лоб, пуля вышибает глаз, автобус падает с моста, ребенок умирает, съев крысу, древние богини бьют по лицу наотмашь, в северных лесах возникают тропические хищники и далее, и далее.
По прочтении некоторого количества кудряковских текстов заражаешься какой-то фундаментальной неуверенностью; вдруг становится страшно – не жить даже, но просто присутствовать. Страшно ступать по полу (где провалишься вниз?), страшно идти вдоль стен (кто набросится из-за угла?), страшно находиться под открытым небом (что обрушится сверху?); страшно поворачивать язык, поводить глазами, двигать руками; страшно смотреть и не смотреть вокруг.
* * *
Борис Кудряков был фотографом – то есть человеком, занятым сведением собственной способности видеть к сериям бумажных карточек. Поэтому – в отличие от хлебниковской зауми (ориентированной на голос) или крученыховской сдвигологии (ориентированной на слух) – в текстах Кудрякова логично предполагать примат зрения (и его потери, связь которой с письмом концептуализирована Сандомирской).
Кудряковская проза – это повесть о прогрессирующей слепоте Гран-Бориса, запись долгого и мучительного процесса, радикально меняющего мир. Так расплывается бельмо, мутнеет хрусталик, отслаивается сетчатка; постепенная утрата зрения зафиксирована в череде формальных приемов.
Глаз перестает видеть отдельные знаки препинания:
страшно страшно всё время и если бы не надежда на непродолжительную болезнь а дети их некому кормить научатся лаять а жена будет спать с другим матрасом кровать в шишечках рожа в шишечках оставим пейзаж приходить к нему жаловаться ему а он тебе («Последняя часть первая»),
одни буквы сослепу кажутся совсем другими:
из-за острога на стержень («Встречи с Артемидой»),
по-над берегом боря («Встречи с Артемидой»),
пропадают отдельные слоги в словах:
в голове крутится слово паралепипед («1999 год»),
потянуло меня от всей этой загульной кати-поле житухи в сон («Встречи с Артемидой»),
исчезают пробелы:
Пятьдесятшесть год. Полввроде женский («Ибо иногда»)
– в результате чего слова склеиваются, образуя неологизмы:
Небосклад («Время жатвы»),
ураганы тьматьмы («Время жатвы»),
некоторые фрагменты текста глазам Гран-Бориса уже не различить – и они обозначаются длинными рядами точек:
Последний урок вежливости… когда с Фатумом закончено дрязгобоище. На эстраде мраморный подшейник… Нож вскроет грудину от горла до паха («Ладья темных странствий»)
или лаконичным индексом «ошибка»:
другие бродят по другим которые других не знали, ошибка, аттракцион светлой памяти материи («Последняя часть первая»),
и лобзания эти такие юношеские… – Ошибка. – …пробудили в ней женственный корень («Встречи с Артемидой»).
Сознательно отказывающийся от созерцания окружающего мира, Гран-Борис повторяет путь слепнущей после болезни маленькой О.; в самом конце такого пути его проза должна окончательно расплыться, исчезнуть, пропасть, свестись к некоему минимальному, нередуцируемому остатку. (Иногда кажется, что этим остатком будет таблица Сивцева – уникальный пример футуристической зауми на службе медицины, запускающий рефлексию о неизбежной потере способности видеть: Ш Б/ М Н К.)
* * *
Возможно, ситуацию Гран-Бориса и маленькой О., ситуацию слепо-глухо-немого концептуального персонажа, следует считать аллегорией не только письма, но и самой жизни в СССР – деформированном государстве рабочих и крестьян, несчастливо попавших под пяту новой бюрократии.
Важный мотив советских семидесятых: от гадости и пошлости хочется закрыть глаза, нос и уши, но окончательно застывшая, искаженная, уродливая структура все равно дает о себе знать – на поверхности полно ям, канав, ухабов, резких поворотов и острых углов, грозящих причинить боль.
Именно поэтому так важно читать сегодня Кудрякова: его тексты развенчивают заново сложившуюся мифологию брежневского застоя – якобы золотого времени, которое «было навсегда, пока не кончилось» (Алексей Юрчак); времени, когда простой человек, честный труженик, добросовестный работник был избавлен от экзистенциальных кризисов, порождаемых свободным рынком; когда даже отщепенцы могли спокойно сидеть в кочегарках, создавая шедевры живописи и литературы.
В действительности поздний социализм отнюдь не располагал к спокойствию; он точно так же вызывал неврозы, психозы, мании и депрессии. Борис Кудряков избавляет читателя от многих (и модных) прекраснодушных иллюзий; и дело даже не в смачном живописании мерзостей советской жизни, но, скорее, в постоянном ощущении хрупкости наличного мира, принципиальной неустойчивости всей системы, ее готовности рухнуть в любой момент. Тогда эти интуиции невозможно было эксплицировать (в крах социализма мало кто верил) – но Кудряков вкладывал странное ощущение ненадежности в сам строй своей прозы, полной вывертов, смещений, лакун и прорех.
Лишившись глаз, языка и ушей, став телом без органов, спрятавшись во вненаходимые пространства, покрывшись коркой и скорлупой, одевшись в броню чудачества и мизантропии Гран-Борис, те не менее, не может обрести покоя; подобно барометру, он чувствует изменение климата эпохи. Ему понятны малейшие завихрения советской ноосферы, медленный рост трещин на поверхности железного занавеса, едва уловимая вибрация геополитических сдвигов, колебания земной коры накануне грядущего конца истории.
Кудряковская проза работает как индикатор всех этих процессов и одновременно занимается поиском новейшей (конгениальной таким процессам) стилистики.
Вдруг, – сладкое слово «вдруг», спасительная соломинка для посредственного писателя, если писатель может быть хоть посредственным, «вдруг он осознал», «вдруг он увидел», и дальше ключевой момент фабулы, её, так сказать, драматический вопль или, что ещё удивительней, – откровение автора, его, так сказать, жизненное кредо, о котором он мечтал разразиться с самого начала и жизни, и романа («Встречи с Артемидой»).
Именно пошлым (не взрывом, но взвизгом)«вдруг» кончается советский социализм, «обрыдлое постоянство и слова, и света».
Читая тексты Бориса Кудрякова, написанные под знаком тотальной неуверенности и ежедневной боязни, мы начинаем лучше понимать глубинное душевное неблагополучие застоя, сегодня слишком часто интерпретируемого как уютный и надежный мир.
Он совсем ненадежен!
На лавках пьют, в парадных ссут, за углом убивают; в абортариях и гастрономах очереди, жирные крысы галопом сбегают по лестницам, селедка таится во вчерашней газете; гэбисты так же шьют дела, нерядовая комса наживается на стройотрядах, высшая бюрократия мечтает узаконить и передать по наследству свои привилегии; очередная ракета стартует с Байконура, но народное хозяйство, кажется, почти разрушено, и «красные директора» уже готовы к контрреволюции, к переводу неповоротливого советского госкапитализма на общемировые неолиберальные рельсы.
Нужно было отказаться от трех чувств из пяти, выстрадать и выпестовать уникально обостренное ощущение мира, обернуться на время маленькой О. или Гран-Борисом, чтобы понять происходящее. Результат этого обращения, рефлексия этого ощущения, следы и отпечатки этих процессов и даны нам сегодня в прозе Бориса Кудрякова.
Алексей Конаков
I
Белый флаг
Некропоэма
Прошло четыре года.
Ведьма ухала черепом в лёд; ночь, декабри, январи. Свист позёмок, раскрут лиховейных закруток. С косогора станины ледовой кто-то глазом сучил преисподню болотистых мраков. Шептались виденья, в навозе ноги свои согревая.
Курчёнок простуженный сизый, облитый чернилом, против ветра рванулся, хозяйка с ножом, с фонарём позади, но – отстала. Меж торосов царапками по льду, к проёмине бежала пернатая тень от домов, от столов. Бородатые кошмары по перелескам сигали.
Она. В красно-байковом-на-турецком-ватине пальто, из кино возвратилась, из города. После работы затоптать недоедки прибрежных лиризмов. Страшно: то ли просека, то ли канава, то ли куски болтаются за верандой иль над – не видать. Тепловатая вяль щупала пломбы зубов, забиралась за перегибы кашне, кашемировой кофточки с брошью – то был знак педучилищных курсов.
Оглянулась – не рассмотрела: на востоке града токи сияющих улиц, проспекты – прожекты. Синева! Там река, осветляя свои нечистоты, – заводы любили в неё помочиться ядом редких сортов, – постаревшие воды влачила к отливам, к приливам. Отсверки забытого града коснулись женского носа и исчезли за дверью. Пришёл домочадовский хаос и запах.
Вот и день умертвили удачно, миллиарды таких впереди. Их в бильярд отстучим, отвоняем блевотиной тайн, и каких!
Пропустила в свою комнатёнку стайку учениц. В кухонный гам пошла готовить ужин. Пока промывала овсянку (варить и давить с солёной камбалой), вспомнила со злобой завуча, как он в окриках рыло навохривал: никогда, ни-ни-ни, не разделю вашей симпатии, голубчик, Зинаида Одовна, к Обломову! Что вы нашли в нём светлого, пышущего маячным пульсом звезды троповодной? В этом сбитне клейстера и ячневой каши охающей, паразитирующей… что? в сём канонизированном лоботрясе нет ни единого позыва… хотя бы скворешник для лесных птах сколотить, для мускульного экзерсиса. Наболтали детям о какой-то тайне сердца, о некоей гармонии в лености. Согласен, Атмана в булочной не найти… а Костолизова вчера в учительскую со слезами прибежала. Как завуч – утешил. Это второй прецеденс. Папа отлучил её от избы, а она (уже зима) – без тулупчика: лень, обломы, обломовщина. Если и дальше эта зараза пойдёт, кто на физо пойдёт? Поломойщица или ботаничка Сиси?.. Кстати. Обошлись без венка – светлой… группа товарищей. Простить? Но и с великим Лёвой вы осрамились. Мне каждый день мнения доносят, и прочее… и про вас, как вы сегодня несли чушь про динамизм запятой, про монему. Много себе позволяете, способствуете рождению слухов. Он прикрыл рукой подпись благожелателя, и она прочла: мама сказала, что (была цифра 8)… – он не дал дочитать. А вот и: за то, что Харамузина её любимица, её мать дарит ей билеты… Завуч опять не дал дочитать. Техничка говорит, что вы пьёте. Чертёжнику противна ваша причёска. И кескесе за тайные говорушки происходят у вас дома? Смотрите, голубчик, добра, только добра желаю. И вообще, с Обломовым у меня девятый год горе!
Управляющая литерописанием вернулась в класс. Пусто-пусто, в партах крошки хлеба, фантики, сломанное перо – следы надрывов в познаньи. Скрючилась, вспомнив супершлягер «Школьная учительша моя». Головка на бок, длинное платье, лукавый кавалерист в саване. Зависть, лесть, вон всё из памяти.
В классе био кислые герани, рыбки вверх пузом. От тишины качаются планшеты с потрохами примата. Хозяйка класса закопана четыре дня назад. Маленькая старушка равно мечтательно рассказывала и о настурциях, и об аскаридах.
На улице учительницу поджидал Петя Рурыкин – любимая жертва школьных репрессий, фуфырь и кентавр среди малолетних кентов. Личико кроткое, глаза – шары для кегль-бана, поражённые жаждой конца света и бильгарциозом. Глаза мучителя стерильных ценностей. Мать сорок лет провела в больнице, отцу придавило голову. С петушиных лет читывал шестой том Даля и зубрил стозначную таблицу логарифмов. Ему – 15. Обожает сочинения на вольную тему. Среди наглонаинахального ле фантастик: Гёте и Колумб – братья, муравей – прадед муравьеда, а сновиденья принадлежат нам – среди этих анекдотов в сочинениях Рурыкина встречались и весёлые истории: о квартире из тридцати комнат, о кастрюлях с замками, о магните под электросчётчиком, о пироге с накрошенными бритвенными лезвиями, о балериночке Софи, поклоннице Айвазовского, берущей половину пенсии у слепых за доставку пищи. Сопляменники по школьным сиденьям не раз подвергали Рурыкина остракизму, что, однако, не сбивало будничное мозговерчение.
Обратился к Одовне: на лодке можно в час-другой, но поздний день, приходите на именины, в старый сад. Сели в лодку. Вы похожи, – картавила Зинаида, – на завуча, почему вы набросились на Обломова? Я лишь хотела выявить колебания. – Согласен. Главное – связать самость разума, и всё для того, чтобы у бэби было готовое мироразумение. – Согласна. Жить афоризмами, а не эйфорией. – Согласен. Они будут вспоминать нас за труды пикантно-каторжные, без которых солнце – не солнце, весна – не весна. – Теперь, когда все мои страхи за питомцев прошли, теперь, когда они, как и я, отдерзались и начали путь к истокам, я снова вспоминаю будущие дни и вижу за партами своих учеников.
№ 1 – убит в козлятнике (17).
№ 2 – перешёл в 9-г (50)
№ 3 – в доме забытых (55).
№ 4 – автор 275,5 книг по этике (32).
№ 6 – не вернулось с лесопильни (38).
№ 7 – 20 лет глотал мячи на манеже (84).
№ 8 – до сих пор…
№ 11 – от краба сердца (15).
№ 14 – жена (99).
№ 15 – № 15.
№ 16 – прачка (62).
№ 19 – обглодан саранчовыми (20).
№ 20 – дворник (400).
№ 21 – процессуальный оптимист (30).
№ 27 – мастер женских причесок (18).
№ 29 – сказительница, умерла в 596 лет.
Петя Рурыкин, ответьте, где вы сейчас и по какой-номенклатуре проходила ваша жизнь? Что не гребёте? Мы встретились у Дома засоленных рукописей. Вы пытались подкинуть туда свои «Воспоминания о любви». Позже я читала их и долго корчилась не то от сострадательных инфинитивов (торт с финиками был тогда), не то от страждущих прерогатив певучих. Особенно – слова в твоём рассказике: растерзаю этот мир и положу к твоим голеностопьям. Обратила внимание, Петя, на излом в междусочии глав «Орлица моя» и «Преступник отчаянный, милый». Последняя глава, где она швыряется в окно (из-за дилеммы), успевая рыкнуть до разрыва коронарных ниток: я раздавлю асфальт персёю – последняя глава насыщена риторнелями с имитацией фалекиева стиха; предромантизм параболической мысли, украшенной версифицированными варваризмами, сдобренной эпиталамической интерполяцией (эпизод в таверне). Блестяще написана сцена Эго с Джованиной: анадиплосис безучастия, великолепные издевательства над компаративистами из клики структурологов менипповой сатуры. И всё хорошо, но Еврипида не превзойти, если талант не полакомится в конторских и больничных палатах.
Вы всё-таки изловчились подкинуть несколько сборников со своими вечными текстами в форточку Хранилища маринованных рукописей. Потом вы закричали: коня и шпагу мне, и поступили в седьмой «Б».
После каникул вы, с загорелыми взорами, пропитанными отечественной патокой, писали сочинение на тему «Прощай, лето». Сказочница описала то, как она наряжала летнюю елочку новогодними игрушками. № 16, прачка, смаковала дружбу со слепым мальчиком. Процессуальный оптимист: чуть не подавился солнцем. Мастер женских причесок: воровал мёд и продавал больной матери. № 12: облако похоже на вырезанную опухоль. Писательский зародыш: о своём путешествии по Фландрии и Месопотамии.
Ты же, мой дружок, накарякал какие-то опусы, начинавшиеся со слов: …закат сатанел[3]3
И. Сельвинский, «Улялаевщина», М.–Л., 1930.
[Закрыть] …луга играли в обезьян[4]4
Дж. Джойс, «Улисс», Лондон, 1922.
[Закрыть] …прыснули прахом года многолобых усилий[5]5
А. Белый, «Московский чудак», М., 1927.
[Закрыть] …дух времени строит хранилища силы[6]6
Р.-М. Рильке. М., 1971.
[Закрыть] …Оркус вкусил пасхального пирога… и так далее.
На официальном разборе № 20 резко осудила тебя за формализм и кривляния. Она же пожаловалась завучу, что Печорин не упоминает об Оркусе, а я не поведала ей биографию Универсума. Все хвалили Костолизову за её «Италийские напевы». Опять-таки, № 20 любопытствовала: сколько надо изодрать веников и лопат для сбора средств на постройку фрегата «Паллада»? Она мечтала совершить круиз с Карузо.
Я была спокойна: ты был и моим мужем, и завучем. Это случилось давным-давно, в яхт-клубе. Тогда лещи ещё не жевали пятна солярки, и ночами ты бегал по пляжу, сопровождаемый мотыльками и взорами замаскированных сторожей.
Утром начались гонки. Твоя старая яхта тащилась последней. Я бы плевать хотела, если бы (а наша команда – женская) не разорвало в дым на фордевинде спинакер. Как только вы приблизились, у нас отвалился киль. Посудина вмиг затонула. Мы и одеться не успели: был хороший для загара денёк. Моих подруг ранил лопнувший такелаж. Вы к этому времени вышли из гонок – слишком отстали, успели напиться. Мы пытались подплыть к вам, но безуспешно. Вы не хотели нас спасать. Весёлый, строптивый ВЕСТ. Балы волн. Очнулась от боли. Вы привязали нас за волосы к корме. Яхта тащила нас по волне. Я и подруги, кажется, захлебнулись (3-е лицо) и вращались винтом на волосах; я пыталась вырваться – безуспешно. Яхта пала на мель. Парус вспыхнул. Кроме тебя (ты собирал крошечные цветы) и меня, – никого. Яхту с моими волосами сбил в залив приступ шквала. Мы остались на мели и купались, пока не пошёл снег. Ты закрыл руками мою оскальпированную голову и жевал песок. От него пахло так же, как тогда, в соборе, когда через год и двести пять лет мы, пробившись сквозь вой, и свистки, и плевки, – обручились. Мне тогда содрали парик, и ты снова закрыл мне голову.
Снег на небесах иссяк, я лежала на твоих коленях, а ты читал татуировку на моей груди; удивлялся, что она не стирается всемогучими ладонями… кончилась кровь… нас ждали на берегу… мы уехали, чтобы расстаться.
МОЯ ДОРОГАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА УТЕШИТЕЛЬНИЦА Я СЛЫШУ ТЕБЯ Я НЕ СЛЫШУ ТЕБЯ.
За несколько месяцев до исхода меня катали в коляске по секретному парку. Спецдеревья украшали спецоазис. Спецчеловек вёз меня, дышащего спецозоном. Ароматные думы делали мне визиты. Спецскульптуры, сделанные спецэкселенсами, животворили спецутро. Скрежетали – жршр-ссазым – качели. В них сидел шакал в вуальке с ридикюлем, читал меджурнал: желал на 23 минуты больше прожить. Звуки изматывали меня. Попросил остановить коляску и заткнуть ватой уши… Последнее, что зрительно помню – вывеску «Тир», из-под неё мне в глаза шалуном были пущены пульки. Засвинцевели зрачки. Я привстал, встал, пошёл, не дошёл и упал в бетонную урну: довспомнить и помянуть. Бегут эмбрионы сердитые, сытые; лапками шлёп, шлёп по витражам исторических досок. Лишь одно направление – Туда, там звезда изсиянная дарит клады чудес. Да! Туда! Но куда же ещё? Только вот голос слышу ушедших, ещё не дошедших… Голос тех, кто ещё собирает вещи в мир вещий: НЕ ТУДА!
Это были твои слова, сказанные в тот вечер, когда мы ели овсянку с камбалой. Ты пригласила нас к себе; домашний вечер назывался «В мире прекрасного». Учительша долго объясняла, что хорошее и чистое издавна шагают за человеком. У нас задымилось сердце от таких непонятных, но добрых и чистых слов. Ты продолжала: мы родились украсить землю, посадить грушевую аллейку, цветных ленточек нарезать. И когда дети будут ходить не по земле, а по шоколадной плите средь эвкалиптов, они вспомнят нас! Костолизова разрыдалась, но ты её перебила: это будет нам наградой, это памятник нам. Дети, я хочу посвятить вас в тайну добродетелей, в тайну непроглядных просторов прекрасного. Прекрасного с большой буквы!
Ты ушла в транс, пала на колени и, простирая руки к потолку (на чердаке кисло пальто, кочерга, белый зуб, простреленное осиное гнездо), уже не шептала, а кричала: земля, я до слёз люблю тебя, твои поля, луга (пали и мы на колени, стали подхоривать), горы и просторы, рыб и птиц, огороды и океаны. Это всё – Я! Мы вторили: это всё – Я! Спасибо тебе, мать-земля, что сделала из нас смертников, мы спокойны – земли хватит на всех. И будем вечно любить тебя, кормилица падали, ком грязи, выдающий себя за нашу истинную родину. Бери своё спасибо, пристанище нужников и взбешенной органики!
Наверно, мы тогда ощутили белые пятна на географии собственных душ, маленьких, пегих, безликих по-сусличьи, не души – дергунчики, куклы на нитках.
Солнценаглые осенние дни гуляли по городу. Ученики мои отдыхали в Атлантиде, а я слышала твой говор; четверть-нимфа, полукривляка. Настала ночь для полётов в ДАО; на мне взорвался кулон из лунного камня; из разорванной груди сыпались мохнатые колёса. С кошмаром; присела; на колени; гладила себя, погружаясь в третий, пятый сон. Уходила всё дальше от наивов первого человека. Хотела выйти с другой стороны сна. Изнемогла, упала под аркой одного из снов. Он гнался. Знала (не знала) кто. Он мог бы не пустить меня в пробуждение и навсегда оставить на дороге к знакомому дому.
Ты, Петя, называл меня обожательницей фитюлинок: да, я собирала удивления – альбомчики с видами ущелий, равнин, облаков, детские калоши, зубы вурдалашек; был в моей коллекции и мушиный глаз со стайкой попугаев внутри, эту драгоценность подарил мерейчатый мазурист. Он работал завучем в школе и по ночам занимался в ржавом трамвае ограненьем мысловщин. Его донимала девятая смерть, но он продолжал петь; где пройдёт со своей песней – соловьи дохнут.
Однажды он не катал меня на лодке, было не наводнение; его нелюбимое состоянье – вода не до четвёртого этажа. Он называл меня «моя лучезарная девочка». Стало противно, и я, схватив его зонт с набалдашником из дымчатого топаза, с эмалью и хризолитами, кинула за борт. Он меня просил выслушать и пойти за ним.
Мы приходим на плато, до бесконечности застроенное бараками из серого. Бараки длиной в километр. Мой спутник по винтовой лестнице поднимается на железную вышку. На ней белый флаг. По мере того, как он поднимается, пройдённые ступени отваливаются. Зинаида ищет встречи. Входит в пустой барак. Вместо окон – круглые отверстия. Внутри барака стены из ящиков. Выдвинула один. На дне буква «Я» и номер. При попытке закрыть ящик из него вылетело облако чёрного порошка. Оглянулась – никого. Тихий свист. В других ящиках – то же, только цифры другие. Мимо учительницы пробежали огромные ножницы; юркнули в стену. Кругом ни души.
Там, где разбился спутник, не пустивший её на путь через сны, там, где он упал, шевелилась с детскими глазами куча серебристых пиявок.
Флаг исчез.
Везде, во всех бараках она видела одно и то.
…Из сна я не вернулась. Его не было.
Легкий завтрак с Питером Классом. Прогулка с мужскими и женскими фигурами по мелководью «Морского берега» Якоба Рейсдаля. Ленивая речь о лодыжках в свежей воде; полоскания парусов в утомлённом облаке. Ветреные колебания волн, волны водянистых ветров. При выходе с полотна поранилась о раму и побежала по ночному залу, оставляя чёрные капли жизни.
На пароходе её привели в трюм, перевязали. Там были все коллеги по школе. Я рассказала приключения. Утром обмен документов. Пересадка в фургон. Неделя пути по степи. Сдохли лошади. Съели. Путь пешком. Я чувствовала… Нет, нет! Меня душат чёрным порошком. Теряю сознание, но успеваю понять, что меня затолкнули в ящик.
Плато. То самое.
Прошло несколько сот ночей. В ящике потеплело. Объявился хозяин, вытащил из ящиков кое-кого из моих учеников, и они резвились на бетоне, изредка любуясь трепетом белого флага. Я слышала знакомые голоса: поцелуй – это такая игра, кто у кого спинной мозг высосет…
Пришла зима. В мой ящик не доносились холода… Но однажды под утро повеяло льдом, и в барак ворвалась огромная стая мускулистой саранчи. Меня скрутили, связали, притащили в мой старый дом.
Пришла пора писать сочинение «Здравствуй, лето». В нём будет рассказано о том, как одинокая душа притворилась защитником мгновений, как она, обращаясь к попутчикам, к восклицательным знакам, говорила: «Не доверяйте себя математикам, цифры. Вы – огонь, вы – не цифры, а пламя, и ему есть о чём вспомнить: обо мне, о напевах приморских, об обители терпких времен. Пусть фантазия приукрасит неведомый, вами ведомый мой образ. В тёмных эмоциях истокам не ночевать. Цифры – бег бесконечный в беспечность, в пространство, способное всё разомкнуть. Да, прозренье, порой – ослепленье, взгляд в страну неизбывных и подло-изящных чудес мозговых. Если взглядом разбить себе мозг, раскопать и понять все подробности клеток, решёток, барьеров – что тогда? Да! Пустое кричит мне в ответ. И ответ, как завет для скандальных гримас эшафотных, эхолоты тоски убиваются в грязных сенцах.
Звукосвет подошёл, просит его приютить. Звукоогневь, гневномузыкозвук огненнозвучных музык.
За дверью послышались шаги, это её любимая ученица шла поздравить с днём рождения.
От первого звонка задымился парик, после второго запузырилась кожа.
Вот срезали с меня бальное платье. И позади моих глаз проскрипели лезвия ножниц. Подхожу к зеркалу. Вижу обожжённую струпистую колоду, у которой в руках книга сказок. Сверкая кольцами ножниц, учительница вышла.
Босиком по льду идёт весна. Скоро каникулы.
За ней топает стадо саранчи в валенках. Ледобредит залив. Саранча ёжится на берегу, платочками машет. Льдина с учительницей кружится, искрится. Вчера был день. Паденье тел усталых, трепетанье флага, картины, сон – всё вдалеке. Вот исчезает берег. Вечер. Вечер.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































