Текст книги "Ладья тёмных странствий. Избранная проза"
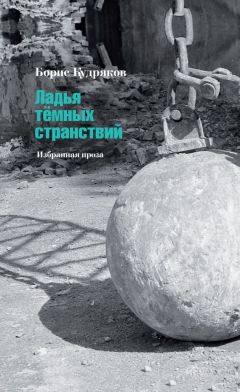
Автор книги: Борис Кудряков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Время жатвы
Забыты жаркие пейзажи ласковой водой, и маленькая Оля тащила за ногу большого водолюба. Жук задыхался, боль в задней конечности сотрясала выпуклую спину. Это расплата, – думал жук, – за моё пристрастие к улиткам в личиночном прошлом. Притащила жука в светлую. В комнате сидел человек; из рук в окно уходила блестящая лента. По этой дороге шли, ползли, катились в зелёном. Дойдя до отметки на ленте, они сбрасывали свой груз в шкатулку, исчезали.
Попадались упрямые, не желавшие отдать ношу. Подлетала оса, отнимала. Жука накормили блюдом из сердец мальков ерша, сытого толкнули в шкатулку, приказали сторожить. На дне в беспорядке лежали книги. Листами в них были чешуйки крыльев бабочек, в основном – голубянки икар и сиреневого бражника.
В первую же ночь из-под книг вылезла личинка стрекозы. Жук бросился на неё: она могла подрасти и унести драгоценные книги. Но личинка имела невкусный вид. Она прошептала: наши родители были дружны, ты жил около единственного цветка нимфея кандида. Да, – ответил страж, – но моё жилище давно вырвано.
Как-то жук заглянул в одну из книг и нашёл в ней смутно знакомые: столбики ничего ураганы тьматьмы треугольники отрицания тартарограф пашет мозговые целины вектор вета цветооставления неонеотарные речи.
Откинулся от страниц, прикинулся человеком, жуком. Ночью хороводы видений экзальтировались до реальность. Жук сидел в шкатулке второй день, и второй день к нему кидали крошечные книги. Из личинки выросла стрекоза. Она мечтала выбраться к родному озеру. По ночам летала над дремотным водолюбом: к бегству сил набиралась.
Однажды пришёл Некто и сообщил стрекозе, которая была девочкой, что ей пора замуж. Перед уходом сделал фокус: между ладонями заплясали шарики, они светились. Оля, оказавшись во власти цветочных причуд, полетела к озеру.
Откованные из стекла плоскости быстрых стрекозиных крыльев щекотали спину болотному раздолью. Над завалами вились цепочки насекомых; летающие броши шептались. Иногда гирлянда, состоящая из пяти, десяти стрекоз, рушилась в зелёные сабли осок, вновь поднималась – сцепиться.
Зыбкое щетинистое шевеление горизонта. За ближним – второй, третий горизонт. Там и вблизи – ювелирные магазины. Редко луч солнца совпадал в рефлексе от тысяч-тысяч блестящих крыльев, обтянутых молодой паутиной, и сияние лёгкой лентой нежило дно глаз.
Пришли с посохами холода. Привалив травы, одарили их последним оттенком ботанического карнавала. Комары уже не кусаются, убедились в бесплодности тирании, отказались от пищи; голодовка. Болит источённое жало, а по ночам всё чаще устрашающее виденье паука. Одрябшие кувшинки разлиты сильными хвостами повзрослевших щурят. Пузыри в облака со дна стремятся, но долог ещё их путь, успеть бы до морозов. Уходят в сиротливое кувыркание оторванные листья: отдохнуть от колебаний, обязанностей; в падении подвести итог.
Первое, что пришло в голову Ольге, это желание побрить отца. Взгляд избегал скользить по шее, по близким глазам. Мыльная нега скрыла тёмный след на шее, и эхо безумия стало далёким. Небрежно побрила, тёплым от пара полотенцем обласкала лицо. Пальцы ощутили через ткань яблоки глаз, в них ещё не остыли последние танцы предметов.
Всё. Присела на диван, распушила волосы. Заломив изгиб спины, сняла защитный барьер. Криком.
Отец совсем покинул себя, и лишь запах служебного одеколона (составлен протокол, отснято девять казённых снимков, Ольга увезена в больницу с помрачением) напоминал о седьмом знаке зодиака; предел осязаний. Когда выносили холодевшее бремя в виде беспризорных мощей: голова, руки, ноги, убежище оптимизма – отец пытался начать осмотр картин перезрелых, назойливых жаворонков: щедроты зональных яркостей; радуга обещаний.
Скоро опрокинется дождь. По дороге пылит почтовый велосипед, вести везёт.
Чешуёй ящера блестел утренний диабаз, по которому шла Ольга кротколетной горностайкой. Демоны вожделений играли в ней на нефритовой свирели. В пиршествах миниатюрных желаний неистовствовали властные тайны. Под осень всё стихло. Наконец-то нашёлся и для неё кормилец скворцов, привёл ее в сахарную квартиру, заплатив за невесту выкуп – два ведра жемчуга.
Залётные миги читали отходную. После свадьбы приползла летаргия конопатых дней. Тайные заварухи с губами вычеркнуты из реестра восхищений. Картавые ночи, заволглые речи. Муж оказался стервецом с говяжьим личиком. Напевные облачения обратились в седые скучалости. Она не желала понимать тонкости семейного омерзения: прочь. Вернулась домой.
Отец задичал: от него ушла жена, часто нежничавшая с ним: кто ты? – итеэровец, потративший 20 лет на изобретение пуговицы. Надоели запиленный Шопен и мерзлая ставрида. В доме пахнет подвалом – унеслась в небытие сорокалетних вокализов.
В отсутствие Оленьки приходил бывший муж. Но Бахус не приносил веселья; была лишь догадка об асфальтовой сущности. Запьянев, борзой нахал выкрякивал несвязности: не люблю осень, рассветы и розы. Что делать на пенсии? Рисовать больничныеинтерьеры или молиться? Лично я не собираюсь отягощать собой семью… Хотят ощупать пространство, а полет в никуда осмеян… Небосклад… Ветер – невидимые волосы природы… Ненавижу балет! Истинный балет у мошек в пустотах, а не у громоздких балерин с паразитами в животах… Вопрос – инобытие сверхреальности…
К вечеру становилось людно. Приходил студентишко почитать вслух о том, как старый комар точит напильником жало. Потом ругались за лирическое овеществление фатальности, пока язык не задёргается в матерном логовище. Приходил некий молчаливец, про него ходили слухи, что он собирает фамилии тех, кто читал тексты Кумрана и Вейнингера. Был и вертлявый хохмач, доказавший на арифмометре, что Ясперс – ничтожество, а Гофман страдал астенической психопатией. При этом вывешивал на стене схемы, пояснявшие смелые открытия.
Хозяин читал немецкие стихи. Оба пьянели, Оля подходила к пианоле наиграть что-либо, а он лежал, чувство-вал-ы огня катились в нём от почек до ключиц. Шторма внутренних сражений со спокойствием молчания. Океанские волны полыханий, на которых пока уцелели несколько кораблей: два сухогруза, учебный барк, сейнер, – доносили свой призывный рокот до камней гипофиза, растекались по тройничному нерву, обжигая зев, оглушая лопнувшими каскадами радуг, ослепляя нарушением масштаба. Яростные пространства ярчайше-неистово, вспенившись, гневно вопрошали: доколе? Дрекольный стервец отвечал: до утра!
Вечерами длинными, как тропа от Мурманска до Гонконга, сидели за чаем. Варенье из малины, собранной в предгрозовую тишину, нарушенную тем, что деревенские олухи, напившись самогона из чертополоха, пели: нас мила покинула, душу с сердца вынула, ай, гоп, гоп, ай, сердце наше вынула. Хмурины на лбу у громовержца собирались, а у Ольги заблудилось в глазах лукавство и аукались с ягодой то пальчики, то зубки. Отец пришёл с базара, ей – цветовейный платок, себе – трубку-пыхтелку из глины Конского омута, там в прошлом году сом водолаза сожрал… Всё это напоминала малина, собранная в это лето за один день, памятный тем, что после грозы (песни продолжались) отец уснул с трубкой в руке на крыльце, с которого виднелось пастбище; сын его, пастух, поднимался затемно, – он в тот день повествовал странно-занятные экспромты: Почему, Ольга, носят валенки? Юг постарел! Сколько глаз у земли? Две пары! Когда снится бегемот в крапиве? Когда засолят новогоднюю ель!
Пастух подсел к ней ближе, зашептал: В молоке не купайся, из тёмного стекла не пей, в седьмую пятницу на пятый год поставь мне свечку, а через два года гони от отца всех друзей.
Вздрогнула: не речь пастуха, – затаилась. – Погадай по руке. – О чём? – Ну, предположим… мальчик или девочка у меня будет? – По руке девицы не ответить. – Откуда знаешь?.. – Волосы при свече у тебя переливаются, глаз световит, и должна быть под коленкой кожа, как у младенца за ухом. Хочешь ответ знать – ступай в хлев без огня, с первой овцы выдери клок.
Оля принесла шерсть. Пастух попросил ещё березовой золы, соли, кусочек ногтя с безымянного. Растер всё и в пустой орех всыпал. Положил на одну ладонь, прихлопнул другой сверху. Стало слышно, как по всей округе недозрелые груши осыпались, как рыбы плавниками шелестят и стучит сердце у птиц. Меж его ладонями светящиеся шарики танцуют. – Что это? – кричит восхищённая девушка, – куда скользят мои ноги, почему вдруг… – она замолчала и, пошатываясь, пошла к озеру; его спокойная спина была мутной от изобилия туманов, огненных мошек, малых и больших лёгких рыб, улетающих, врата стерегущих. Люди с чёрными квадратами вместо голов пытались окунуться, но как только они вступали в воду, озеро твердело.
Она подошла к одному из купальщиков, фигурой напоминающего отца. Иди за мной, – если не боишься пастуха. Мы скоро будем дома, где будет варенье, мама, которая уйдёт от тебя. Пойдём в наш уют, тебя скоро унесут из него и от меня… к земному небу, что питается воплями, заставляя уходить из любимого мира геометрии, всё обещающей, но не исполняющей ничего. Успокойся, я укрою тебя, а рядом положу кота; помнишь, мы нашли его у озера, чёрного, мёрзлого; ты всё хотел искупаться, а я увела тебя домой…
Знаешь, доченька, честно говоря, и ягод я не любил, и о главном не поведал. Не ушёл я, меня увели. Увели другие люди, мать и отец. Они скучали по мне, хотя при жизни меня не любили. Смешно говорить это сейчас, когда слова до тебя не доходят, и смешно думать, что тебя нет. Не виню родителей за то, что они в мечтательности безнадежного поиска усмотрели выход через эстафету органики. Их тоже вовлекли насильно, убаюкивая в начале тупика колыбельным бредом, а в конце ловушки увеселяя театром одного актера. Этот актер думал, что он избранник. Думал, конечно, втайне – попробуй скажи вслух – заведут в другой тупик, – надеялся, что уберёт отсюда ноги, несмотря на то, что удалось бы поохотиться на слонов, и, построив хижину, ожидать эвтаназии. Тебе может показаться, будто я (налей покрепче)… как бы это сказать… (кажется, телефон)…не люблю жизнь (скажи: нет дома). Это не так, я люблю жизнь! Да, но не эту. Отец и мать? Как смешны благодарность и ужас. Благодарность за якобы жизнь. Ужас – что живешь. Особенно меня поразил отец. Твой отец, Ольга, имел бы счастье не быть, прожив лишь месяц. Мой папуля страдал от тех же догадок, что и я. Месяц спустя, после того, как вытащили из роженицы капсулу для моей души (выпал на груду грязных тряпок – прототип Олимпа), мой отец, пытаясь освободить себя от ответственности за моё рождение, а меня от обязанности зрителя, раздел меня и, рыдая, положил в снег. Вопреки его мечтам кто-то отсрочил исход до сорока трёх новогодних ура. Твоя сказка про то, как пастух женился на тебе, мне по сердцу. Ты ничего от меня не скрываешь?
Недавно я бродил по пшеничному полю, мимо – экспресс. Успел заметить тебя с третьим мужем. Вы пили обещанья молодости. Но вскоре супруги сошли, углубились в простор, долго бродили по пшеничному полю. Я следил за вами. Видел несколько пустых сцен.
Мне было по-родительски неловко: моя дочь с телом полинезийской принцессы, подпорченным в десятом колене китайским воином и исправленным корсарской ночью, – моя дочь мнёт злаки с типом, у которого лицо изуродовано звёздными катастрофами… У тебя в тот день было такое выражение, словно ты поела хлорной извести. До вечера вы гуляли в поле, пока не повстречали детей с овчарками. Псинолюбы спустили на вас страшил. К этому времени мы подружились. А потом появился пастух, который развлекал тебя разными фокусами. Кстати, он благодарит тебя за свечку, поставленную в храме… Пастух превратил собак и детей, жаждавших крови, в травяных лягушек. Чтобы замести следы, он поджёг поле.
Но самый последний раз я видел вас на нашей даче. Ты ходила по саду, собирала камни. Потом стала косить траву. Срезала даже яблони и кусты малины – те самые. В сад вошёл незнакомец, он взял у тебя косу и продолжил работу. Скосил забор, колодец, дом. А ты всё смеялась. Принялся за ячменное поле, гороховое; а ты всё шла за ним. Я осмелился подойти, ты заметила меня, рванулась ко мне. Растроганный твоей памятью, твой отец, моя дочь, слышал тихие вопрошающие повторения: веришь? веришь?
Мы снова вместе: я, ты, трое твоих мужей. Они – милые люди. Все верим в жизнь, полны сил. Сидим за столом, играем в камни, играемся с котом, у которого, как ты однажды пошутила, маленькие коровы бродят по зубам, как по холмам. Время ко сну; в нём беспощадные эпизоды дразнят логику бытовщинных силлогизмов. Спать, спать! Да и сам Господь говорит, что пора заткнуться.
Осиновые листья метнулись к заливу, к глинисто-илистым несуразностям волн. Взвились до перистых облаков и, пролетев над железной станцией, двумя поселками и пылающим стогом – из него торчали две пары ног, – легли на дорогу, безлюдно, безглазно.
Зачастили снежные схватки, матерела зима. Свистоплясами льдовыми день зависал. Над домами, полями, надеждами солнце куражилось.
1974
Лысое небо
Путник вошёл в реку. В город. Его схватили, связали жилистые люди, посадили в самолёт, раздели. Записав личный регистрационный номер, кинули человеческую тушу вниз; полёт километр. Сброшенный догадался: прицел направлен на городскую площадь. Летел вниз, пощипывая лавровый венок. Друг-ветерок пытался задержать паденье, но, истощённый вчерашними грозовыми работами, не смог. Внизу появилось липкое и чадное облако. Пролетел сквозь, ободрал тело о спящие льдинки, провалился дальше, как сквозь крышу университета. До земли километр.
Стая уток влетела отдохнуть на сетчатке, пощипать колбочки. Прошла секунда падения. Руки посинели, пальцы сжимали самих себя и воздушные клокоты.
Туловище вибрировало в законе. Вторая секунда затерялась. Посмотрел на часы: сорок семь часов, сто пять. Перевёртышем зачастил в воздушных ямах в детской колясочке по воронкам. Лицо вверх, и дума растекается оранжевыми кругами.
Бисеринки глаз блестят с площади, ждут окончания полета. С бамбуковыми пиками в руках оттаптывают танец. При очередном повороте-кувырке из горла кусок лёгкого, с фурычущим звуком растёкся куполом парашюта. Парашют вытащил трахеи, сердце, тонко стренкнул мочеточник. Стропы не выдержали, лопнули, и полая кукла влетела в секунду номер три. Летела, вспомнила себя. Жажда заставила вступить в борьбу за.
Сорвал волосы с головы. Пытался сделать на руках нечто вроде оперения. Прилепленные на слюне волосы стали удлиняться. Хаотичное падение стало плавным. Длинные клоки волос развевались за человеческой фигурой. Она перебирала зубами нитки воздушных течений, подкармливая себя шумом сферических запустений, влекла свой разум к столику прошлых лет.
Секунда на исходе. Полутело пролетело над городом, окунулось в смакование холодных от росы садов: садовник выжигает себе глаз сигареткой за то, что кошка съела цыпленка. Вот девочка наловила лягушек, отстригает по лапке: болит живот; вот мальчик-малайчик оптическим стеклом греет свою бородавку; старуха жуёт лебеду, лесник завывает с волами, библиотекарь лудит горшок. Вот он видит себя вылезающим в мир, вновь залезающим: старцем дряхлым; он в поле… Лопата открывает новый простор – дом. Залезает в яму. Дождь. Яма заполняется водой и он, уже заглотивший конскую дозу снотворного, всплывает. Засыпая, откачивает воду, снова залезает в яму, закрывается и, набив рот суглинком, вспоминая матерную грудь, ощущая, как уснули ноги, пах, живот, не… а скорее радуясь удачному исходу-путешествию, поцарапывая глаза, позёвывая, покряхтывая, засыпая, ощущал, что к нему бегут с ищейками, над ямой кружат самолеты, объявлен розыск, тысячи добровольцев ищут его, он, выбрав вздох, вступил в пятую секунду падения.
На северном пляже врыт старухин столб. Тайна в виске. Курица на конских ногах с беличьими ушами заиграла на флейте-пикколо. Все разошлись по сторонам, песочный человек задумался: я пришёл в эту жизнь, как на работу. И что я получу за неё?
Туман первоначалия стал певцом скотобоен. Близкие пережевывали догадки об его отсутствии. Пятый год без лица, дождь затёк в отсутствие головы. Суетность звякала суставами. До дома далеко, дальше, чем. Путь среди сосен. Послышалась хищная речь супоеда: греходарность елейнейших благоусмотрении огорела завтра. Венера захирела, съев пирог с жареными завываниями. Лемуры облачились в кожу гиппопотама. Но как дойти? Может быть, отдохнуть? И ногоход вспомнил холостильщика, встреча случилась в день поклоненья адаманту. На торжестве много музыки, и даже Стимфалиды щекотали язычками арфу. Энгастримиты танцевали с Парками. Восковый носорог хохотал во фригийской мантии над Гримуаром. Начало шестой секунды.
Время пошло негромким ходом – дождь будет после, сон будет, будет копание ямы; когда он её закопает, попятится полем, к самолету, где ему снова предложат поверить: чёрное – белое. Белое – это чёрное. И если не согласится, то его бросят вниз, в хохот ветренных охов.
– Вы признаете вину? – Да?! – Что желаете в последний час? – Завести мотор!
Путник вспоминал. Вязкий предстоящий удар грудью об асфальт.
Вторая часть
Он, слышно: ненавижу фотографов и поэтов. Первых за то, что с топорами гонятся за секундами, вторых – за эстрадную экзальтацию. Другое дело – летчик-испытатель, наездник облаков и профессиональный агнец!..вижу себя. Кабина самолета, вхожу в неё с чёрной повязкой на глазах. Рёв двигателя. Разбег. В конце взлётной полосы – бетонная стена. А те, кто посадил меня в кабину, думают, что я не вижу последние секунды взлёта…
Иду по листьям. Озеро, камни, часовня; ноги проваливаются в ямы, из них видны крики познанья. Осенний парк или лес, что или? Просвистела у виска стальная ласточка. Врезалась в огромный тополь – четыреста лет назад его прадед отморозил прическу и стал расти вширь, – разорвалась снарядом, тополь пал на взлётную полосу, по которой, спустя несколько лет, проскачут карнавальные всадники с разноцветными знаменами. Это начало экспедиции. А пока, закусив удилами с солёным льдом, взнузданные тени закрыли глаза в. По дорожке прокатился блестящий поднос с приклеенным сервизом.
Третья часть
Седьмую секунду рыбарь держал в зубах литургию лунно-асфальтовых песнопений. Но нарвал, скучая по титановому эпосу, проткнул плавунчика костяной пикой.
Игуана заплакала. Листопалый чешуеног, в шотландке из суринамского аспида, охотился в белолобой хмари на лысых павлинов. Игуана вспомнила быт 26-го фрагмента: медленно сколоченный мир: фабрика грез для гёрлз. Парад из вращений.
Уснула Она, свадьбу с проткнутым не сыграешь! Симультанизм авантюрной панорамы. Это было телопонимание телоподнимания. По пах-а-те тащился с томиком зуботычин графинно-чернильный каскадер, вспоминал смятого себя и рыбака. Далее следует рассказ ловца.
Я был тогда ещё не совсем ядозуб, но уже изящным. Однажды, не помню когда, в структуре временнодневности див, совсем юнашек, однажды вспомню —, встретившись с остро-красным канатом, уехал по его совету прокутить с вощёной кудлаткой сбережения головных чудес. Собрав ненужную медь и эмблемы, сели в подлетную лодку и никуда. Через год забыли дом. Через два были в горах.
Чужие руки общипали сердце огня. Ещё не забыты хвойные морозцы, а числовые отступления с воем волкодавным – давно переливали ртутные боли. Снег по горло берёз, пустое качание икоты. Вчера здесь был океан, огромные глаза на ниточках – новый вид-див: средь сосен угорела баба-яга, она смотрела открытки. Решила создать музей.
Пара героев всё мимо и мимо мигов – группа людей с биноклями ест орехи. Один с зеленой полосатой головой – всегда один. Дамское кольцо бликом щекочет глаз меч-рыбы. Король собирает ударения. Рыбак и Игуана счастливы: обжорливая юность ещё не подавилась костью. Сейчас они дом строят, чтобы было где чаесосам в жмурки играть с окороком в зубах. Ночью сквозь патину подвальных дымов носятся под землей стада диких конников с маленькими дедами-заморозками. Затем пришёл парикмахер в виде резинового шкафа. Высотные дома легли на спину, ночью в музее мелодий южных краёв губы обветрены вопросом. Психея льёт из светильника горящее масло в рот Аму-Дарье-Муру. Академик изучает кариес у точки с запятой. Мотогонки в обезьяннике, после обеда соседей надо идти отмечаться – говорил молодой молодухе. Почитаем твое сердце-цеце. Пришёл к морёному дубу рыбак, а сеть полна камней. Начали старик с прорухой вязать. Лет пять связали – недовязали. Наследство всё провязали, а их перевели на другой остров. Ночь на диванчике ноги тараканам греет и сожалеет: на утюжку брюк за время жизни (50 лет) уходит 23 суток.
Утром дворецкий нюхает малого оленя. За секунду на смородинный куст пало двести грамм снега. Промчалась веха; с утра чугунная сутра пела капельные арии.
Новый дом постарел: в нём две телячьи головы без ресниц. Шутницы обрезали на маскарад. Пошли плодовитые облака. Молодой сатанист подавился мостом. Словно ныряя в мартен, мерзло дергая кожей, синюшность преображая в реальные тики, он наблюдал за работой одной из многочисленных желез – скорбной.
Троилось утро.
Сквозь заросли чащоб рассмотрел равнину: над ней кавардачило облако. Склонился над спящей спутницей под шёлковым утюгом. Ее сердце набухало и охало под.
Перебирая волосы цвета ночного шербета, спугнул из глуши ароматов муравьёв-пилигримов. Ладонью смахнул со лба мысль: пора в путь. Мысль вернулась замарашкой: «Пора!». Небо убралось, вместо него – потолок вдохновений, пробитый артезианским зрачком пробудившейся Евы.
Два послушанца нюхают заветы. Поезд мчится боком. Под танками хрустит ледок фарфора. Погас. Восьмая секунда. Хочется продлить сон, жаль расставаться с Пустотой. Приходили через третий глаз идеи – пыльные страницы. Им тоже надоело вездесущая Бесполезность. Угощаю табаком. Они устали. Дальше переходы от Да к Нет измотали их, нижняя часть тела троится и колеблется. Они засыпают. С пустой головой (лишь два бриза гуляют там) выхожу постегать собственную тень, она надоела мне. Стальной проволокой бью, она умоляет пощадить; предлагает выкуп; торгуюсь. Стегаю сильней, пока она, собрав вещи, не убегает, хромая на обе. Из седьмого времени года не вернется.
Светило вытекло через ухо Утверждения. Весь день вбивал в сосны и тополя огромные гвозди, пока изо лба не выросли корни и, как спрутистые руки, стали ощупывать неспособность, неспособность отсутствия эго. Через глаза (в зрачки и из затылка) проходили мягкие рельсы, и, как две врачующиеся кобры, змеились.
Вместе с дождем в озеро упали несколько деревень. Колокол ударился о голову плакальщицы, она собирала ил, он брызнул смехом. Длинноглазое мечтание посетило коричневую комнату. В ней бегал Путник, позвякивая цепью. Его снова поймали. Подъехала коляска, из неё вышла в синей шляпе Нога. Она привезла телеграмму: пора начинать падение. Он продолжал летать. А на площади всё ещё бегали ожидающие, потрясая бамбуковыми пиками. Они разглядывали падающего в бинокли. Были смущены волосатым планированием. Из-за рощи стреляли зенитки. Бежали стеклянные девушки, обламывая зубы километрам. Йога и эта.
1970
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































