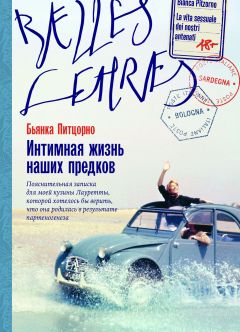
Автор книги: Бьянка Питцорно
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
20
Это знали все в деревне, даже те, кто совсем не интересовался искусством. Часовню Сан-Панталео, Святого Пантелеймона, расписывал единственный добившийся известности местный художник – францисканец Панталео Гвальбес, уроженец Ордале, работавший также в трапезной камальдолийского монастыря и в одной из церквей Доноры. Он был современником неизвестного «мастера», хотя и куда менее талантливым: его фигуры выглядели грубыми, цвета – грязными, рука – неуверенной, перспектива – искаженной, а композиция – начисто лишенной как равновесия, так и очарования наивности. Кроме того, Панталео был самоучкой, сыном фермера, никогда не пересекавшим моря и не учившимся у великих мастеров.
Тем не менее он был местной знаменитостью, и жители Ордале им гордились. Рассказывали, что он трагически погиб, упав с лесов, когда писал огромный «Страшный суд» в боковой капелле коллегиаты, поэтому из уважения к нему фреска так и осталась незавершенной.
– Эта часовня была ему особенно дорога, – объяснила Чечилия, – и не только потому, что она посвящена его святому тезке.
Поймав взгляд Ады, Лео улыбнулся: его самого истово верующие родители тоже окрестили в честь этого святого мученика из Никомедии, врача и, следовательно, покровителя всех докторов и акушеров, столь почитаемого в Ордале. «Лео» было сокращением от «Панталео», а не от «Леонардо» или «Леоне», как в пору его учительства считали лицеистки Доноры, которые пришли бы в ужас от столь грубого крестьянского имени. Кто знает, может, Чечилия тоже купилась на эту двусмысленность.
– Часовня, – продолжала юная исследовательница, – была построена на земле его отца. Гвальбес-старший заказывал здесь мессы в благодарность за хороший урожай и приплод скота, а также по случаю свадеб и крещений – этакая семейная капелла. Но формально она все-таки принадлежала церкви, а сейчас, как вы видите, заброшена и полуразрушена.
Фрески были совершенно такими, какими они их помнили: тусклыми, грубыми, разве что чуть больше поврежденными сыростью. Черти и адское пламя – видимо, фра Панталео не испытывал снисхождения к грешникам.
– Как-то я не думала, что они настолько драматичны, – сказала Ада. – Сразу вспоминаешь Савонаролу.
– Драматичны? – усмехнулся Лео. – Эти черти всегда меня смешили. Даже если не обращать внимания на их ужимки, разве ты не видишь, что все здесь изображенные – в трусах, включая проклятые души, которых прочие художники изображают голыми? Похоже, этот наш земляк был тот еще святоша.
Чечилия рассмеялась:
– Сперва я думала, что это более позднее дополнение, вроде того как Даниеле да Вольтерра отцензурировал фрески Микеланджело в Сикстинской капелле. Не забывайте, что все происходило во времена Тридентского собора, строго осудившего наготу в религиозном искусстве. Но нет, фра Панталео с самого начала нарисовал им портки.
Выйдя на улицу, они увидели в задней части часовни еще одну дверь, возле которой кто-то не так давно пристроил курятник. В щербатой ограде не хватало нескольких досок.
– Это я их оторвала, – сказала Чечилия. – Отошлю в Донору: подозреваю, что они могут оказаться старинными росписями, алтарными приделами или створками органа… Сама я не смогу снять поверхностный слой, не повредив краску. Я, конечно, изучала реставраторское мастерство, но потом сосредоточилась на искусствоведении. Хотя… – Она заулыбалась, как нашкодивший ребенок, избежавший порки.
– Хотя?..
– Первый подозрительный фрагмент я отскоблила перочинным ножом, а потом добавила растворитель. Думала, тут какая-то мазня начала века. Даже представить себе не могла, что найду… В общем, твоя древняя родственница просто преследует меня, Ада!
Отперев заднюю дверь (ключ от которой тоже оказался у нее в кармане), Чечилия провела их в пыльную ризницу и, открыв шкаф, достала прямоугольную дощечку, тщательно завернутую в ветхий алтарный покров, весь в пятнах ржавчины и плесени.
– Ничего другого не нашла, но должна же я была чем-то ее прикрыть.
Она осторожно развернула сверток. Несмотря на все еще остававшуюся по краям корку плесени и след от так и не прорубившего доску топора, даже после черновой расчистки было очевидно, что из-под слоя зеленой краски проявляется безошибочно узнаваемый овал лица Химены кисти «мастера из Ордале»: Мадонна с младенцем на фоне пейзажа в духе Леонардо. Младенец был рыжеволос и одет в прозрачную кисейную рубашку с золотой оторочкой, не скрывавшую худенького тельца.
– Глядите! – торжествующе воскликнула Чечилия, поднося портрет к окну, чтобы на него падал свет. Они послушно двинулись за ней и увидели, что на золотой тесьме написано: «Diego filius»[56]56
«Сын Диего» (лат.).
[Закрыть]. – Если и нужны были доказательства того, что моделью послужила Химена Феррелл, теперь все сомнения отпали. Разве сына, родившегося у четы донаторов после создания алтаря, второго мальчика после чудом избежавшего смерти под копытами скачущей лошади первенца, звали не Диего? Видимо, наш мастер рисовал с натуры и младшего Феррелла.
– Я смотрю, ты тоже неплохо изучила историю этой семьи и этого края. – Голос Лео звучал скорее восхищенно, нежели иронично.
– Не знаю только, был ли ребенок настолько рыжим, – заметила Ада. – У его матери волосы каштановые, а отец, судя по алтарю, брюнет, как и большинство Ферреллов. Похож на тебя, Чечилия, – пожалуй, мог бы сойти за твоего сына.
– Увидев надпись, я аж подскочила, – продолжала девушка, не обращая внимания на намек. – Надеялась, конечно, найти подпись мастера. Впрочем, имя Диего тоже важно. Но есть одна вещь, которой я не понимаю. Посмотрите на края: похоже, это следы топора, причем давние. Возможно, на портрете тогда еще даже краска не высохла. Но зачем кому-то его рубить? Я жду результатов исследования: может, найдутся другие части того же большого образа с аналогичными следами.
– Ответ очевиден: человек хотел построить курятник, – пожала плечами Ада. – Тот, кто это сделал, не знал о ценности этой дощечки.
– А я думаю, что это было сделано гораздо раньше, не в утилитарных целях и, как мне кажется, с намерением испортить…
– У тебя слишком буйная фантазия. – К Лео вернулся его сарказм. – Поживем – увидим.
– И что ты будешь делать дальше? – поинтересовалась Ада. – Тебе же не разрешали ее чистить. Что скажешь в министерстве?
– Скажу, что в таком виде ее и нашла. Краску мог счистить кто угодно: она же была на улице, какой-нибудь любопытный прохожий мог увидеть под зеленым слоем что-то блестящее и расчистить кусочек, надеясь, что это золото. А потом бросить, поняв, что обнаружил только дерево. Какой-то невежда, не разбирающийся в живописи, откуда мне знать?
– Можешь оставить себе и никому не отдавать.
– Лео, ты что, с ума сошел? Так нельзя! И это ты, архивариус по профессии, мне говоришь? Мне тогда придется вечно ее прятать, никому не показывая. Я же, напротив, думаю, что надпись «Diego filius» поможет нам узнать имя мастера.
Она аккуратно завернула дощечку в алтарный покров и убрала обратно в шкаф.
В деревне их ждал обед у Кампизи, родителей Лео: те были рады после стольких лет снова увидеть Аду и поболтать о жителях Ордале – как давно умерших, так и вполне живых.
Вернувшись в Донору, Ада бросилась рассказывать дяде Тану о фантастических предположениях Чечилии. Старика повеселила гипотеза о влюбленном художнике.
– Вполне логично, что, имея под рукой такую красавицу, грех не использовать ее в качестве модели. Думаю, она была польщена. А уж был художник влюблен или нет, нам уже никогда не узнать. И потом, в те времена любого, кто попытался бы приударить за женой местного синьора, в два счета бы отпинали и вышвырнули из города.
Ада согласно кивнула. Но прогнать мысли о профессоре Палевском и его шаманских бреднях ей никак не удавалось. Как ни старалась она рассматривать портреты Химены с иронической отстраненностью, многие образы глубоко поразили ее, заставив задуматься о течении времени и о том, какими запомнят нас потомки, те, кто продолжит наш род. Но портреты не давали ответа.
21
Вживаясь в роль хозяйки дома, пусть даже сама она ночевала под другой крышей, каждое второе воскресенье Лауретта, следуя традиции, заложенной еще бабушкой Адой, собирала всех Бертран-Ферреллов, какие только на тот момент были в городе, за обедом на вилле Гранде. Правда, в июле она пропустила пару недель из-за дядиной болезни и из-за приезда Джулиано, с которым тетки Санча и Консуэло встречаться отказывались – по крайней мере, до тех пор, пока они с Адой не поженятся. И, по возможности, в церкви.
Но раз уж Джулиано уехал, пришло время очередного воскресного приема. Кое-кто из племянников уже отправился в отпуск, а Джулио Артузи вообще появлялся редко, поскольку был не в ладах со своими сводными сестрами Дессарт. Так что вокруг большого обеденного стола собралось всего шестнадцать человек, по большей части женщин. Из всех детей Гаддо Бертрана в живых, помимо хозяина, оставались только его сестры (точнее, сводные сестры) Санча и Консуэло. Второе поколение представляли Лауретта (разумеется), Ада, Грация, Витторио и Умберта Аликандиа (последняя недавно вышла замуж и теперь была беременна), а также дочери Консуэло («от второй кровати», как с некоторым презрением отзывалась о них Армеллина), сестры-близнецы Мариза и Мирелла Дессарт со своим младшим братом Гаддо-Андреа. Практически все правнуки уехали на море, не считая детей Лауретты, Ады-Марии и Якопо, чья мать постаралась устроиться как можно ближе к дяде Тану, будучи уверенной (или, по крайней мере, надеясь), что он считает ее своей любимицей, и младшей дочери Грации, Джиневры, задержавшейся в Доноре из-за выпускных экзаменов. Были также доктор Креспи и его жена Клементина, которые по воле Танкреди уже двадцать лет считались членами семьи.
Армеллина, за обедом обычно садившаяся за стол вместе с дядей Таном и всеми, кто гостил на вилле, в таких случаях удалялась в кухню. И не потому, что она не нравилась присутствующим, ни в коем случае! Она просто не выносила снобизма и высокомерного тона Санчи и Консуэло, в свои девяносто с лишним лет считая, что сидеть рядом с ними и передавать им соль – слишком серьезное для нее испытание.
Ада могла понять, почему сестры ее отца столь старомодны. Воспитанные матерью в строгости, выросшие при фашизме, рано выскочившие замуж за весьма узко мыслящих мужчин, они никогда не покидали своего провинциального городка, за всю жизнь ни разу не имели денежных затруднений и никоим образом не были затронуты глобальными переменами шестидесятых–семидесятых. Единственным, что связывало их с миром вне Доноры, было телевидение, но она сомневалась, что тетки смогли бы отличить вымысел от реальности, а ее собственную повседневную жизнь в Болонье – от фантастического фильма. Аду куда больше удивляло то, что их дети, ее двоюродные братья и сестры, и даже Лауретта (прошедшая, как и она сама, школу дяди Тана и повидавшая мир), привержены тем же довоенным принципам. Они были непоколебимо уверены в своей принадлежности к высшему социальному слою, столь выгодно отличающемуся от «подлого сословия», от «простаков» из мелкой буржуазии, и отказывались принимать новое общество, словно жили в хрустальном шаре, над которым не властно время. Наверное, они были единственной ни на йоту не изменившейся семьей в Доноре.
Ада, несмотря на возраст, чувствовала себя гораздо ближе к племянникам, чем к кузинам. Когда на сельских праздниках за обедом собиралось тринадцать человек, несчастливое число, младших отсаживали за второй стол, и Ада уходила вместе с ними. Они быстрее находили общие темы, смеялись над одними и теми же шутками, смотрели одни и те же телепрограммы, читали одни и те же журналы, слушали одни и те же песни и одинаково возмущались уловками взрослых. Даже дяде Тану было комфортнее с внуками, чем с племянниками. Но что дозволялось вечной бунтарке Аде (пусть она и была единственной, кто защищал честь семьи на академической арене, преподавал в университете и даже собирался участвовать в конкурсе на должность профессора), не годилось для пожилого патриарха, которому приходилось сидеть за столом со старшими.
Но в тот день нужды разделяться не было: гостей собралось достаточно много, чтобы суеверия им не мешали, а места за столом из ореха хватало для всех.
Джиневра, сходившая с ума от беспокойства за предстоящие экзамены, постаралась сесть рядом с Адой и шепотом спросила, не могла бы та помочь ей с греческим и латынью.
– Когда захочешь, в любое удобное время.
– Тогда сегодня же вечером.
– Договорились. А чем ты решила заниматься после экзаменов? – поинтересовалась в ответ Ада.
– Пока не знаю. У меня есть одна мысль, но боюсь, что это неосуществимо.
– Какая?
– Я с детства обожаю книги по этнографии и антропологии, читала «Печальные тропики»[57]57
Книга французского этнографа и культуролога Клода Леви-Стросса.
[Закрыть] и даже «Взросление на Самоа»[58]58
Книга американского антрополога Маргарет Мид.
[Закрыть]. Мне хотелось бы изучать первобытные народы, их обычаи, – вздохнула она, – но отец и бабушка Санча говорят, что я чокнутая и что для этих исследований придется отправиться в дикие края, где женщин убивают…
– Ерунда. Месяц назад я познакомилась в Кембридже с одной итальянкой, которая учится на антрополога и сейчас пишет диплом.
– О чем?
– О родственных связях. В Италии, причем сегодняшней, а не прошлого века. Можешь с ней посоветоваться, у меня есть ее номер.
– Кстати, о родственниках. Знаешь что, тетя Адита? – оживилась Джиневра. – Я тут сделала открытие. Помнишь эту американскую писательницу, которая так нравится дяде, Урсулу К. Ле Гуин?
– Конечно, помню. А что?
– Знаешь, что значит К. в ее имени? Кребер. Она дочь Альфреда Кребера, одного из величайших американских антропологов, который изучал родственные связи индейцев племени хопи!..
– Как ты узнала? Вас что, этому в школе учат?
– Я делала доклад на эту тему. Папа говорит, что я помешалась, что нужно изучать математику или юриспруденцию, в крайнем случае философию – тогда смогу потом преподавать в старших классах.
– Какой бы факультет ты ни выбрала, тебе нужно уехать из Доноры. Они согласились?
– Вынуждены были. Что еще делать после классического лицея, если не поступать в университет? А дядя Тан сказал, что поможет деньгами.
– Слушай, почему бы тебе в сентябре не приехать на несколько дней ко мне в Болонью? Город ты уже знаешь. Погуляешь по университету, осмотришься, узнаешь учебные планы, поговоришь с другими студентами. Сможешь даже посидеть на экзаменах во время осенней сессии. А потом, думаю, попробуешь сдать тесты в Институте психологии…
– Тетя Адита, ты чудо! Обязательно приеду! Дай только разделаться с экзаменами.
Не успела она отдышаться, как подключилась сидевшая напротив Ада-Мария:
– Тетя Адита, а правда, что ты в августе едешь в Грецию? – Она услышала об этом от матери.
– Да, собиралась, но не знаю, стоит ли сейчас ехать в такую даль…
Она считала, что дядя Танкреди, сидящий на другом конце стола, не мог ее услышать. Но старик тут же вмешался:
– Сейчас как раз прекрасный момент, Адита! И думать не смей отменять поездку! Я совершенно здоров, так что не заставляй меня чувствовать себя виноватым. Я себе никогда не прощу, если из-за меня ты не выиграешь конкурс.
Именно дядя заразил ее своей страстью к Древней Греции, именно он поддерживал ее в войне против бабушки, которая отказывалась отправлять девушку-подростка в университет. Несмотря на помощь дяди, поступить Аде удалось только после того, как ей исполнился двадцать один год, и потерянное в ожидании совершеннолетия время все еще ее тяготило. Хотя, думала Ада время от времени, ей все-таки повезло застать 1968-й студенткой, разделить с более юными товарищами их энтузиазм, энергию, экспериментировать с неслыханными ранее новинками. Это была, как она все чаще убеждалась, лучшая пора ее жизни.
Но даже тогда дядя Тан из своего далека поддерживал и вдохновлял ее.
– Старый мир рушится! Самые смелые фантазии воплощаются в жизнь! Женщины отныне сами хозяйки своей судьбы! Эх, хотел бы я быть твоим ровесником! – говорил он, тайком от бабушки Ады навещая ее в Болонье.
Джиневра, в эпоху этой семейной распри только появившаяся на свет, но успевшая испытать бабушкину строгость на своей шкуре (та умерла, когда правнучке было тринадцать), никогда не удовлетворялась короткими рассказами: ей нужно было знать все подробности. Она не раз гостила у тети и Джулиано в Болонье, посещала университетскую библиотеку и гордилась свежими публикациями Ады, выставленными в библиотечных витринах.
– А почему ты решила специализироваться на мифе об Орфее?
– Поначалу это был не мой выбор. Его мне предложил или, точнее сказать, навязал мой профессор, когда мы обсуждали тему диплома. Я согласилась в полной уверенности, что это такой же мифологический персонаж, как и все прочие, но вскоре поняла, что многое в его истории касается меня лично. Я ведь, знаешь ли, несколько лет играла рокешник.
Так Джулиано в шутку называл музыку самодеятельной группы, с которой Ада выступала, когда они познакомились. Она играла на гитаре, а иногда и пела, деля вокальные партии с Дарией, обладательницей приятного (или, как все говорили, сексуального) хрипловатого голоса. Группа не придерживалась какого-то конкретного стиля: немного рока, немного фолка, немного джаза в зависимости от настроения музыкантов. По заявкам могли спеть что-нибудь из репертуара Inti-Illimani или Виктора Хары. Ада даже сочинила несколько не особо запоминающихся текстов.
Но в любом случае это был приятный опыт, помимо всего прочего позволявший расслабляться после учебы, иначе та поглотила бы ее с головой. Кроме того, у нее были отношения с барабанщиком, активистом «Рабочей власти»[59]59
Potere Operaio, итальянская леворадикальная организация.
[Закрыть], – загадочным юным красавцем-бунтарем, какие ей всегда нравились.
22
А ведь ее дебют в качестве певицы и композитора состоялся гораздо раньше, иронично заявил дядя Тан, добавив: «И это моя заслуга». Он не только подарил племяннице первую гитару и первый магнитофон, портативный Geloso, на который Ада помимо музыки наговаривала, а после – до дыр заслушивала греческие неправильные глаголы, пытаясь затвердить их наизусть; на четырнадцатый день рождения дядя решил презентовать ей книгу «для больших», только что опубликованный издательством Einaudi чудесный зеленый томик китайской поэзии с предисловием Монтале.
– Такого ты в школе точно не проходила.
Кое-какие из этих стихов были незнакомы и самому дяде Тану, но он всегда любил узнавать что-то новое вместе с племянниками, из которых особенно выделял Аду. В то время она как раз училась играть на гитаре и была уверена в своих композиторских способностях, так что, прочтя книгу, решила положить какое-нибудь стихотворение на музыку.
– Какое тебе больше нравится, дядя?
– Попробуй балладу о Мулань, Магнолии. Мне кажется, она подойдет лучше других, – предложил доктор.
Дядин выбор поразил Аду: это была история девушки, которая ушла на войну, переодевшись мужчиной (совсем как Клоринда у Тассо!). Много лет спустя она спросила у психоаналитика: неужели дядя пытался подтолкнуть ее активнее защищать свои позиции и вне семьи, а не только в спорах с бабушкой? Или, может, он подсознательно хотел бы, чтобы она была мужчиной, наследником Бертранов, единственным, кто имеет право носить фамилию предков? Или все дело лишь в воспоминаниях о погибшей сестре? Правда, Мулань, в отличие от Клоринды, в конце концов отказывалась от публичных почестей, возвращалась домой и снова представала в традиционной женской роли.
Возможно, задумчиво сказала Ада Джиневре, ее первые опыты до сих пор лежат в какой-нибудь жестяной коробке из-под печенья, куда раньше складывали катушки с пленкой, чтобы защитить от размагничивания: пара неуверенных аккордов и три голоса (по такому случаю пришлось задействовать даже Лауретту) – высокие девичьи и хрипловатый взрослый баритон, которые по очереди пели куплеты баллады, сливаясь в финале:
Двенадцать лет мы прожили вместе,
но не узнали, что Мулань – девица!
Вот заяц роет коренья лапкой,
зайчиха дремлет, прикрыв глаза,
но если их ты увидишь рядом,
как отличишь ты самку от самца?
Джиневра с трудом могла представить себе тетю четырнадцатилетней, и даже еще меньше – двадцатичетырехлетней рокершей: в приличных семействах Доноры шестидесятых подобное было немыслимо. Но в кабинете дяди Танкреди на стене между окнами висела фотография той группы, свидетельствующая о том, что она на самом деле существовала, пусть и распалась через несколько лет, поскольку в глубине души никто из ее участников не считал музыку своим истинным призванием. Но тогда играть в группе было модно, все так делали, чем мы хуже? Ада была в первых рядах еще и потому, что уже в то время всем прочим мифологическим персонажам предпочитала Орфея.
– Не стоит забывать, – продолжала Ада, – что Орфей был не только величайшим в античном мире музыкантом и певцом, но и персонажем, вдохновившим наибольшее число современных музыкальных произведений. Первая в истории опера, созданная в XVII веке, была посвящена именно ему, а пару лет назад здесь же, в Италии, поставили и рок-оперу об Орфее, одну из первых рок-опер в мире.
– Да брось! Об Орфее? Том самом, который принимал участие в экспедиции аргонавтов? – удивилась Джиневра, в которой еще свежи были воспоминания от подготовки к экзамену по греческому. – Который потерял Эвридику, а потом был убит вакханками? Что у него общего с роком?
– А с бразильским фольклором, раз уж на то пошло? Но ты же знаешь песни Винисиуса ди Морайса и Жобима из фильма «Черный Орфей»? Что касается рока, слышала Тито Скипу–младшего?
– Автора-исполнителя из клуба Piper, который сделал бит-оперу Then an Alley из восемнадцати песен Боба Дилана, а еще переводит на итальянский все его песни?..
– Да, его. Я тут обнаружила, что в 1970-м, за пару лет до того, как я окончила университет, он написал и поставил в Риме, в Сикстинском театре, рок-оперу под названием «Орфей 9». Первую итальянскую рок-оперу! А девятка – в честь битловской «Revolution 9».
– Орфей и Битлы! Боже!
– И это еще не все. В 1973-м Скипа-младший снял для RAI[60]60
RAI (Radiotelevisione Italiana) – ведущая итальянская телерадиокомпания.
[Закрыть] телефильм по тому же сценарию и с тем же названием.
– Ты его видела?
– Конечно. Не представляешь, на что мне пришлось пойти, чтобы достать копию.
– Оно того стоило? Достойная работа?
– Интересная. И странная. Но некоторые моменты просто чудесны. Мой приятель Бруно говорит, что фанатеет от нее.
– Серьезно?
– По его словам, в ней все замечательно – и музыка, и тексты, и аранжировки. А уж Бруно-то в музыке понимает. Он часто играл эти песни под гитару на Пьяцца Гранде в компании других «детей цветов».
– А тебе они нравятся?
– Пожалуй. Но я предпочитаю «Орфея» русского композитора Александра Журбина.
– Журбин?.. Я, кажется, никогда о нем не слышала.
– Еще бы! Он живет в Советском Союзе и ни разу не выезжал за границу. Зато там он звезда, его все знают, потому что регулярно показывают по телевизору. Он из Узбекистана, родился в Ташкенте, молодой, но уже знаменитый композитор, настоящий, ни на кого не похожий. И музыку пишет разную, от романтических симфоний до мюзиклов: эстрадные хиты, камерные сонаты, оперы, балеты, песни для фильмов, спектаклей…
– И как же ты о нем узнала?
– У меня целая сеть шпионов и осведомителей… Шучу! Моя подруга, одноклассница по лицею, работает атташе по культуре в посольстве Италии в Москве.
– Твоя подруга? Из Доноры? В Москве?
– Да, в Москве. Мы в классе С все были редкостными авантюристками, спроси хоть у мамы. Одна наша одноклассница, чтобы платить за учебу, даже устроилась водителем к какой-то старой графине в Париже. А сегодня пишет об экономике в крупных международных журналах.
– В Париж я бы и сама поехала. Но в Москву… там же коммунисты! Бабушка Санча говорит…
– Не съедят они тебя. Между прочим, в будущем году они принимают Олимпийские игры.
– Так что, говоришь, с твоей подругой из Москвы?..
– Она там живет уже семь лет, мы время от времени переписываемся. Она знала о теме моих исследований, поэтому сообщила, что готовится постановка первой русской рок-оперы, написанной молодым композитором Журбиным, под названием, представь себе, «Орфей и Эвридика». Мариза организовала мне визу, жилье, и мы вместе сходили посмотреть. Русские были поражены: они никак не ожидали, что их любимец станет «подражать американцам». Но Журбин никому не подражал, постановка оказалась совершенно оригинальной и очень красивой. Она имела огромный успех и, хотя с тех пор прошло уже пять лет, постоянно идет по всему Советскому Союзу. А благодаря пластинке ее знают и за границей.
– Держу пари, ты написала рецензию.
– Да, в одном музыкальном журнале. И еще небольшое эссе для университета. Его опубликовали в 77-м.
– Для конкурса, похоже, публикаций мало не бывает.
– Комиссия считает, что мне нужно рассмотреть также «Рок-Орфея», которого Мимис Плессас собирается поставить в Греции, в античном театре Эпидавра. Говорят, эта рок-опера достойно завершит цикл, начатый еще Полициано и Монтеверди. Надеюсь, они правы.
– Не знаю, кто такой этот Мимис Плессас, но дядя Тан прав, ехать тебе нужно обязательно.
– Боюсь, что так, хотя я бы предпочла сейчас не покидать Донору.
Но дядя, доктор Креспи и даже Армеллина все следующие дни так успокаивали Аду, настаивая на поездке, что, когда Дария позвонила обговорить детали, ее подруга не смогла найти причин для отказа. Они договорились встретиться в аэропорту Афин. Дария через агентство в Болонье забронировала автомобиль, чтобы добраться до Эпидавра и, может, в свободное время съездить на пляж или посетить какие-нибудь раскопки.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































