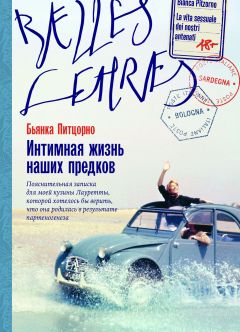
Автор книги: Бьянка Питцорно
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
17
Впрочем, об одной представительнице древнего рода донна Ада никогда не говорила, а ее портрет куда-то запропал. Но в старой книге об истории Ордале девочки обнаружили черно-белую репродукцию и рассказ о том, что в середине XVIII века одна из Ферреллов оказалась в центре скандала, эхо которого разнеслось далеко за границы региона. Клара Евгения, названная так в честь испанской инфанты, была замужем за Джероламо Ферреллом, которому подарила уже шестерых детей, когда новый вице-король, невзирая на неурожай и последовавший за ним мор, ввел новые, еще более тяжелые налоги.
В окрестностях Ордале начались массовые волнения. Мужчины (в основном пастухи и крестьяне, но также многие торговцы, чиновники, священники и даже кое-кто из аристократов) уходили в леса. Вооруженные банды нападали на отряды королевских солдат, сопровождавших сборщиков налогов, и подстрекали население к неповиновению. Во главе мятежа встал жестокий Гонсало Оливарес, разбогатевший пастух, всюду разъезжавший со своей красавицей-женой Арканджелой, сестрой другого известного бандита. Арканджела стреляла не хуже мужчин, без промаха попадая в цель из седла скачущей галопом лошади. Это не помешало ей родить Гонсало пятерых детей, младшую из которых, совсем еще крошку по имени Маттея, мать брала с собой в набеги, укутав в пуховое одеяльце и уложив в переметную сумку.
Легенда гласила, что однажды эта пара, преследуемая врагами, затаилась в дубовой рощице, как вдруг малышка Маттея, до того спокойно лежавшая на руках у матери, скривилась, словно собираясь захныкать. Ее плач погубил бы всех троих. Отец схватил дочь за горло, готовый задушить, лишь бы заставить замолчать. Но Арканджела тотчас же достала из корсета грудь и сунула сосок в ротик сразу замолчавшей малышке.
Это лишь один из многих рассказов о супругах Оливарес, передававшихся из уст в уста по всем окрестным деревням.
Как-то воскресным утром донна Клара Евгения, сославшись на недомогание из-за седьмой беременности, попросила свекровь сводить старших детей к мессе, для чего даже одолжила ей свою старую служанку. Пока младшие Ферреллы молились у алтаря с портретами предков, Клара Евгения надела сапоги для верховой езды, распахнула ворота конюшни, оседлала лучшего коня своего мужа и поскакала к дубовой роще, где ее уже поджидали супруги Оливарес. Как, когда и где они сговорились, никто так никогда и не узнал.
Домой она больше не вернулась. Поговаривали, что отныне эти трое всюду появлялись вместе: они устраивали засады и набеги, не давая пощады королевским солдатам, освобождали попавших в плен друзей. Вскоре донна Клара Евгения научилась обращаться со шпагой и ружьем не хуже своей прекрасной сообщницы.
Несколько месяцев спустя какой-то пастух ночью оставил у крыльца Ферреллов сплетенную из стеблей асфодели корзину, в которой под льняной тряпицей лежала девочка, рожденная благородной дамой в бедной хижине в самой чаще леса – вероятно, с помощью Арканджелы. Дон Джероламо, усомнившись, что та крови Ферреллов, хотел отвезти ребенка в монастырский приют. Но старушка-мать напомнила ему, что к моменту побега супруга уже была беременна, и показала родинку в форме полумесяца на плече девочки – такую же, как у ее старших братьев. По этим приметам малышку приняли в семью, окрестив, по святцам, Кирикой. Выросла она без матери, а в семилетнем возрасте стала вместе с сестрами, Катериной и Лоренцей, послушницей в том самом монастыре, куда отец хотел отправить ее новорожденной. Три девочки, на которых никто не хотел жениться из-за позорной славы матери, приняли обеты затворничества, и с тех пор их не видели.
Донна Клара Евгения продолжала бок о бок с двумя бандитами сражаться против королевских солдат. Многие считали, что она стала любовницей Оливареса, но не могли объяснить, почему безжалостная Арканджела не только не ревновала, но и по-прежнему всюду появлялась вместе с ней.
В конце концов после пяти лет партизанской войны вице-король убедил суверена послать против повстанцев настоящую армию. Гонсало Оливарес был захвачен и казнен. Его отрубленная голова несколько месяцев торчала на пике у городских ворот Альбеса, все имущество семьи было конфисковано, дом сожжен, и только Арканджеле с детьми удалось бежать на Корсику. Донне Кларе Евгении, захваченной вместе с Гонсало, предстояло разделить его участь: разве что ее, как дворянку, обезглавили бы не прилюдно, на площади, а под покровом ночи во дворе тюрьмы. Но легенда о ней, разлетевшись по стране, достигла ушей короля. Тот потребовал заковать Клару Евгению в цепи и доставить в столицу, где, по слухам, эта дама в разговоре с монархом столь красноречиво описала обязанности феодала по отношению даже к наиболее бедным своим вассалам, что король отменил смертный приговор, заменив его четырьмя годами заключения в крепости Казале, предназначенной для содержания дворян и высокопоставленных военных.
В Ордале донна Клара Евгения вернулась совершенно седой. Дон Джероламо к тому времени скончался от разбитого сердца, и главой семейства стал его первенец, Джованни Элиа. К большому разочарованию крестьян, он приветствовал мать с распростертыми объятиями и предложил проводить ее домой. Но благородная дама предпочла воссоединиться с дочерьми в монастыре, где и оставалась несколько следующих лет. Потом она попросила у сына часть своего приданого, села на коня и направилась к берегу. Собиралась ли она вернуться в Испанию? Может, плыть на Корсику? Или воссоединиться с беглыми мятежниками в Париже, центре Просвещения? Никто в семье с тех пор о ней не слышал.
Много лет спустя сам Джованни Элиа, вдохновленный идеями французских философов и революционеров, будучи дворянином, участвовал в антифеодальных волнениях 1796 года и погиб в бою. Детей у него не было, поэтому титул перешел к его брату, дону Мартино.
18
Первым из предков, чей портрет донна Ада хранила еще и в виде фотографии, а не только картины маслом, был ее дед Диего, который родился в Ордале в 1832 году и женился на местной дворянке, Виоланте де Сустис.
На университетских лекциях, посвященных портрету, профессор объяснял Аде, что до изобретения фотографии возможность увековечить свой образ для потомков была привилегией людей богатых и могущественных. Но относительно низкая стоимость дагеротипов распространила ее сперва на буржуазию, а затем постепенно и на более скромные сословия. С наступлением нового века даже крестьянские пары могли себе позволить заскочить в фотостудию по случаю свадьбы, чтобы запечатлеться в праздничном наряде на фоне нарисованного пейзажа. Некоторые из первых фотопортретов были настоящими произведениями искусства, говорил профессор, выводя на экран работы Надара, Чарльза Доджсона и Джулии Маргарет Кэмерон, которую Ада так полюбила в Англии. Они требовали чувства композиции, выстроенного света, психологического понимания изображаемого объекта. Техника съемки с длинной выдержкой и печать при помощи экспериментальных химикатов были недоступны любителям: этим должны были заниматься если не художники, то, по крайней мере, серьезные ученые-профессионалы. Не случайно первые известные фотопортреты сделал в Америке около 1840 года весьма многогранный персонаж, Джон Уильям Дрейпер, химик, врач, астроном, историк и философ, помогавший Морзе создавать телеграфную азбуку. Пока во Франции Луи Дагер экспериментировал с первыми фотографиями зданий и неодушевленных предметов на длинной выдержке, Дрейперу удалось получить портрет своей сестры, Дороти Кэтрин. Позирование длилось «всего» от 65 до 90 секунд. Но больше всего в этой истории Аду поразило то, что Дрейпер первым сфотографировал поверхность Луны с высоким разрешением. Она еще долго держала на рабочем столе собственноручно напечатанные и оформленные в одну рамку суровое лицо Дороти Кэтрин в викторианском капоре с ниткой искусственных цветов и добродушный округлый лик ночного светила.
Донна Ада, в свою очередь, держала на инкрустированном столике в гостиной переплетенный в кожу семейный фотоальбом. Снимки старшего поколения Ферреллов были немногочисленны, куда чаще встречались их дети, снятые в разном возрасте, в студии и на свежем воздухе, одни или в компании друзей и кузенов во время весенних и летних пикников. Наряду с господами частенько увековечивали и слуг – наглядная демонстрация демократичности фотоискусства. Из этих кадров можно было сделать вывод, что к середине XIX века образ жизни Ферреллов стал менее строгим: достаточно сказать, что они переехали в город, посещали театр и балы-маскарады, гуляли по усаженным деревьями бульварам, летом слушали музыку у фонтана в городском саду. Возможно, как предполагали Ада и Лауретта, какие-то из их браков теперь случались по причине, как тогда говорили, «взаимной склонности», после непродолжительного ухаживания (хотя о запретной любви, пламенной страсти, побеге из дома или похищении невесты речь, разумеется, не шла).
У прадедушки Феррандо было много братьев и сестер, а вот бабушка Ада так и осталась единственным ребенком из-за таинственной болезни, которая унесла ее мать вскоре после родов. Возможно, именно поэтому она с детства купалась во всеобщем внимании и много фотографировалась. Девочкой донна Ада была некрасивой, худой, с глубоко посаженными подслеповатыми глазами; девушкой рядилась в пестрые платья и шляпы невероятных размеров, украшенные цветами, искусственными фруктами, а иногда и чучелами птиц, что вызывало у ее внучек приступы гомерического хохота.
В альбоме была фотография, сделанная примерно за год до свадьбы с Гаддо Бертраном. Ада Феррелл выглядела на ней гораздо моложе своих семнадцати: смущенная, не знающая, куда деть руки, девушка-подросток с только начавшей расти грудью, одетая в платье с завышенной талией. Ее кузина Долорес говорила, что, увидев эту фотографию, приезжий вдовец и влюбился в тогда еще незнакомую ему девушку.
Следующие страницы альбома были сплошь заполнены снимками дедушки Гаддо. Вот он в день свадьбы: усач шестидесяти одного года от роду, с самодовольным видом обнимающий молодую жену. Вот за рулем только что купленной машины, на коне возле недавно построенного загородного дома, вот склонился над сидящей в кресле с маленьким Диего на коленях женой, словно пытаясь защитить, – больше похож на деда, чем на отца ребенка. Дальше более современные и более непринужденные сюжеты: родители с Диего и Санчей, склонившиеся над колыбелью Консуэло, донна Ада с Инес в день крещения… Были и снимки трех умерших детей, безмятежно, будто спящие, лежащих в своих колыбельках среди цветов. А вот портрета дедушки Гаддо на смертном одре, какие часто делали в те дни, не было, как и детских фотографий Танкреди.
«Это альбом семейства Феррелл, – резко заявляла бабушка Ада. – Попросите дядю показать вам фотографии Бертранов, которые он привез из Флоренции. Они у него в спальне, в ящике комода».
Но дядя ни за что не соглашался открыть ящик. После долгих уговоров Аде и Лауретте удалось заставить его достать хотя бы одну выцветшую карточку с изображением матери, тогда еще девочки, среди сестер, потом другую, уже замужней дамы, рядом с неузнаваемым без усов серьезным сорокалетним Гаддо в старомодной шляпе. Попавшиеся под руку фотографии близнецов дядя Тан быстро спрятал, словно видеть их ему было слишком больно – настолько, что племянницы не посмели настаивать на том, чтобы получше их рассмотреть. А портретов маслом с Бертранов не писали – или, может, они остались во Флоренции, в доме отца дедушки Гаддо, который позже был продан.
19
Через несколько дней после отъезда Джулиано Аде позвонил Лео.
– Как дела? Узнал от Лауретты о твоем приезде. Как насчет съездить со мной в субботу в деревню? Чечилия хочет тебе кое-что показать.
Ада, вне себя от любопытства, тотчас же согласилась. В субботу в девять утра Лео заехал за ней на своей «рено-5», которую не менял уже двенадцать лет. Всю поездку, сидя рядом и разглядывая его профиль, Ада удивлялась: до чего же странно, что человек, столь небрежно относящийся к своей внешности, пользуется таким успехом у женщин! И речь ведь не только о старой колымаге: это касалось и одежды – не выбранного стиля в целом, а скорее небрежности, случайности этого выбора. Даже волосы у Лео всегда были или длинными и неопрятными, или слишком короткими, потому что он редко вспоминал, что неплохо бы сходить к парикмахеру, и считал, что, если состричь их под ноль, они будут отрастать дольше. Зато он всегда выглядел подтянутым, мускулистым. А эти широко распахнутые глаза, строгий прямой нос, легкий румянец чисто выбритого лица без единой морщинки… Ада, с нежностью вспомнив, что в период их детской влюбленности щеки ее Патрокла еще были гладкими и пухлыми, как у младенца, почувствовала желание немедленно коснуться их губами и проверить, не осталось ли следов былой гладкости; желание воскликнуть «Притормози» и, как только машина остановится, откинуть сиденья, обнять его, раздеть, затянуть на себя, попробовать, каково это – заниматься с ним любовью, познать то, чего она в прошлом по незрелости или неопытности не могла и желать и что с тех пор познало так много других женщин. И в то же время Ада чувствовала себя виноватой – перед Чечилией, да и перед самим Лео: какое она имеет право бередить ему душу воспоминаниями о прошлом, таком далеком, что сейчас кажется другой геологической эпохой? Тем более что эта идея происходила скорее от любопытства, чем от физического желания. «Какая же ерунда лезет в голову!» – подумала она смущенно. К счастью, Лео не умел читать мысли. Особенно те, самые ехидные, зудевшие: «А вот Дария и думать бы не стала».
Но она, Ада, – не Дария, а потому заставила себя удержаться и не класть руку ему на колено, чтобы обратить его внимание на пасущуюся в поле кобылу с новорожденным жеребенком. Лео вел машину, полностью сосредоточившись на дороге и не отвлекаясь на давно знакомый ему сельский пейзаж: свежую пшеничную стерню, сгрудившихся в тени одинокого дерева овец, тонущий в пурпурно-синей дымке горизонт.
Вот наконец и Ордале.
– Хочешь взглянуть, как там твой дом? Ключи взяла? – поинтересовался Лео, сворачивая на узкую главную улицу между старыми каменными зданиями.
– Нет. Пойдем лучше найдем Чечилию. Где она собиралась нас дожидаться?
Чечилия Маино с помощью специального объектива фотографировала росписи собора при скользящем освещении. В полутьме церкви рыжие волосы пылали, как факел.
Она поздоровалась с Адой, назвав ее на «ты», словно они уже сто лет были знакомы, хотя до сих пор виделись лишь дважды, потом приподнялась на цыпочки, чтобы демонстративно, зная, что служка за ними наблюдает, поцеловать Лео в губы.
– Я так рада, – сказала она. – Думаю, в своих поисках «мастера» я наконец-то на верном пути.
– Почему ты так решила?
– Мне удалось найти множество необычных повторяющихся деталей, сейчас как раз их фотографирую, чтобы сравнить. И кстати, не похоже, что это художник ломбардской школы, как говорят, – скорее Тоскана, влияние маньеризма или Северного Возрождения. Лица и шеи настолько вытянуты, что думаешь не о последователях Рафаэля, а о Понтормо или, скорее, Пармиджанино.
Ада слушала, восхищаясь ее энтузиазмом, но, поскольку не так хорошо знала живопись конца XVI века, не смогла уловить сути и подтвердить догадку, даже не попросила рассмотреть детали. Они с Лео обменялись снисходительными взглядами: пылкость Чечилии казалась им совершенно детской. Впрочем, оба знали, что она вполне компетентна, так почему бы не поверить? Всплывшее через столько лет имя «мастера из Ордале» помогло бы ей в карьере и не позволило бы критикам старой школы отвергнуть ее теорию за отсутствием доказательств.
– Лео сказал, ты хочешь мне что-то показать, – сказала Ада, когда решила, что Чечилия выговорилась.
– Ах да, кое-что, связанное с Хименой Феррелл. Вроде бы она – твой предок.
– Во всяком случае, так говорила моя бабушка, а она была чистокровной Феррелл.
– Отлично, тогда тебя заинтересует то, что я обнаружила за последние несколько дней. Должна сказать, у «мастера из Ордале» был серьезный интерес к Химене, почти одержимость.
– Ты имеешь в виду, он был в нее влюблен? – скептически переспросил Лео.
– Ну, можно и так сказать…
– Да брось! Как сейчас можно это узнать? – воскликнула Ада, которую насмешило столь романтическое предположение.
– Так ведь он непрерывно ее рисовал, все женские образы написаны с нее!
– Ты уверена? Я знаю только один ее портрет – на алтаре. Она, кстати, была донатором – именно она вместе с мужем пригласила художника в Ордале, а потом оплатила его работу.
– А тебе не приходило в голову повнимательнее взглянуть на другие росписи? Пойдем!
Они прошли за девушкой в глубину нефа. Многие фрагменты, на которые указывала Чечилия, – в боковых капеллах, в темных углах у входа – терялись в сумраке. Ада и Лео знали собор с детства, частенько сюда заходили (она во время каникул, его, выросшего по соседству, здесь крестили и причащали) и, скорее всего, именно поэтому никогда не уделяли особого внимания росписям. Возможно, когда-то их и интересовали сюжеты, истории, которые могла рассказать каждая из них, но лиц персонажей они точно ни разу пристально не рассматривали.
И только сейчас, руководствуясь указаниями Чечилии Маино, Ада сразу же безошибочно узнала в тщательно прорисованной «Мадонне Млекопитательнице» Химену Феррелл: ее овал лица, полные губы, миндалевидные глаза с тяжелыми веками… Два ангела держали над ней отрез дорогого штофа, напоминавший театральный занавес, расстегнутое платье обнажало гордо выставленную правую грудь, высокую и плотную, а младенец, вместо того чтобы припасть к ней, свешивался с рук и протягивал одному из ангелов горсть вишен.
– Чистейшей воды маньеризм, – убежденно бросила Чечилия.
Ада же вдруг с изумлением ощутила, как ее перед этим образом охватывает острейшее чувство стыда: в то время Химена была хозяйкой всего этого края, замужней дамой и матерью пятерых детей. Эта обнаженная грудь юной девушки, успокаивала она себя, была, вероятно, плодом воображения художника, который, конечно же, никогда в жизни не видел настоящей груди. Но разве мог дон Гарсия не знать, что жители окрестных деревень восхищенно разглядывают этот портрет, считая, что перед ними его жена? И что сказала бы на это бабушка Ада?
Всего пара шагов – и снова лицо Химены, на этот раз у крестильной купели. Волосы закручены в пучок и частично прикрыты тюрбаном – это образ святой Чечилии у органа, обрамленный пальмовыми ветвями.
Дальше – больше: на доске под куполом в виде святой Урсулы, сходящей с корабля во главе процессии из одиннадцати тысяч девственниц, в другом месте – в образе святой Екатерины Александрийской, образованной девы, всегда изображаемой с длинным гусиным пером и свитками пергамента.
В голове Ады сразу вспыхнул образ: ей лет пять, может, шесть. Вместе с Лауреттой и кузинами они на вечерней заре водят хоровод на церковной площади, распевая: «Святая Катерина, ты дочка короля, ля-ля-ля, ты дочка короля». Далее следовали партия самой мученицы и эмоциональная сцена обезглавливания: «Отец ее был в ярости, убил ее мечом», – пели девочки, пока одна из них показывала, как поднимает меч, а затем опускает его на шею водящей. Та, закатив глаза, корчится на земле (матери и бабушки, позвав дочерей к ужину, вечно ругались из-за перепачканных платьев).
Но ни сама Ада, ни ее кузины никогда не связывали отважную мученицу, образец для подражания всех бунтарок («Убей меня, отец мой, но я не отрекусь»), с портретом темперой в прохладном сумраке церкви и даже представить себе не могли, что это задумчивое лицо могло принадлежать их дальней родственнице.
– Согласен, модель везде одна и та же, – признался наконец Лео. – Но как из этого можно сделать вывод, что художник был в нее влюблен? Может, он просто хотел возвеличить жену покровителя?
– Пока ты не представишь мне письменные доказательства обратного, – стояла на своем Чечилия, – я буду верить в любовь. Когда художник сосредоточивается на одной модели, за этим всегда стоят чувства: вспомните хотя бы Филиппо Липпи и все эти портреты Лукреции Бути.
Ада усмехнулась: она мало что смыслила в истории искусства, но рассказ о художнике-расстриге, уговорившем юную монашку с тонкими чертами лица бежать из флорентийского монастыря, знала еще со школьной скамьи.
– Мне кажется, Химена Феррелл ни за что не отказалась бы от дома и целого выводка детей (одиннадцати, если не ошибаюсь) ради приезжего живописца.
– А я и не говорю, что она изменяла мужу, – огрызнулась Чечилия.
– Тем более что дети этому не помеха, – улыбнулся Лео, словно пытаясь защитить невесту. – Род Ферреллов никогда не славился образцовыми матерями. Скольких детей бросила эта авантюристка Клара Евгения, сбежав с бандитами? Пятерых, шестерых?
– Да ты, похоже, знаешь историю моей семьи лучше меня, – расхохоталась Ада. – Но все же, будучи архивариусом, ты должен больше полагаться на документы. Покажешь мне пергамент, где рассказывается о страсти между таинственным художником и знатной дамой из Ордале, – буду только гордиться.
Но Чечилия не теряла надежды. Она пригласила их забыть пока о соборе и дойти вместе с ней до небольшой часовенки в нескольких километрах от деревни. Дверь оказалась заперта, но девушка взяла с собой ключи. Воздух звенел от полуденного жара, а внутри полузаброшенного здания было прохладно, стены сочились влагой, попахивало плесенью.
– Знаете, в чем особенность этой церквушки? – спросила Чечилия. – Кто, например, писал эти фрески?
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































