Текст книги "Виллет"
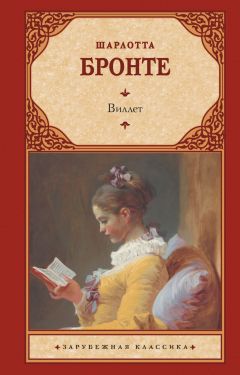
Автор книги: Charlotte Bronte
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
– Не горюйте, не печальтесь, – проронила я. – Если в Джиневре есть хотя бы искра, достойная вашей преданности, она ответит – должна ответить – взаимностью. Радуйтесь жизни, доктор Джон, и надейтесь! Кому же надеяться на лучшее, если не вам?
Ответом на краткую, но вдохновенную речь стал – очевидно, заслуженный – удивленный взгляд. Мне почудилось даже некоторое неодобрение. Мы простились, и я вернулась в дом, только сейчас осознав, как замерзла. Часы пробили, а колокола пропели полночь. Публика почти разъехалась: праздник закончился, свет ламп постепенно тускнел. Спустя час и жилой дом, и пансионат погрузились во тьму и в тишину. Я тоже лежала в кровати, но не спала: после столь бурного дня уснуть оказалось нелегко.
Глава XV
Долгие каникулы
За праздником в честь именин мадам Бек, с тремя предшествующими неделями отдыха, двенадцатичасовым всплеском бурного веселья и последующим днем абсолютной вялости, наступил период реакции: два месяца самого настоящего усердия – упорной учебы, – которые завершали учебный год и представляли собой единственное поистине рабочее время. Профессора, учительницы и ученицы вмещали в важный период основной груз подготовки к предшествующим распределению наград экзаменам. Претенденткам приходилось заниматься всерьез, а профессорам и учительницам не оставалось ничего иного, кроме как приналечь на всевозможные рычаги, чтобы подтянуть отстающих учениц и добросовестно помочь более успешным. Следовало представить школу в наилучшем, самом выгодном свете, для чего годились любые средства.
Я почти не замечала, как работают коллеги, поскольку была погружена в собственные дела. Задача стояла нелегкая: пропитать девяносто голов английской грамматикой – крепкой настойкой того, что казалось их обладательницам самой трудной наукой, – и натренировать девяносто ртов в почти недостижимом произношении свойственных Британским островам шепелявых и шипящих зубных согласных.
И вот настал этот ужасный день! Ученицы подготовились к нему необычайно тщательно, одевшись с молчаливым красноречием: ничего причудливого или развевающегося – ни белого газа, ни голубых лент. Все до единой выглядели серьезными, сдержанными, скромными. Я чувствовала себя обреченной: из преподавательского состава школы лишь мне достался тяжкий крест; мне одной выпало суровое испытание. Другие наставники не принимали экзамены по предметам, которые преподавали. Эту обременительную ношу добровольно взвалил на свои плечи профессор литературы месье Поль Эммануэль. На правах безусловного диктатора он собрал все поводья в одной ладони, гневно отвергая участие коллег и отказываясь от любой помощи. Сама мадам Бек, явно желавшая провести экзамен по географии – науке, которую любила и хорошо преподавала, – была вынуждена подчиниться требованиям деспотичного родственника. Он устранил целый штат педагогов, как мужчин, так и женщин, оставшись на экзаменационном подиуме в гордом одиночестве. Необходимость единственного исключения страшно его раздражала. Справиться с английским языком он не мог, а потому был вынужден оставить этот предмет в руках соответствующей особы, что и сделал, не сумев скрыть наивной ревности. Бесконечный крестовый поход против самолюбия всех вокруг, кроме самого себя, являлся причудливой особенностью этого талантливого, но вспыльчивого и властного человечка. Он испытывал острое пристрастие к публичному представлению собственной персоны, хотя ненавидел это качество в других, как мог, подавлял и угнетал соперников, а когда не мог, бушевал, как загнанный в бутылку шторм.
Вечером накануне дня экзаменов я гуляла в саду подобно остальным учительницам и пансионеркам. Месье Поль Эммануэль нашел меня в запретной аллее. Изо рта торчала сигара; пальто – наиболее характерное одеяние неопределенного фасона – свисало мрачно и угрожающе; кисточка на феске сурово затеняла левый висок; черные бакенбарды топорщились, как у сердитого кота; фиалкового цвета глаза метали гневные молнии. Преграждая путь, он неожиданно заговорил:
– Ainsi, vous allez trôner comme une reine: demain – trôner à mes côtés? Sans doute vous savourez d’avance les délices de l’autorité. Je crois voir en je ne sais quoi de rayonnante, petit ambitieuse![152]152
Итак, собираетесь завтра властвовать, как королева, вместо меня? Несомненно, заранее предвкушаете восторг господства. Иначе непонятно, с какой стати так сияете, маленькая карьеристка! (фр.)
[Закрыть]
Правда, однако, заключалась в том, что он глубоко заблуждался. Я не могла оценивать восхищение или просто одобрительное мнение завтрашней аудитории так же, как он. Если бы эта аудитория насчитывала столько же подруг и знакомых, как у него, возможно, было бы иначе. Говорю о том, как складывались обстоятельства. В моих глазах школьный триумф обладал лишь холодным блеском. Никогда не понимала, как мог месье Поль находить в нем сердечное тепло и уютное сияние камина. Пожалуй, он переоценивал успех учениц, в то время как я недооценивала. Однако, как и у него, у меня имелись свои фантазии. Например, очень нравилось наблюдать за месье Полем в минуты ревности. Натура его мгновенно оживала, а дух воспламенялся. Обычно серое лицо озарялось таинственным светом, а фиалковые глаза ярко вспыхивали (он говорил, что сочетание черных волос с голубыми глазами une de ses beautés[153]153
Особенно красиво (фр.).
[Закрыть]. Гнев его обладал притягательностью, поскольку мог быть простодушным, искренним, совершенно неразумным, но никогда – лицемерным. Я не произнесла ни слова возражения против того самодовольства, в котором он меня обвинил, а лишь спросила, когда состоится экзамен по английскому языку – в начале или в конце дня.
– Пока не решил, назначить ли его на утро, когда многие еще не успеют приехать и ваше честолюбие не получит удовлетворения в виде многочисленной публики, или же на вечер, когда все устанут и вам достанется лишь вялое, утомленное внимание.
– Que vous êtes dur, Monsieur![154]154
Как вы суровы, месье! (фр.)
[Закрыть] – притворившись обиженной, воскликнула я.
– С вами приходится быть суровым. Вы относитесь к тем существам, которых необходимо угнетать. Я знаю вас! Знаю! Другие обитатели этого дома видят, как вы тихо проходите мимо, и думают, что промелькнула бесцветная тень. Я же однажды изучил ваше лицо, и этого достаточно.
– Считаете, что хорошо меня понимаете?
Не ответив на вопрос прямо, он продолжил:
– Разве успех в водевиле не доставил вам радости? Внимательно наблюдая, я заметил страстное стремление к триумфу. Какой огонь сверкал в глазах! Не свет, но пламя! Je me tiens pour averti[155]155
Я принял к сведению (фр.).
[Закрыть].
– Какое бы чувство ни испытывала я тогда, месье – простите, если скажу, что вы чрезвычайно преувеличиваете его качество и количество, – оно было совершенно абстрактным. Водевиль меня не вдохновлял. Роль вызывала отвращение. Публика в зале не внушала ни капли симпатии. Несомненно, собрались хорошие люди, но разве я с ними знакома? Разве они что-то для меня значат? Могу ли желать снова предстать перед ними завтра? Станет ли экзамен не просто очередным обременительным служебным заданием?
– Желаете, чтобы я избавил вас от него?
– Всем сердцем, если не боитесь провала.
– Провал неизбежен. Знаю по-английски три фразы и несколько слов: «песня, звезды» и что-то еще в том же духе. Est-ce bien dit?[156]156
Хорошее произношение? (фр.)
[Закрыть] Считаю, что будет лучше вообще все отменить: не проводить экзамен. Что скажете?
– Если мадам согласится, то я готова.
– Искренне?
– Вполне.
Некоторое время месье Эммануэль молча курил, а потом резко обернулся и торжественно потребовал:
– Donnez-moi la main[157]157
Дайте руку (фр.).
[Закрыть].
Злоба и ревность мгновенно испарились, сменившись душевной щедростью.
– Пойдемте. Не будем соперничать, будем дружить. Экзамен состоится, но я выберу удобный момент. Вместо того чтобы раздражать и мешать, как планировал еще десять минут назад, поскольку с детства завистлив и мстителен, от души помогу. В конце концов, вы одиноки в чужой стране, должны зарабатывать на хлеб и пробиваться в жизни. Известность пойдет на пользу. Станем друзьями. Согласны?
– Всем сердцем, месье. Рада обрести друга. Для меня это важнее триумфа.
– Бедняжка, – заключил профессор и, не попрощавшись, удалился.
Экзамен прошел успешно. Месье Поль Эммануэль сдержал слово и постарался мне помочь. На следующий день состоялось вручение наград, и на этом учебный год закончился. Ученицы разъехались по домам. Начались долгие каникулы.
О, эти каникулы! Забуду ли я их когда-нибудь? Думаю, нет. В первый же день мадам Бек отправилась к детям, на морское побережье. Трех остальных учительниц приютили то ли родственники, то ли друзья. Все профессора покинули город: кто-то уехал в Париж, кто-то в Бу-Марин. Месье Поль Эммануэль предпринял паломничество в Рим. Школа практически опустела, если не считать нас троих: меня, поварихи Готон и несчастной слабоумной ученицы из дальней провинции, которой мачеха запретила возвращаться домой.
Сердце почти умерло в груди, отчаянная тоска терзала его струны. Как долго тянулись сентябрьские дни! Какими серыми, безжизненными казались! Каким огромным и пустым выглядел особняк! Каким мрачным и покинутым стал сад, пыльный после ушедшего городского лета! В самом начале бесконечных восьми недель я не знала, как доживу до конца. Настроение и прежде медленно, но неуклонно ухудшалось, а сейчас, с исчезновением работы, стремительно покатилось в пропасть. Мысли о будущем не рождали светлых надежд; грядущая пустота не дарила утешения, не давала обещаний, не побуждала терпеть нынешнее зло ради будущего добра. Часто угнетало печальное безразличие к существованию, горькое смирение, печальное согласие рано покинуть земную обитель. Увы! Получив досуг и возможность взглянуть на жизнь так, как жизнь должна была мной восприниматься, я увидела лишь безнадежную пустыню: бледный песок без зеленых полей, без пальм, даже без колодца. Те надежды, которые дороги юности, поддерживают волю и ведут вперед, были мне неведомы. Я даже не умела о них думать. Если порой мысль о будущем робко стучалась в сердце, дверь немедленно захлопывалась и запиралась на тяжелый засов. А когда отвергнутая мечта униженно отворачивалась, к глазам подступали горькие слезы. И все же я не осмеливалась впустить непрошеных гостей, смертельно опасаясь греха и слабости самонадеянности.
Знаю, что религиозный читатель выступит с длинной проповедью о том, что я написала. То же самое сделают моралист и суровый мудрец. Стоик нахмурится, циник презрительно усмехнется, а эпикуреец рассмеется. Что же, на то ваша воля. Принимаю и проповедь, и усмешку, и даже циничный хохот. Возможно, все вы правы, но не исключено также и то, что, оказавшись на моем месте, повторили бы мою ошибку. Первый месяц каникул действительно стал черным и тяжелым.
Слабоумная девочка не выглядела несчастной. Я старалась хорошо ее кормить и держать в тепле. Она не просила ничего, кроме еды и солнца, а когда солнца не было, то огня. Слабое здоровье и угнетенные умственные способности нуждались в покое: мозг, глаза, уши, сердце дремали в довольстве. Проснуться для работы они не могли, а потому апатия служила им раем.
В первые три недели каникул стояла ясная, сухая, жаркая погода, а четвертая и пятая недели принесли ливни и грозы. Не знаю, почему изменения в атмосфере дурно на меня подействовали, почему страшные грозы и бесконечные дожди ввергли в паралич еще более жестокий, чем тот, который владел организмом в спокойную погоду, однако так было, и нервная система с трудом выдерживала одинокие дни и ночи в огромном пустом доме. Как истово я молилась, обращаясь к Небесам за помощью и утешением! С какой смертельной силой душило меня убеждение, что судьба останется вечным, непримиримым врагом! В душе я никогда не просила у Бога ни милости, ни справедливости. Считала, что согласно Его великому плану кто-то должен всю жизнь глубоко страдать, и трепетала в уверенности, что принадлежу к числу этих вечных страдальцев.
Некоторое облегчение настало, когда вдруг приехала тетушка слабоумной ученицы – пожилая добрая женщина – и забрала мою странную, уродливую подопечную. Порой несчастная девочка становилась обузой: я не могла вывести ее за пределы сада, как не могла ни на минуту оставить одну. Бедное сознание было искажено, как и тело, даже более того: заметно склонялось к причинению зла. Неосознанное стремление нанести ущерб, бесцельная враждебность требовали постоянного надзора. Говорила она очень редко, зато часами могла сидеть, гримасничать и неописуемо искажать и без того деформированное лицо, отчего казалось, что это вовсе не человек, а странное неприрученное животное. К тому же личный уход требовал нервов и выдержки опытной больничной сиделки. Терпение мое скоро иссякло: я смертельно устала, – да и в мои обязанности не входило нянчиться со слабоумными: обычно этим занималась специально нанятая служанка. Она и была, но тоже уехала, а в каникулярной суете забыли найти замену. Это испытание невозможно назвать самым легким в жизни, и все-таки, какой бы грязной и отвратительной ни была физическая работа, умственные и душевные страдания угнетали куда сильнее. Уход за слабоумной ученицей нередко лишал аппетита, не позволял проглотить ни кусочка, в полуобморочном состоянии выгонял на свежий воздух, к колодцу или фонтану во дворе. Однако неприятная обязанность никогда не терзала сердце, не наполняла слезами глаза, не обжигала щеки горячей, как расплавленный металл, влагой.
После отъезда подопечной я обрела свободу и возможность гулять сколько душе угодно. Поначалу боялась уходить далеко от особняка на рю Фоссет, но со временем нашла городские ворота, миновала сторожевой пост и осмелилась бродить по дорогам и полям, заходить за оба кладбища – католическое и протестантское – и еще дальше, за фермы, к рощам и перелескам. Смутное беспокойство куда-то все время гнало, не позволяло отдыхать. Отсутствие общения рождало в душе желания, напоминавшие смертельный голод. Часто я уходила с раннего утра: бродила в полдневную жару, в утомительный послеполуденный зной, в прохладный предзакатный час – и возвращалась, когда на темном небе уже всходила луна.
Пока размышляла в одиночестве, пыталась представить, чем занимается тот или иной мой знакомый. Мадам Бек весело проводила каникулы на морском курорте вместе с детьми и матерью, в окружении друзей, избравших для отдыха то же место. Мадемуазель Сен-Пьер жила у родственников в Париже. Джиневра Фэншо в компании неких знакомых отправилась в приятное путешествие на юг Франции. Она казалась мне самой счастливой, поскольку имела возможность наслаждаться прекрасными пейзажами: ласковое сентябрьское солнце освещало плодородные равнины, где наливался соком виноград, золотые и хрустальные луны поднимались над очерченным волнистой линией гор голубым горизонтом.
Все это само по себе ничего не значило. Я тоже ощущала тепло осеннего солнца, видела, как встает чистая луна урожая, и почти мечтала укрыться землей и дерном, чтобы спрятаться от воздействия светил, потому что не могла жить в их свете, не могла с ними подружиться и ответить им благодарностью. Джиневра же обладала особым духом, наделявшим силой и уверенностью, вселявшим радость в свет дня и благоуханную свежесть – в сумрак ночи. Лучший из охраняющих человечество добрых гениев укрывал ее широкими крыльями и заботливо склонялся над головой. За ней всегда следовала истинная любовь, и, значит, она никогда не оставалась в одиночестве. Ощущала ли она это присутствие? Мне казалось, что иначе и быть не может: холодного равнодушия я не представляла и считала, что она испытывает тайную благодарность, любит сдержанно, но надеется однажды проявить всю силу ответного чувства. Ее преданный герой являлся в воображении сознающим осторожную любовь и утешенным этим сознанием. Я предполагала существование между ними электрического провода симпатии, тонкой цепи взаимопонимания, поддерживавшей союз даже на расстоянии сотни лиг и несшей по горам и долинам общение посредством молитвы и желания. Постепенно Джиневра стала для меня почти сказочной героиней. Однажды, ясно осознав возрастающую иллюзию, я сказала себе, что, судя по всему, нервы не выдерживают: сознание мутится от постоянного напряжения и находится на грани болезни. Что же делать? Как сохранить здравый рассудок?
Остаться невредимой в данных обстоятельствах было невозможно. Наконец, после дня и ночи особенно тяжелой депрессии, меня свалила настоящая болезнь, и пришлось лечь в постель. Примерно в это же время на смену бабьему лету пришла непогода. В течение девяти дней бушевал ураган с проливным дождем и жутким ветром, а я лежала в странной горячке. Сон бесследно исчез. Ночами я вставала, бродила по дому, молилась, но в ответ слышала лишь стук оконной рамы да завывание ветра. Сон не приходил!
Нет, однажды все-таки пришел, но принес с собой мстительное видение, словно рассердившись на меня за назойливость. Если верить часам на церкви Иоанна Крестителя, бред продолжался совсем недолго – едва ли минут пятнадцать, – однако за это время все мое существо наполнилось неведомой прежде болью, испытало не поддающееся определению ощущение, обладавшее обликом, манерой, ужасом, голосом пришельца из вечности. Между полуночью и часом моих губ коснулась чаша с черным, крепким, странным напитком, почерпнутым не из колодца, а из бурного, бездонного и бескрайнего моря. Страдание, сваренное с рассчитанной умеренностью, и предназначенное для губ смертных, имеет другой вкус – отличный от вкуса моего страдания. Испив и очнувшись, я решила, что все кончилось: предел уже наступил. Дрожа от ужаса и слабости, мечтая позвать на помощь, но понимая, что помощь не придет – из комнаты в мансарде Готон все равно не услышит слабого крика, – я встала в кровати на колени. Страшный сон не прошел даром: я чувствовала себя неописуемо измученной, потрясенной и подавленной. Среди ужасов жуткого сновидения самым жестоким было, когда умерший близкий человек, любивший меня при жизни, при новой встрече проявил холодное равнодушие. Душа погрузилась в невыразимое отчаяние. Выздоравливать и жить дальше было незачем, и все же безжалостный и высокомерный голос, которым смерть вызывала на поединок с непознанным мраком, казался невыносимым. Начав молиться, я сумела лишь произнести: «Я несчастен и истлеваю с юности; несу ужасы Твои и изнемогаю»[158]158
Пс. 87:16 – Примеч. ред.
[Закрыть].
В этом заключалась истинная правда.
Утром Готон принесла чашку чая и настойчиво посоветовала вызвать доктора, но я отказалась, будучи уверенной, что никто мне не поможет.
Однажды вечером, пребывая в сознании, я встала и, несмотря на дрожь и слабость, оделась. Тишина длинной спальни казалась невыносимой. Отвратительные белые кровати превратились в призраки с огромными, обесцвеченными солнцем головами, с пустыми зияющими глазницами, в которых застыли видения давнего мира и могучего народа. В тот вечер в душе с особой твердостью укрепилось убеждение, что судьба создана из камня, а надежда всего лишь фальшивый идол: слепой, бескровный, с гранитной сердцевиной. Я почувствовала, что посланное Богом испытание приближается к точке кризиса; теперь мне предстоит направить его собственными руками, пусть горячими, слабыми и трясущимися. Дождь лил по-прежнему, продолжал дуть и завывать ветер, хотя и немного милосерднее, чем днем. Наступали сумерки, и их влияние показалось достойным сожаления. Надвигающиеся ночные облака нависали так низко, что напоминали склоненные знамена. Казалось, в этот час Небеса сочувствовали всей земной боли. Тяжесть страшного сна немного отступила; невыносимая мысль об утрате любви и обладания сменилась тенью надежды. Верилось, что надежда прояснится, если удастся вырваться из-под давящей, словно могильная плита, крыши и отправиться за город, в поля, на какой-нибудь невысокий приветливый холм. Укутавшись плащом (это был не бред, потому что мне хватило здравого смысла тепло одеться), я вышла на улицу, и мое внимание привлекли колокола, которые словно звали к вечерне. Я вошла в церковь. Любое служение, любое искреннее духовное переживание, любое обращение к Богу было сейчас таким же желанным, как кусок хлеба для голодающего. Вместе со всеми я преклонила колени на каменном полу. Церковь выглядела древней и величественной: внутреннее убранство в сумраке отсвечивало не позолотой, а пурпурным сиянием витражей.
Верующих собралось немного, а после вечерни половина из них сразу ушли. Скоро выяснилось, что остались лишь те, кто готовился исповедаться. Я не шевелилась. Двери церкви осторожно закрылись; воцарился священный покой, и нас окружила торжественная полутьма. Спустя некоторое время, утомившись в молитве, к исповедальне подошла кающаяся грешница. Я внимательно наблюдала. Она прошептала свое признание, а потом выслушала ответ на исповедь – также произнесенный шепотом, – и вернулась утешенной. За ней отправилась следующая, потом еще одна. Стоявшая на коленях рядом со мной бледная леди произнесла едва слышно:
– Идите вы, я еще не совсем готова.
Не раздумывая, я встала и пошла, уже зная, что скажу: ум осветил намерение словно вспышка молнии. Этот поступок не мог сделать меня еще несчастнее, но мог успокоить.
Священник в исповедальне не поднял глаз, чтобы на меня взглянуть, а лишь спокойно приблизил ухо к моим губам. Возможно, он был хорошим человеком, однако обязанность уже превратилась для него в исполняемую с вялостью рутины формальность. О порядке католической исповеди я не имела ни малейшего понятия, и вместо того, чтобы начать с обычного вступления, произнесла:
– Mon père, je suis Protestante[159]159
Святой отец, я протестантка (фр.).
[Закрыть].
Священник сразу повернулся и пристально посмотрел на меня. Он оказался явно не из местных жителей, чьи лица почти неизменно отличаются выражением подобострастия. По характерным чертам я без труда узнала француза – седого, немолодого, но не лишенного чувства и ума. Он спокойно спросил, почему в таком случае я пришла к нему.
Я ответила, что отчаянно нуждаюсь в совете и утешении. Несколько недель живу в полном одиночестве, тяжело больна, а сознание настолько угнетено тяжестью положения, что может не выдержать и расколоться.
– Идет ли речь о грехе, о преступлении? – встревожился священник.
Я успокоила его и, как могла, кратко изложила суть своих переживаний.
Удивленный и озадаченный, он глубоко задумался, наконец проговорил:
– Вы застали меня врасплох. Никогда прежде не сталкивался ни с чем подобным. Как правило, рутина нам знакома, и мы готовы реагировать, но в данный момент обычный ход исповеди нарушен, и я не чувствую в себе силы дать единственно верный совет.
Разумеется, моментального ответа я не ждала, однако возможность прошептать в сочувственное, человеческое и в то же время посвященное ухо хотя бы часть давно копившейся, застарелой боли, излить ее в сосуд, откуда нет выхода, подействовала благотворно. Я уже почувствовала облегчение и утешение, поэтому спросила погруженного в молчание священника:
– Следует ли мне уйти, святой отец?
– Дочь моя, сейчас вам действительно лучше уйти, – проговорил священник, и во взгляде его светилось сочувствие. – Но поверьте: слова ваши поразили меня. Подобно всему на свете даже исповедь со временем становится привычной и банальной, а вы пришли и излили душу, что случается редко. Был бы рад счесть вашу исповедь свершенной и включить ее в свои молитвы. Будь вы нашей веры, я знал бы, что сказать: столь удрученный ум способен найти успокоение лишь в тишине уединения и чистоте прилежной молитвы. Давно известно, что подобным натурам мир не приносит удовлетворения. Святители побуждали грешников, стремящихся к покаянию подобно вам, облегчить себе путь на небеса с помощью епитимьи, самоотречения и тяжелой плодотворной работы. Здесь лишь слезы утоляют их голод и жажду, служа горьким хлебом и горькой водой. Воздаяние наступит впоследствии. Лично я убежден, что те впечатления, которые вас угнетают, служат посланиями Бога, стремящегося вернуть вас в истинную церковь. Вы рождены для нашей веры; только наша вера способна излечить и помочь. Протестантизм слишком сух, холоден, прозаичен для вас. Чем больше я думаю об этом случае, тем яснее понимаю его необычность. Ни в коем случае не потеряю вас из виду. Сейчас идите, дочь моя, но непременно возвращайтесь.
Я встала, поблагодарила и уже собралась уйти, но он знаком попросил вернуться и сказал негромко:
– Не надо приходить в эту церковь. Вижу, что вы больны, а здесь слишком холодно. Лучше навестите меня дома. – Он назвал адрес. – Завтра в десять утра.
В ответ я молча поклонилась, опустила вуаль, плотнее запахнула плащ и выскользнула на улицу.
Полагаете ли вы, добрый читатель, что я обдумывала возможность нового появления перед достойным священником? Точно так же можно было бы обдумывать, стоит ли по доброй воле войти в вавилонскую печь. Этот священник обладал мощным оружием воздействия: сентиментальной французской добротой, мягкости которой я не могла противостоять. Чуждая некоторым видам привязанности, не нашла в себе сил сопротивляться ее земным проявлениям. Если бы я пришла к святому отцу, он, несомненно, продемонстрировал бы все самое нежное, душевное и трогательное, что существовало в искреннем папском идолопоклонничестве, постарался бы возжечь и раздуть в моей душе рвение к благому труду. Не знаю, чем бы закончилось это посещение. Все мы считаем себя сильными в некоторых отношениях и знаем, что слабы во многих. Вполне вероятно, что если бы в назначенный день и час я пришла в дом десять по рю Маж, то сейчас не писала бы эти еретические строки, а смиренно перебирала четки в келье кармелитского монастыря на бульваре Креси в Виллете. В пожилом благодушном священнике присутствовало что-то от Фенелона[160]160
Фенелон Франсуа (1651–1715) – французский писатель, архиепископ, приверженец идеи просвещенной монархии. – Примеч. ред.
[Закрыть]. Какими бы ни оказались его братья, что бы ни думала я о его церкви и вере (не люблю ни то, ни другое), его самого должна вспомнить с благодарностью. Он проявил доброту, когда я в ней нуждалась, и тем помог. Да благословит его Господь!
Когда я вышла из полумрака церкви, сумерки уже сменились вечером, и на улицах зажглись фонари. Теперь можно было вернуться домой: страстное стремление подышать октябрьским воздухом на невысоком холме за стенами города утратило остроту, смягчилось и превратилось в подвластное разуму желание. Разум сумел его подавить, и я свернула, как мне показалось, в сторону рю Фоссет, однако вскоре обнаружила, что заблудилась и забрела в совершенно незнакомую часть города – в старинный квартал с узкими улочками и живописными, медленно разрушавшимися домами. Слабость не позволяла сосредоточиться, беззаботность мешала задуматься об осторожности. Я растерялась и вскоре запуталась в паутине странных поворотов. Не осмеливаясь обратиться за помощью к прохожим, принялась искать выход из лабиринта, но, как и следовало ожидать, лишь окончательно заблудилась.
Если на закате буря немного утихла, то сейчас стихия решила наверстать упущенное. Подул резкий ветер и принес с собой не только брызги дождя, но и шрапнель града. Я попыталась наклониться навстречу ударам, чтобы спрятать лицо, но порывы не допускали даже столь малого противостояния. Сердце не сдалось в этом конфликте, лишь захотелось обрести крылья, чтобы подняться вместе с ветром, положиться на его силу и умчаться вдаль – туда, куда он пожелает унести. Думая об этом, я промерзла до костей и, внезапно ощутив полное бессилие, попыталась добраться до крыльца величественного здания, однако фронтон и гигантский шпиль погрузились во тьму и исчезли из виду. Вместо того чтобы присесть на ступени, как собиралась, я рухнула в черную пропасть. Больше ничего не помню.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































