Текст книги "Белый шум"
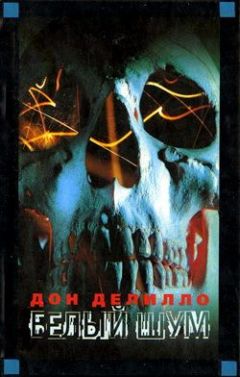
Автор книги: Дон Делилло
Жанр: Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Домой мы ехали молча. Потом, желая побыть в одиночестве, разошлись по своим комнатам. Немного погодя я посмотрел на Стеффи, сидевшую перед телевизором. Она шевелила губами, пытаясь синхронно повторять каждое услышанное слово.
18
Провинциалам свойственно – и приятно – с недоверием относиться к большому городу. Какие бы руководящие принципы ни рождались в средоточии идей и активной культурной деятельности, все они расцениваются как извращение, как тот или иной вид порнографии. Так обстоят дела в маленьких городках.
Но Блэксмит расположен вдали от больших городов. Если нас и удручает предчувствие беды, то совсем не так, как жителей других маленьких городков. Мы не препятствуем ходу истории и ее разлагающему влиянию. Сосредоточься все наше недовольство на чем-то одном, это наверняка был бы телевизор – место, где таится внешний источник мучений, причина страхов и тайных желаний. Безусловно, как символ пагубного влияния Колледж-на-Холме возмущения почти не заслуживает. Это учебное заведение расположено на вечно безмятежном краю городского ландшафта, в более или менее живописном месте, почти на отшибе, в стороне от политических бурь. Обычно подобные места особых подозрений не вызывают.
В легкий снегопад я поехал в аэропорт неподалеку от Айрон-Сити – сравнительно большого города, погрязшего в общественных беспорядках, скорее центра одичания и битого стекла, чем места, где городская жизнь полностью пришла в упадок. Рейсом из Вашингтона, с двумя посадками и одной пересадкой, прилетала Би, моя двенадцатилетняя дочь. Однако в зоне прилета – тесном запыленном обломке третьего мира в состоянии вечной реконструкции – появилась ее мать, Твиди Браунер. Я решил было, что Би умерла, а Твиди приехала сообщить мне об этом лично.
– А где Би?
– Прилетит сегодня, попозже. Потому я и здесь. Хочу побыть с ней немного. Завтра я должна ехать в Бостон. Семейные дела.
– Но где она?
– У своего отца.
– Ее отец – это я, Твиди.
– У Малькольма Ханта, дурачок. У моего мужа.
– Это твой муж, а не ее отец.
– Ты еще любишь меня, Пупсик?
Она звала меня Пупсиком – так же, как ее мать когда-то называла ее отца. Все Браунеры мужского пола звались Пупсиками. Когда мужская линия увяла, подарив миру ряд эстетов и бездарей, так стали нарекать всех мужчин, породнившихся с семьей путем заключения брака – конечно, в разумных пределах. Я был первым из таких мужчин, и всякий раз, когда меня так называли, готовился услышать в голосах новоявленных родственников нотку чрезмерно утонченной иронии. Я полагал, что ирония появляется в голосе, если традиция делается слишком изменчивой. Ирония, гнусавость, сарказм, самопародия и так далее. Насмехаясь над собой, они тем самым наказывали меня. Но при этом они были очень милы, совершенно искренни, даже благодарны мне за то, что я позволяю им вести себя столь несдержанно.
На Твиди были шетландский свитер, юбка из твида, гольфы и дешевые мягкие ботинки. Вокруг нее витал дух протестантской ветхости, слабая аура, в которой боролось за выживание ее бренное тело. Светлая кожа худого лица, глаза слегка навыкате, признаки переутомления и недомогания: мешки под глазами и складки у рта, на виске бьется жилка, вены вздулись на руках и на шее. Просторный свитер обсыпан сигаретным пеплом.
– В третий раз спрашиваю: где она?
– Примерно в Индонезии. Малькольм глубоко законспирирован. Организует коммунистическое возрождение. Часть хитроумного плана по свержению Кастро. Поехали отсюда, Пупсик, пока не собралась толпа детишек милостыню просить.
– Она летит одна?
– Почему нет?
– От Дальнего Востока до Айрон-Сити не так просто добраться.
– Если нужно, Би с любыми трудностями справится. По правде сказать, она хочет писать книги о путешествиях. Хорошо держится на лошади.
Твиди глубоко затянулась и ловко, быстрыми струйками, выпустила дым из носа и изо рта – трюк этот она обычно проделывала, если хотела выразить крайнее недовольство окружающей обстановкой. В аэропорту не было ни баров, ни ресторанов – только буфет с расфасованными бутербродами, где хозяйничал некий тип с сектантскими отметинами на лице. Мы получили багаж Твиди, вышли, сели в машину и поехали через Айрон-Сити, мимо заброшенных заводов, по преимущественно безлюдным проспектам, по городу холмов, редких мощеных улиц, разбросанных тут и там прекрасных старинных домов, праздничных венков в окнах.
– Пупсик, я несчастна.
– Почему?
– Откровенно говоря, я думала, ты будешь вечно меня любить. Мне нужна твоя поддержка. Малькольм почти все время в разъездах.
– Мы разводимся, ты забираешь у меня все деньги, выходишь за состоятельного, элегантного дипломата из хорошей семьи, который тайно засылает агентов в засекреченные и недоступные районы.
– Малькольма всегда тянуло к джунглям.
Мы ехали вдоль железной дороги. В бурьяне валялось множество пенопластовых стаканчиков, выброшенных из окон вагонов или принесенных ветром со станции, расположенной южнее.
– А Дженет в Монтану потянуло, в ашрам, – сказал я.
– Дженет Сейвори? Боже правый, это еще зачем?
– Теперь ее зовут Мать Деви. Заведует хозяйственной деятельностью ашрама. Инвестиции, недвижимость, налоговые убежища. Дженет всегда к этому стремилась. К душевному спокойствию на выгодных условиях.
– У Дженет дивные кости черепа.
– Она талантливая проныра.
– Ты говоришь об этом с такой злобой. Я и не знала, что ты злой, Пупсик.
– Не злой, а глупый.
– Что значит проныра? Она скрытничала так же, как Малькольм?
– Она не говорила мне, сколько зарабатывает. По-моему, она читала мою почту. Сразу после рождения Генриха она втянула меня в сложные инвестиционные махинации с участием целой компании разноязыких людей. Сказала, что обладает информацией.
– Но она просчиталась, и вы потеряли кучу денег.
– Мы нажили кучу денег. Я запутался, угодил в ее сети. Она постоянно плела интриги. Оказалась под угрозой моя уверенность в будущем. Моя надежда на долгую и тихую, небогатую событиями жизнь. Дженет хотела оформить нас в качестве юридического лица. Нам звонили из Лихтенштейна, с Гебрид. Вымышленные места, коварные планы.
– Все это не похоже на ту Дженет Сейвори, с которой я провела восхитительные полчаса. На широкоскулую Дженет с надтреснутым ядовитым голосом.
– Все вы широкоскулые. Все до одной. У каждой дивные кости черепа. Слава богу, хоть есть Бабетта с ее продолговатым полным лицом.
– Неужели тут нигде нельзя культурно поесть? – спросила Твиди. – Должно же где-то быть заведение со скатертями и холодными кусочками масла. Как-то раз мы с Малькольмом пили чай с полковником Каддафи. Обаятельный и безжалостный мужчина, один из немногих наших знакомых террористов, который всей своей жизнью оправдывает свою скандальную репутацию.
Снегопад кончился. Мы ехали через район товарных складов: еще более пустынные улицы, безжизненность и анонимность запечатлевались в памяти как неизбывная тоска по чему-то, давно и безвозвратно утраченному. Унылые кафе, еще одна железнодорожная ветка, товарные вагоны на запасном пути. Твиди непрерывно куриладлинные сигареты, раздраженно пуская во все стороны струйки дыма.
– Боже, Пупсик, мы были хороши вместе.
– В чем хороши?
– Дурачок, ты должен смотреть на меня с нежностью и тоской, со скорбной улыбкой.
– Ты перед сном надевала перчатки.
– И сейчас надеваю.
– Перчатки, наглазники и носки.
– Ты знаешь мои недостатки. Всегда знал. Я крайне чувствительна ко многим вещам.
– К солнцу, воздуху, пище, воде, сексу.
– Эти вещи канцерогенны, все до единой.
– А что за семейные дела в Бостоне?
– Я должна убедить маму в том, что Малькольм не умер. Почему-то она к нему очень привязалась.
– Почему она решила, что он умер?
– Когда Малькольм с головой уходит в конспиративную работу, складывается такое впечатление, будто его никогда и не было. Он не только исчезает в данный период, но и перестает существовать в прошлом. Иногда я спрашиваю себя, действительно ли мужчина, за которого я вышла, – Малькольм Хант, или это совершенно другой человек, сам действующий под чужой личиной. Откровенно говоря, это очень тревожит. Я не знаю, какая часть жизни Малькольма подлинная, а какая – служба в разведке. Надеюсь, Би сможет немного прояснить ситуацию.
От внезапного порыва ветра закачались светофоры на проводах. Главная улица города: ряд магазинов уцененных товаров, места, где обналичивают чеки, оптовые базы. Высокое здание бывшего кинотеатра в мавританском стиле, ныне – что замечательно – мечеть. Бесцветные сооружения под названиями «Терминал-Билдинг», «Консерв-Билдинг», «Коммерц-Билдинг». Как это напоминает классические кадры поздних сожалений.
– Серый день в Айрон-Сити, – сказал я. – Лучше уж, наверно, вернуться в аэропорт.
– Как там Гитлер?
– Отлично. Человек солидный, надежный.
– Ты хорошо выглядишь, Пупсик.
– Но не очень хорошо себя чувствую.
– Ты никогда не чувствовал себя хорошо. Старый Пупсик. Ты всегда был старым Пупсиком. Мы любили друг друга, правда? Обо всем друг другу рассказывали, не забывали о такте и хороших манерах. А Малькольм мне ничего не рассказывает. Что он за человек? Чем занимается?
Она сидела поджав ноги, лицом ко мне, и стряхивала пепел в свои ботинки, оставшиеся на резиновом коврике.
– А правда, чудесно было расти нормальными, здоровыми людьми среди кобыл и меринов, с папой, который носит синие блейзеры и отутюженные серые фланелевые брюки?
– Откуда я знаю?
– Мама стояла, бывало, в увитой зеленью беседке с охапкой срезанных цветов в руках. Просто стояла. Вела себя естественно.
В аэропорту мы ждали – в мареве гипсовой пыли, сваленной в кучи щебенки и торчащей арматуры. За полчаса до ожидаемого прибытия Би через продуваемый насквозь тоннель в зону прилета гуськом потянулись пассажиры другого рейса. Бледные и ошарашенные, сгорбившиеся от усталости, они волокли по полу свою ручную кладь. Вышли двадцать, тридцать, сорок человек – не говоря ни слова, потупившись, не глядя по сторонам. Некоторые прихрамывали, некоторые плакали. Из тоннеля появились новые пассажиры: взрослые с хнычущими детьми, дрожащие старики, священник в черном облачении с перекосившимся воротничком, в одном ботинке. Твиди помогла женщине с двумя маленькими детьми. Я подошел к коренастому малому с пивным животиком, в фуражке почтальона и пуховом жилете, а он посмотрел на меня так, точно я нагло вторгся в его пространственно-временное измерение, незаконно перешел границу. Остановив его и повернув к себе лицом, я спросил, что случилось в полете. Пока мимо гуськом шли люди, он тяжело, утомленно дышал. Потом кивнул, не сводя с меня кроткого взгляда.
В полете отказали три двигателя, и самолет резко потерял высоту – с тридцати четырех до двенадцати тысяч футов. Мили на четыре, то есть. Когда начался этот крутой планирующий спуск, люди принялись вскакивать с мест, они падали, толкались, воспаряли над креслами. Потом пошли нешуточные крики и стоны. Почти тотчас из кабины экипажа по внутренней связи донесся чей-то голос: «Мы падаем с неба! Мы терпим крушение! Мы – сверкающий серебристый лайнер смертников!» Эту вспышку эмоций пассажиры восприняли как свидетельство почти полной потери авторитета, компетентности и присутствия духа; она вызвала новые приступы безутешных рыданий. Из буфетного отсека выкатывались разные предметы, проходы завалило стаканчиками, кухонной посудой, верхней одеждой и пледами. Стюардесса, прижатая крутым снижением к переборке, пыталась отыскать нужное место в справочнике под названием «Руководство по катастрофам». Потом из кабины экипажа послышался другой голос, уже удивительно спокойный и отчетливый, вселивший было в пассажиров смутную надежду, веру в то, что кто-то все же сохранил самообладание: «Рейс два-три-один компании «Америкэн» – для бортового самописца. Теперь мы знаем, каково это на самом деле. Хуже, чем мы себе представляли. На тренажере катастроф в Денвере нас к этому не готовили. Страх наш чист, совершенно свободен от тревог и внешних воздействий, он сродни трансцендентальной медитации. Менее чем через три минуты мы, так сказать, коснемся земли. Наши тела найдут в каком-нибудь окутанном дымом поле, в ужасающих позах смерти. Я люблю тебя, Лэнс». Массовые рыдания на сей раз возобновились с минутной задержкой. Лэнс? Что за люди управляют этим самолетом? В плаче появились нотки горького разочарования.
Пока парень в пуховике рассказывал эту историю, нас обступали пассажиры, выходившие из тоннеля. Никто не произносил ни слова, никто не перебивал, не пытался приукрасить рассказ.
На борту самолета по проходу, по телам и осколкам, ползала стюардесса, велевшая людям в каждом ряду снять обувь, вынуть из карманов острые предметы и сесть в позе эмбриона. В другом конце салона кто-то пытался справиться со спасательным жилетом. Некоторые члены экипажа решили сделать вид, будто считанные секунды остались не до аварии, а до аварийной посадки. В конце концов, различие – всего в одном слове. Не означает ли это, что оба способа прекращения полета практически равноценны? Много ли значит одно-единственное слово? Вопрос в данных обстоятельствах обнадеживающий, если не размышлять о нем слишком долго, а как раз в тот момент времени на размышление не оставалось. Казалось, самая существенная разница между аварией и аварийной посадкой состоит в том, что к аварийной посадке можно сознательно подготовиться. Именно это все и пытались сделать. Весть разнеслась по всему самолету, люди повторяли термин, передавая его по рядам: «Аварийная посадка, аварийная посадка». Они поняли, как легко, прибавив всего одно слово, сохранить контроль над будущим, продлить его – если не в действительности, то хотя бы в сознании. Все похлопали себя по карманам в поисках шариковых ручек и съежились в креслах, приняв позу эмбриона.
Когда рассказчик дошел до этого места, вокруг уже столпилось много народу – не только люди, недавно вынырнувшие из тоннеля, но и те, что выбрались из самолета одними из первых. Вернулись послушать. Еще не готовые разойтись, не готовые вновь обживать свои бренные земные тела, они не спешили расставаться со своим страхом, хотели сохранить его хотя бы на некоторое время, не дать ему рассеяться. Подходили все новые люди, вокруг нас уже толпились почти все пассажиры самолета. Ничего не имея против, они давали парню в фуражке и жилете говорить от их лица. Никто не ставил его рассказ под сомнение, никто не добавлял личных переживаний. Казалось, им рассказывают о том, что произошло с кем-то другим. Все слушали внимательно, даже с любопытством, но в то же время совершенно непредубежденно. Люди доверились ему, позволив рассказать о том, что они сами чувствовали и говорили.
В тот момент снижения, когда по всему самолету зазвучал термин «аварийная посадка» с резко выраженным ударением на втором слове, из-за занавесок в салон второго класса, хватаясь за что попало, взобрались, буквально вскарабкались, пассажиры первого класса, не желавшие первыми удариться о землю. Среди пассажиров, летевших вторым классом, нашлись такие, кто считал, что их надо принудительно вернуть обратно. Мнение выражалось не столько словами, сколько жуткими нечленораздельными звуками, большей частью напоминавшими назойливое мычание насильно откормленных коров. Внезапно снова заработали двигатели. Все наладилось. Мощность, устойчивость, управление. Пассажиры, уже готовые к удару, не сразу уловили новый поток информации. Новые звуки, другая траектория полета, чувство, что сидишь в прочной трубе, а не в какой-нибудь полиуретановой обертке. Загорелся принятый во всем мире знак, запрещающий курение: рука с сигаретой. Появились стюардессы с надушенными салфетками – вытирать кровь и блевотину. Сидевшие в позе эмбриона медленно выпрямились и вяло откинулись на спинки кресел. Четыре мили повального страха. Никто не знал, что сказать. Жить – значит, испытывать обилие ощущений, воспринимать десятки, сотни вещей. Между рядами, профессионально улыбаясь и любезно заводя пустые разговоры с пассажирами, прошел первый помощник командира. Всем своим цветущим видом он излучал уверенность, присущую пилотам больших пассажирских лайнеров. Люди смотрели на него и не понимали, чего они так испугались.
Люди, теснившие друг друга, оттолкнули меня от рассказчика. Собралось уже больше сотни человек – волоком притащили по пыльному полу свои наплечные сумки и складные одежные саквояжи. Едва успев понять, что меня оттеснили почти за пределы слышимости, я увидел рядом Би: ее спокойное маленькое личико белело под копной курчавых волос. Она бросилась ко мне в объятия; от нее несло реактивным выхлопом.
– А где пресса? – спросила она.
– В Айрон-Сити нет прессы.
– Выходит, они зря терпели все эти муки?
Мы разыскали Твиди и направились к машине. На окраине города на дороге образовалась пробка, и нам пришлось долго стоять возле заброшенного литейного завода. Тысяча разбитых окон, разбитые уличные фонари, сгустившиеся сумерки. Би уселась в позе лотоса на заднем сиденье. После путешествия из Сурабайи в Айрон-Сити, через часовые пояса, громадные территории, безбрежные океанские просторы, дни и ночи, набольших и маленьких самолетах, летом и зимой, она выглядела на удивление хорошо отдохнувшей. И вот мы сидим в темноте, дожидаясь, когда отбуксируют заглохшую легковушку или опустится подъемный мост. Би считала, что эти привычные превратности судьбы, связанные в наше время с путешествиями, комментариев не заслуживают. Она сидела и молча слушала, как Твиди объясняет мне, почему родителям не нужно беспокоиться о детях, совершающих подобные перелеты в одиночку. Самые безопасные места для детей и глубоких стариков – самолеты и аэропорты. О них заботятся, им улыбаются, все восхищаются их смелостью и находчивостью. Люди доброжелательно расспрашивают их, предлагают пледы, угощают конфетами.
– Каждая девочка должна иметь возможность полететь за тысячу миль в одиночку, – сказала Твиди, – ради самоуважения и независимости суждений, и при этом взять с собой одежду и туалетные принадлежности по собственному выбору. Чем раньше мы отправляем детей в полет, тем лучше. Примерно так же учат плавать и кататься на коньках. Надо следить, чтобы они начинали с юных лет. Этим достижением Би, среди прочих, я больше всего горжусь. Когда ей было девять, я отправила ее в Бостон на самолете компании «Истерн». И запретила бабушке Браунер встречать ее в аэропорту. Научиться выбираться из аэропорта ничуть не менее важно, чем привыкнуть летать самолетами. Слишком многие родители игнорируют эту стадию развития ребенка. Би уже вполне освоилась с перелетами между побережьями. В десять лет она впервые полетела на гигантском аэробусе, сделала пересадку в аэропорту О'Хэйр, чуть не опоздала на самолет в Лос-Анджелесе. Две недели спустя она улетела на «Конкорде» в Лондон. Там ждал Малькольм с маленькой бутылочкой шампанского.
Впереди пришли в движение стоп-сигналы, вереница машин тронулась.
Не будь механических повреждений, турбулентности и террористических актов, воздушное путешествие со скоростью звука могло бы, по словам Твиди, служить человечеству последним известным прибежищем благородной жизни и цивилизованности.
19
Порой Би приводила нас в смущение. Вероятно, так все гости невольно наказывают услужливых хозяев. Казалось, она всем своим видом излучает раздражающе яркий свет. Мы стали представляться себе кучкой людей, которые совершают необдуманные поступки, избегают принятия решений, бывают то бестолковыми, то эмоционально неустойчивыми, повсюду оставляют мокрые полотенца, никогда не знают, куда задевали самого младшего члена семьи. Вдруг стало мерещиться, что каждый наш поступок нуждается в оправдании. Больше всех робела моя жена. Если Дениза была маленьким комиссаром, пилившим нас для очистки совести, то Би – молчаливым свидетелем, подвергавшим сомнению сам смысл нашей жизни. Я наблюдал за Бабеттой, которая в ужасе уставилась на свои сложенные чашечкой ладони.
Этот щебет издавала всего-навсего батарея отопления.
Би молча презирала остроты, саркастические замечания и прочие семейные штучки. На год старше Денизы, выше ростом, худее, бледнее, она сочетала в себе черты практичной девчонки и эфирного создания. Будто в душе она – не автор книг о путешествиях, кем, по словам ее матери, хотела стать, а просто путешественница, выбравшая более отвлеченный род деятельности – коллекционирование впечатлений с их детальным анализом при полном нежелании что-либо записывать.
Девочка уравновешенная и внимательная, из джунглей она привозила нам в подарок резные поделки. В школу и на уроки танцев ездила на такси, немного говорила по-китайски, а однажды отправила телеграфом деньги оставшейся без средств подруге. Я восхищался ею сдержанно и смущенно, чувствуя при этом некую скрытую угрозу: будто она вовсе не моя дочь, а не полетам развитая и самостоятельная подруга одной из моих дочерей. Неужели Марри был прав? Неужели мы и вправду – хрупкая ячейка общества, окруженная враждебными фактами? Должен ли я поощрять невежество, предрассудки и суеверия, чтобы защищать свою семью от внешнего мира?
В первый день Рождества Би сидела у камина в нашей обычно пустующей гостиной и смотрела на бирюзовое пламя. На ней была хламида цвета хаки – вроде повседневная, но с виду недешевая. Я сидел в кресле с тремя или четырьмя подарками на коленях – ленточки болтались, оберточная бумага разодрана. На полу рядом с креслом лежал мой зачитанный экземпляр «Майн Кампф». Остальные ушли на кухню готовить ужин или поднялись наверх, чтобы в спокойной обстановке как следует рассмотреть свои подарки. По телевизору сказали: «Сложное строение желудка позволяет этому существу питаться исключительно листьями».
– Не нравится мне эта история с мамой, – сказала Би с наигранным страданием в голосе. – Она все время выглядит взвинченной. Ее словно что-то тревожит, но она толком не знает, что именно. Дело, конечно, в Малькольме. У него есть его джунгли. А что есть у мамы? Огромная, просторная кухня с плитой, которую вполне можно поставить в каком-нибудь трехзвездочном ресторане в провинции. Все свои силы она отдает этой кухне, а ради чего? Да и не кухня это вовсе. Это мамина жизнь, ее зрелые годы. Баб такая кухня понравилась бы. Для нее это была бы просто кухня. А для мамы это, похоже, некий странный символ преодоления кризиса, разве что она до сих пор его не преодолела.
– Твоя мама толком не знает, что за человек ее муж.
– Главная проблема не в этом. Главная проблема в том, что мама не знает, кто такая она сама. Малькольм живет в горной стране, питается корой деревьев и змеями. Вот что за человек этот Малькольм. Ему нужны жара и влажность. Получил кучу ученых степеней по международной политике и экономике, а хочет только одного – сидеть на корточках под деревом и смотреть, как туземцы с головы до ног обмазываются грязью. На них забавно смотреть. А что мама делает для забавы?
Черты лица у Би мелкие, за исключением глаз, как бы вмещающих две формы жизни – содержание и его скрытый смысл. Она говорила о способности Бабетты легко управляться с делами: с домашним хозяйством, с детьми, со вселенским потоком повседневности – говорила отчасти моими словами, но под радужками ее глаз, в этих морских глубинах, бурлила вторая жизнь. Что все это значило, чего Би хотела сказать на самом деле, почему казалось, будто она рассчитывает, что я отвечу ей тем же? Ей хотелось общаться этим вторым способом, при помощи зрительных флюидов. Таким образом подтвердились бы ее подозрения, и она бы все разузнала обо мне. Но что за подозрения она затаила и что требовалось разузнать? Я начал волноваться. Когда в доме запахло подгорающими тостами, я попытался расспросить ее о жизни семиклассников.
– На кухне случаем не пожар?
– Это у Стеффи тосты подгорают. Время от времени она этим занимается.
– Я могла бы приготовить блюдо под названием «кимчи».
– Похоже, что-то из твоего корейского периода.
– Это капуста, засоленная с красным перцем и кучей всякой всячины. Жгучая штука. Правда, не знаю, как насчет компонентов. В Вашингтоне их найти нелегко.
– Наверно, нам подадут что-нибудь помимо тостов, – сказал я.
Мягкий упрек обрадовал ее. Больше всего я нравился ей тогда, когда бывал холоден, ироничен и язвителен – врожденная способность, которой я, по ее мнению, лишился в длительном общении с детьми.
По телевизору сказали: «А теперь прикрепим к бабочке маленькие усики».
Два дня спустя, лежа ночью в постели, я услышал голоса, надел халат и спустился посмотреть, что происходит. У двери ванной комнаты стояла Дениза.
– Стеффи опять принимает ванну.
– Уже поздно, – сказал я.
– Она просто сидит в этой грязной воде.
– Это моя грязь, – сказала Стеффи из-за двери.
– Все равно грязь.
– А мне-то что, грязь-то моя!
– Это грязь, – сказала Дениза.
– Моя грязь.
– Грязь есть грязь.
– Если она моя, то нет.
В конце коридора появилась Би в серебристо-красном кимоно. Просто встала, бледная и далекая. В тот миг наша связующая нить неловкости и суетности сделалась как бы осязаемой и растянулась эдакой серией карикатур на тему самосознания. Дениза что-то злобно пробурчала Стеффи в приоткрытую дверь, потом молча пошла к себе в комнату.
Утром я повез Би в аэропорт. По пути в аэропорт я всегда становлюсь угрюмым и молчаливым. Мы прослушали последние известия – исполненные необычайного волнения сообщения о пожарных, вынесших из одной квартиры в Уотертауне загоревшийся диван, сообщения, прочитанные под неумолчный стук телетайпов. Я осознал, что Би внимательно, многозначительно смотрит на меня. Забравшись с ногами на сиденье, она прислонилась спиной к дверце и обхватила руками плотно сдвинутые коленки. Во взгляде сквозила высокомерная жалость. Такому взгляду я доверял не всегда, полагая, что он имеет мало общего с состраданием, любовью и печалью. К тому же я увидел в нем нечто иное. Самую мягкую форму снисходительности, на которую только способна юная особа.
На обратном пути я свернул со скоростной магистрали на дорогу по берегу реки и остановил машину на опушке. Пешком поднялся по крутой тропинке. Там был ветхий частокол с вывеской:
СТАРОЕ КЛАДБИЩЕ
Поселок Блэксмит
Небольшие надгробия покосились, потрескались, обросли пятнами грибка и мха, а имена и даты стали почти неразличимы. Твердая земля подмерзла и местами заледенела. Я пошел между могилами, снял перчатки – потрогать шершавый на ощупь мрамор. Перед одним камнем в землю была вкопана узкая ваза с тремя американскими флажками – единственное свидетельство, что в текущем столетии кто-то побывал здесь до меня. Удалось разобрать некоторые имена – очень звучные, простые, говорящие о строгости нравов. Я остановился и прислушался.
Ни гула дорожного движения, ни шума заводов за рекой. Значит, хоть в этом отношении они поступили правильно – подыскали для кладбища такое место, где не сдает своих позиций тишина. Морозный воздух обжигал. Не двигаясь, я глубоко дышал и ждал, надеясь ощутить тот покой, в котором должен пребывать прах умерших, надеясь узреть тот свет, что озаряет поля этого элегического пейзажа.
Я стоял и слушал. От ветра с ветвей сыпался снег. Из леса налетали порывами снежные вихри. Я поднял воротник и опять надел перчатки. Когда ветер вновь утих, я прошелся среди надгробий, пытаясь разобрать имена и даты, и поправил флажки так, чтобы они свободно развевались. Потом остановился и прислушался.
Сила мертвых в том, что мы считаем, будто они постоянно за нами наблюдают, будто покойники способны незримо присутствовать поблизости. Существует ли энергетический уровень, состоящий исключительно из мертвецов? При этом они, само собой, спят вечным сном в земле, обращаясь в прах. Быть может, в снах своих они видят нас.
Да будет жизнь бесцельна. Пусть сменяют друг друга времена года. Сюжет не должен развиваться по плану.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































