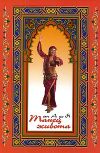Автор книги: Донателла Барбьери
Жанр: Дом и Семья: прочее, Дом и Семья
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
В основном разделе эссе «Человек и искусственная фигура» (Mensch und Kunstfigur, 1925) Шлеммер объединяет марионетку и танцовщика понятием одетой в сценический костюм «искусственной фигуры». Это одно из наиболее сложных эссе, когда-либо написанных о костюме, и оно напрямую связано со скульптурными костюмами для «Триадического балета» (Triadisches Ballett, 1922) Шлеммера. Именно в нем он утверждал необходимость переосмыслить и трансформировать посредством сценического костюма человеческое тело, которое автор текста понимал как сложный образ, совершенство формы, непрестанно меняющейся и преображающейся в сочленениях и звеньях повседневных движений.
За преобразованием тела с помощью искусственных форм, которого Шлеммер добился в «Триадическом балете», стояло сложное понятие «гештальт», зародившееся в начале эпохи романтизма и уходящее корнями в историю немецкой мысли[59]59
Подробно об идеях Шлеммера, связанных с телом, и их воплощении в «Триадическом балете» см.: Trimingham 2011: 84–87.
[Закрыть].
В костюмах для «Триадического балета» сочетаются разные геометрические формы, которые продолжают совершенную математику или геометрию телесного гештальта, раскрываясь в движении и времени, – с точки зрения философии Шлеммера это эталон целостной формы. Однако «Триадический балет» производит еще и непосредственное, телесное впечатление, потрясает и завораживает своей оригинальностью, которая заметна даже по фотографиям и тем более ощущается при просмотре самого спектакля.
Наслаждение кинестетической эмпатией, вызываемой костюмами, позволяет зрителю приблизиться к пониманию «живой динамики тел, вовлеченных в осязаемое действо», по словам Реймонда Уильямса (Counsell 2004: 155). Отчасти становится понятно, почему они вызывают у нас такой сильный отклик.
Когда мы движемся сквозь трехмерные миры этой главной работы Шлеммера в сопровождении музыки, воображение поражает повышенная тактильность в сочетании с визуальной трансформацией «исходной» формы человеческого тела[60]60
Шлеммеру так и не удалось найти к «Триадическому балету» музыку, которая бы его удовлетворяла. См.: Trimingham 2011: 134–136.
[Закрыть].
Шлеммер сам был танцовщиком, хотя и самоучкой, который никогда не занимался классическим балетом; в наше время трудно оценить новизну и индивидуальность профессионального танцовщика-«самоучки». Его представление о теле как совершенной целостной форме было продиктовано собственной проприоцепцией, внутренним ощущением собственного тела в пространстве, а не только визуальным анализом. Он сам выступал во многих из этих костюмов и знал, как они воздействуют на образ тела[61]61
Идея «образа тела» восходит к работам Шлеммера, но продуктивно использовалась в более поздних исследованиях по когнитивистике, см.: Gallagher 2005: Ch. 1.
[Закрыть] артиста. Возможно, Шлеммер был первым художником, который всерьез заинтересовался ощущениями тех, кто участвует в сценическом действе, и попытался добиться художественного синтеза. Стремление к синтезу наряду с попыткой вызвать сильное эмоциональное переживание у зрителей, позже стало неотъемлемой частью перформанса.
Последний пример, который я рассмотрю в этой главе, – работы Роберта Уилсона, чья любовь к порядку и красоте дает нам право назвать его преемником Шлеммера. Я уже предпринимала попытку проследить связи между творчеством Шлеммера и Роберта Уилсона (Trimingham 2011: 58, 69, 121), но в данном случае я хочу сосредоточиться на не менее эффектном – и эффективном – использовании костюмов Уилсоном. В качестве материала я выбрала спектакль «Черный всадник: литье волшебных пуль» (The Black Rider: The Casting of the Magic Bullets), воссозданный в 2004 году в Центре искусств «Барбикан» с Марианной Фейтфулл в главной роли (Пеглег) и музыкой Тома Уэйтса. В основе сюжета – старая романтическая немецкая легенда о человеке, который продал душу дьяволу за двенадцать волшебных пуль, переработанная Уильямом Берроузом (Barbican Centre 2004: 20). Постановка 2004 года выдержана – что весьма уместно – в духе немецкой готики и экспрессионизма, а декорации во многом перекликаются с фильмом «Кабинет доктора Калигари» (Das Cabinet des Dr. Caligari, 1920). В этом фильме, как и в «Черном всаднике», угловые ракурсы создают ощущение дезориентации в пространстве и хаоса; к тому же глазам зрителя открывается явно фантастический мир, населенный тщательно загримированными актерами в необычных костюмах. Когда режиссер отказывается от реалистичного «открыточного» (Schlemmer 1927: 68) изображения, мы попадаем в новую, существующую по иным законам вселенную, которая бьет по нашим чувствам, потрясая и восхищая нас. Роберт Уилсон не меньше, чем Оскар Шлеммер, заботится о структуре и форме. Вспоминаются и представительницы экспрессионистского танца, которые хотели не просто что-то «чувствовать», а показать это. «И давайте будем пользоваться французским аналогом слова „шоу“ [un spectacle] – он куда лучше, потому что акцентирует внимание на красоте и доступности – двух элементах, очень важных для Боба», – говорит Жак Рейно, художник по костюмам, работавший с Уилсоном (Wainwright 2011: 252). Когда костюм является составляющей танца, его материальное содержание способно влиять на то, что выражает танцовщик, – функция костюма заключается не в том, чтобы создать у зрителя впечатление реалистичности. Слияние материального мира сцены с облеченным в костюм телом, глубина замысла, четкость, продуманность композиции роднят экспрессионистский танец, постановки Оскара Шлеммера и оперы Роберта Уилсона.
В «Черном всаднике» Уилсона заметно пристальное внимание к оформлению всех четко структурированных искусственных элементов сцены. Сцена помещена в подчеркнуто условную «рамку» (ее использовал и Шлеммер), декорации и костюмы обыгрывают углы и линии, горизонтали и вертикали, верх и низ, пространство и поверхности, квадраты, прямоугольники, трапеции, масштаб, сжатие и расширение, свет и тьму, а также цвет: красный, белый и черный непрерывно сменяют друг друга, а ярко-синий и оранжевый оживляют лаконичную и сдержанную палитру сцены.
Костюмы для этой постановки, созданные Фридой Пармеджани, отсылают к наследию Экстер: художественное оформление пространства и костюмы идеально дополняют друг друга. «Костюмы в спектакле Роберта Уилсона играют не менее важную роль, чем все остальные элементы» (Reynaud 2011: 248). Режиссер настаивал, что актеры должны быть в костюмах уже на этапе технических репетиций с участием осветительной техники, и, как показывают фотографии Биргит Мёгенбург и Ральфа Бринкхоффа, репетиции «Черного всадника» (версия 2004 года) проводились в костюмах. Костюмы – неотъемлемая часть так называемых абстрактных пространств Уилсона, они выполняют ключевую функцию в процессе согласования всех элементов во время репетиции:
Что касается работы над спектаклем, на первом этапе надо добиться того, чего мы ожидаем от смертного тела; словно в процессе создания совершенного инструмента, упорный труд и концентрация медленно превращают неуклюжие руки и ноги актера в струны и педали, способные воплощать физику света и гармонии. На заключительном этапе актеры, авторы, музыканты и технические работники образуют один прекрасный большой оркестр, точнее, даже нечто большее – другую планету, вроде нашей, но где все одеты гораздо лучше и все элементы тесно связаны друг с другом, так что утрата одного кусочка приводит в негодность весь пазл (Wainwright 2011: 252).
В многообразном «оркестре» «Черного всадника» звучали и песни в готическом стиле, и искаженные голоса, речь, вопли, лай, что придавало стилизованному звуковому оформлению сходство с ранними выступлениями дадаистов: последние декламировали стихи в манере, созвучной экспрессионистским интерьерам[62]62
Хуго Балль увлекался экспрессионистскими идеями в Мюнхене, где жил до отъезда в Цюрих. В Цюрихе он основал «Кабаре Вольтер», где впервые и прозвучали подобные стихи. См.: Trimingham 2011: 187, n. 17.
[Закрыть]. Хотя в художественном оформлении сцены смещены естественные очертания и объемы, Уилсон всегда уравновешивает одну форму другой с точностью, которая доставляет зрителю глубокое интеллектуальное удовлетворение – не меньшее, чем чувственное наслаждение при соприкосновении с этим «лучше одетым» миром. Пеглег (Марианна Фейтфулл) в первой сцене появляется в черном костюме, а позже – в красном: в них совпадает все до мельчайших деталей, однако из-за цвета облик персонажа кардинально меняется. Другие центральные персонажи, например невеста и ее возлюбленный, тоже предстают перед публикой то в черном, то в белом, то в красном. Сами костюмы отличает геометричность форм, их дополняют высокие воротники, а платья – широкие объемные шлейфы, движение которых гармонирует с визуальной эстетикой пространства. В одной сцене Пеглег появляется с потолка, и сначала зрители видят длинные фалды пиджака актрисы, болтающиеся в воздухе, пока она не спустится. В результате создается прекрасный скульптурный образ.
По фотографиям с репетиций видно, что костюмы помогают актерам перевоплотиться в своих персонажей и отработать четкую рельефную хореографию движений, немых картин и групповых сцен.
Уилсон на репетициях никогда не ожидал от актеров, чтобы они свободно «играли» с материальностью костюма и его тактильными особенностями (или ограничениями) в «поисках» собственного метода игры. Костюмы в спектакле Уилсона можно сравнить с изготовленным по мерке точным инструментом: режиссер редко использует подбитые ватой костюмы, искажающие фигуру[63]63
Однако у отвратительного Любовника в «Черном всаднике» подбитый ватой костюм, высокий круглый воротник, толстый слой грима и голова, наполовину покрытая длинными, прямыми, лоснящимися черными волосами, – все в нем напоминает монстра, созданного Франкенштейном. Считается, что замысел «Франкенштейна» возник у Мэри Шелли, когда она услышала легенды из «Книги призраков» (Gespensterbuch), среди которых был и «Вольный стрелок», легший в основу «Черного всадника».
[Закрыть]. Костюм в значительной мере определяет игру актеров, помогая им ходить, стоять и лежать с той точностью движений, какой от них требует режиссер. Уилсон начинает с проведения семинаров, иногда показывая видеозаписи, которые помогают понять суть его требований (Huppert 2011: 80). Он вводит в рабочий процесс формальные структуры и ограничения, в том числе костюм, но при этом, например, рассматривает текст с точки зрения его «музыкальности», ритма и интонаций (Ibid.: 78) и предоставляет актерам возможность, опираясь на собственное видение, подстроиться под его сценический язык (Ibid.: 85; Kurt 2011: 281). Такую же свободу режиссер предоставляет художнику по костюмам при условии, что тот придерживается четких линий и форм и не использует тканей с рисунком (Reynaud 2011: 245–246). По словам Рейно, он занимается костюмами с первых репетиций, но знает, что «освещение всегда окажется сюрпризом» (Ibid.: 248). Поэтому художник по костюмам старается использовать «холодные оттенки» или насыщенные чистые цвета, такие как «белый, красный, фиолетовый», чтобы освещение и костюмы создавали общий эффект. «Решающую роль играют не сами костюмы… а свет, который направляет на них Боб» (Ibid.: 249). В конечном итоге, зачастую после многочасовых репетиций, актеры, костюмы, пространство и освещение сливаются в продуманную сценическую композицию. Как отметила Донателла Барбьери, «Уилсон придал телу нечто от вещи, сделав его смысл более глубоким»[64]64
Из личной беседы, февраль 2013 года.
[Закрыть].
Карл Топфер в книге «Империя экстаза» (Empire of Ecstasy) утверждает, что в XX веке «тело не служило инструментом выражения универсального человеческого самосознания, а изображалось как сумма противоречащих друг другу модусов восприятия» (Toepfer 1997: 5). Не существует собирательного образа «модернистского» тела: они «принадлежат эпохе модерна в той мере, в какой являются источником заметных нарушений восприятия» (Ibid.). Принципы, определяющие функции костюма в сценическом действе, применимы и к конструктивизму, и к экспрессионизму, и к кубизму, и к футуризму, и к дадаизму, и к постмодернизму: коротко говоря, смысл рождается на стыке тела и материальной формы. «Маски и костюмы… регулируют процесс коммуникации. Их можно сравнить с клеточной мембраной, обеспечивающей транспорт веществ между клетками» (Krausse 2014: 42).
Использованное Йоахимом Крауссом слово «мембрана» напоминает о хрупкости человеческой плоти, а в конечном счете и костюма. По иронии судьбы в архивах обычно сохраняются лишь костюмы к постановкам, которые не пользовались успехом (Bowlt 2013b: 52). На сцене костюмы изнашиваются, пропитываются потом, их чинят, снова надевают, перекраивают под новые мерки и, наконец, выбрасывают на свалку, как ненужные тряпки. Костюмы редко живут дольше нескольких лет. Часто до нас доходят только черно-белые, слегка смазанные или выцветшие схематичные снимки, много раз перепечатанные, но если очень посчастливится, мы раздобудем эскиз костюма, который больше скажет внимательному глазу. Проведенные тушью линии и тщательно подобранные цвета на рисунке художника по костюмам не тождественны тому, что видит живописец. Выразителен каждый изгиб тела, красноречива каждая складка. Включив кинетическое воображение, можно ответить на вопрос, остались ли броские костюмы прошлого (например, необычные кубистические костюмы к балету «Парад» (Parade) или фантастические футуристические костюмы) просто эффектным зрелищем, поражающим воображение, но не вызвавшим – и, на мой взгляд, по сей день не вызывающим – у зрителя внутреннего отклика. Художники и актеры сообщают костюму способность воздействовать на эмоции за счет собственной кинетической эмпатии и – как хорошо известно художникам по костюмам – за счет ответной кинетической эмпатии зрителей, непосредственно присутствующих на спектакле.
Глава 6. Другое измерение костюма: общество, культура и история на сцене
Между сценой и повседневностью
Заключительная глава, посвященная сложным взаимоотношениям костюма с историей и модой, завершает анализ способности тела в сценическом костюме к творческому действию, прослеживая, как оно посредством наблюдения и имитации изображает действительность. В отличие от пятой главы, здесь я рассмотрю костюмы, которые существуют – или изображены так, словно бы существуют, – либо в настоящем, либо в воображаемом прошлом, приметой которого они являются. Обращаясь непосредственно к теме костюма как репрезентации одежды, я сосредоточусь на вопросе, с которого и началось это исследование: чем спектакль, исполняемый в костюмах, отличается от повседневного «представления», разыгрываемого в обычной одежде[65]65
Социологи много писали о роли одежды в повседневной жизни. Джоан Энтуисл во всестороннем исследовании «Модное тело» (Entwistle, 2015) перечисляет разные направления мысли в этой области. В частности, она указывает на «Представление себя другим в повседневной жизни» (The Presentation of Self in Everyday Life, 1990) Ирвинга Гофмана, работы Мориса Мерло-Понти, написанные с точки зрения феноменологического подхода, и на исторические интерпретации повседневной жизни как сцены в трудах Ричарда Сеннета.
[Закрыть], и как художники по костюмам учитывают эту разницу? В постановках пьес или операх мы, как правило, видим актеров, чьи костюмы представляют собой вариации на тему повседневной одежды – прошлых эпох или нашего времени. Как предполагаемая «точность» изображения персонажа соотносится с одеждой, которую актеры носят на сцене? И чем обусловлена эта точность, если, как следует из предшествующих глав, костюм – диалогический элемент сценического действа, обладающий собственными, часто сложными и многослойными смыслами? Иными словами, как костюм, учитывая его скрытую или явную искусственность, выражает «правдоподобие», предполагаемое натурализмом, которое господствует в современном западном театре?
Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо понять характер отношений между сценой, модой и историческими источниками, и в качестве материала я рассмотрю отдельные примеры, относящиеся к XIX веку. В то время в театрах получили распространение «старинные» исторические костюмы, пока на смену им не пришли элегантные костюмы «светских комедий» (fashion plays). До Второй мировой войны сценические костюмы находились под влиянием высокой моды. В последующие десятилетия представления об историческом костюме непрерывно менялись – на первый план вышла достоверность. В современных постановках, на которые я буду ссылаться в этой главе, костюм используется не только для раскрытия образов персонажей. За счет его переосмысления в контексте спектакля, который зритель смотрит здесь и сейчас, становится ясным значение театра для общества и способность облеченного одеждой тела порождать смыслы в сценическом пространстве.
Некоторые из рассматриваемых здесь костюмов отсылают к двум проектам на эту тему. Исследование «Встречи в архиве» (The Encounters in the Archive, 2010 год – по настоящее время)[66]66
См.: www.encountersinthearchive.com (по состоянию на 20.04.2016) и Barbieri 2012a; Barbieri 2012b.
[Закрыть] строится на анализе отдельных костюмов из театральных архивов музея Виктории и Альберта, в котором приняли участие ученые и специалисты-практики в области различных дисциплин (Barbieri 2012a; Barbieri 2012b; Barbieri 2013). В рамках проекта «Костюмы для сцены» (Designs for the Performer, 2002–2005)[67]67
Проект «Костюмы для сцены» финансировали Совет по гуманитарным исследованиям (Arts and Humanities Research Board) и Лондонский колледж моды. К некоторым его аспектам мы вернулись в 2015 году, когда под руководством доктора Грир Кроули проект представлял Великобританию на международной выставке «Театральный костюм на рубеже веков. 1990–2015» в Москве. Участие проекта в Пражской квадриеннале в 2003 году сыграло важную роль в награждении Ники Джиллибранд, одного из художников, чьи костюмы были представлены в рамках проекта, золотой медалью за ее работу. Беседы с художниками изначально проводились в форме интервью и мастер-классов в Лондонском колледже моды (2002–2003), а отдельные их работы составили выставку, часть которой была показана на Пражской квадриеннале (2003), в разных городах Великобритании и в лондонском Музее театра, который теперь входит в состав музея Виктории и Альберта.
[Закрыть] состоялись беседы с художниками по костюмам, чьи работы побуждают исследователя к размышлениям. К их творчеству я обращусь в конце этой главы на материале отдельных постановок. Я рассмотрю также диалоги с художниками с точки зрения исторического и тематического анализа, предпринятого в этой и предшествующих главах.
В этой главе я буду отталкиваться от интерпретации «другого измерения» костюма, предложенной специалистом по истории моды и куратором Эми де ла Хей в контексте анализа костюма Лидии Соколовой, в котором балерина исполняла роль Перлузы в спектакле «Голубой экспресс» в труппе Сергея Дягилева (1924, Париж). Этот костюм, созданный Коко Шанель и хранящийся в отделе театра и исполнительских искусств музея Виктории и Альберта, де ла Хей впервые увидела во время работы в проекте «Встречи в архиве» (2010). Исследовательница много писала о творчестве Шанель, но «встреча» с костюмом Перлузы, который де ла Хей знала по фотографиям, стала для нее откровением. Яркий малиново-розовый цвет, «домашняя» вязка, укороченный покрой и «обилие заплат» навели де ла Хей на мысль, что эффект такого костюма по сравнению с обычной одеждой объясняется его «принадлежностью к другому измерению», тем более что он существенно отличался от купальных костюмов, которые Шанель создавала для своих клиенток (цит. по: Barbieri 2012a). Купальные костюмы машинной вязки, предназначенные для заказчиц Шанель, ни расцветкой, ни текстурой не производили такого же впечатления, как костюм Соколовой, в котором балерина, учитывая к тому же его относительную откровенность, чувствовала себя «необычайно смелой» (de la Haye 2011: 49). В эпоху модерна частичная нагота молодых женщин на сцене, облаченных в недавно изобретенную спортивную одежду, уже выглядела достаточно радикально. Как мы видели в четвертой главе, она создавалась по образцу трико цирковых гимнастов. Модница Перлуза ведет полную светских развлечений жизнь, ее образ дополняют облегающая шапочка и резиновые тапочки, так что вряд ли она надела бы на публику заштопанный купальный костюм. Штопка говорит о личных отношениях танцовщицы с костюмом, но вместе с тем рассчитана на выгодное театральное освещение и взгляд на расстоянии: они скрадывают следы заплат и, наоборот, подчеркивают выразительность и эффектность крупной неоднородной вязки и сочных цветов, как и большие жемчужины в ушах балерины.
Быстрота, с какой износился трикотаж, свидетельствует о еще одном прагматическом различии между повседневной одеждой и костюмом. Последний, сливаясь с телом, испытывает на себе избыточное воздействие его физических усилий. Шанель, как известно, наблюдавшая за танцорами из зрительного зала и финансировавшая некоторые из постановок Дягилева, понимала разницу между костюмом и модной одеждой. Модельер использовала трикотаж ручной вязки, который за счет своей расцветки и структуры отражал свет, что выигрышно подчеркнуло телесность танца Соколовой. Точность в создании образа элегантной пловчихи зависела от того, насколько эффектно ее костюм смотрелся на сцене. Костюм встроен в контекст спектакля, где он взаимодействовал с освещением, пластикой, пространством, другими телами и сценографией. Расцветка была выбрана исходя из дизайна переднего занавеса, созданного Пабло Пикассо: на ярко-голубом фоне, взявшись за руки, бежали две мускулистые гигантши, готовые вот-вот выпрыгнуть за портальную арку. Как и их впечатляющие фигуры на полотне, сценические одежды, по законам театра, должны быть утрированными изображениями самих себя, чтобы стать костюмами.
После экспериментов с различными материалами костюм Перлузы, в котором танцевала Соколова, был дополнен облегающей шапочкой и крупными жемчужными серьгами. Так было положено начало новой тенденции в парижской моде, которая позволяет лучше понять отношения между повседневной одеждой и сценой в 1920-е годы. Шанель интуитивно находила подход к телу, понимала масштабы и пропорции театрального пространства, поэтому ей удалось непреднамеренно создать женственный головной убор эпохи модерна: сойдя со сцены, он стал частью модного образа. Мода не впервые черпала вдохновение на сцене. Так, парижский модельер Чарльз Фредерик Ворт (1825–1895), который с 1850-х годов постепенно превратил изготовление одежды на заказ для элиты в международную индустрию высокой моды, был первым дизайнером, занимавшимся одновременно созданием как театральных костюмов, так и повседневных и бальных платьев для знаменитых актрис. В число последних входила Лилли Лэнгтри (1853–1929), которая, возможно, наладила с Вортом творческое и взаимовыгодное сотрудничество. Изучая архив музея Виктории и Альберта, де ла Хей сравнила фотографии Лэнгтри со снимками, на которых изображены неизвестные и пассивные модели, работающие в доме моды Ворта[68]68
Я благодарна Эми де ла Хей за это наблюдение, на которое ссылаюсь в посвященном ей разделе другой своей работы – см.: Barbieri 2012b. Модели, работавшие у Ворта, сфотографированы в профиль или анфас. Эти фотографии хранятся в архиве модного дома Ворта, который также составляет часть собрания музея Виктории и Альберта.
[Закрыть]. Актриса играла на сцене в этих элегантных платьях (ил. 6.1), которые помогали ей раскрыть «характер» и в то же время найти новые выразительные средства. По словам Эми де ла Хей и Валери Мендес, «Жан Ворт, сын кутюрье, понимал, что „актриса со вкусом способна сделать из обычной вещи нечто такое, что не приходило в голову ее создателю“» (de la Haye, Mendes 2014: 125). Мода, пришедшая в театр, способствовала росту и популярности актрис в Европе и Северной Америке и числа женщин среди зрителей. Сара Бернар, Элеонора Дузе, Летти Линд – все эти блистательные актрисы, завоевавшие необыкновенную славу и признание критики, на определенном этапе своей карьеры носили костюмы от Ворта. В конце столетия журнал Vogue[69]69
Vogue был основан в 1892 году в Нью-Йорке. В Великобритании первый выпуск журнала вышел лишь в 1916 году.
[Закрыть] отмечал: «Критики на премьерах внимательно изучают костюмы актрис. Знаменитая актриса знаменита не только своей игрой, но и своими платьями» (Ibid.)[70]70
Vogue. 1896. March 18. P. iv – v.
[Закрыть].
Если танцовщицы рубежа веков, о которых шла речь в четвертой главе (Лои Фуллер, Айседора Дункан, Рут Сен-Дени, Мод Аллан, а позже и Жозефина Бейкер), заняли свое место в истории танца отчасти благодаря тому, что избавились от корсетов и нижних юбок, театральные актрисы умело использовали одежду и наготу, чтобы завоевать популярность у публики. «Небывалые возможности развития новых типов женских образов, которые открыл театр» (Glenn 2000: 10) проявлялись и в том, как актрисы на сцене обыгрывали моду.
Вплоть до Второй мировой войны мода рождалась в театре и распространялась благодаря ему – функция, которую позже унаследовал кинематограф. Актрисы в этой ситуации, несомненно, выигрывали: Соколова чувствовала себя смелее в трикотажном костюме, чем в балетной пачке, а опытные кутюрье создавали для исполнителей эффектные платья первоклассного качества из лучших материалов. В середине 1930-х годов актриса Гертруда Лоренс давала советы в области моды и стиля читательницам Daily Sketch[71]71
Grow up to Glamour with me // Daily Sketch. 1936. July 22. P. 20–21.
[Закрыть]. В постановке Ноэла Кауарда «Частные жизни» (Private Lives, 1930), декорации для которой создавала Глэдис Калтроп, над костюмами Лоренс работал модельер Эдвард Молино. Среди них было белое атласное платье со скошенным вырезом – квинтэссенция ее элегантности. Фотография наряда появилась на страницах журнала Play Pictorial[72]72
Play Pictorial – журнал о театре, в котором публиковались фотоотчеты об отдельных лондонских постановках. В каждом номере присутствовала серия фотографий, на которых актеры были запечатлены в костюмах и на фоне декораций в разные моменты спектакля.
[Закрыть] и нескольких национальных газет, поскольку Лоренс, как и ее знаменитые современницы, играла в известных светских комедиях, крайне популярных тогда на лондонской сцене. В изысканном антураже высшего общества той эпохи утонченные героини в шелковых и атласных платьях двигались с изяществом, казалось, дававшимся им без усилий. Сами же платья зачастую имели неровный, глубокий асимметричный вырез, ставший визитной карточкой Мадлен Вионне. Актриса первой освободила женскую фигуру – ее платья как будто легко скользили по телу, так что никакие застежки не мешали набросить и сбросить их. Модельеры теперь стремились одевать женское тело, а не драпировать платье на нем (Ewing 1986: 102).
Эти примеры приоткрывают характер взаимодействия моды и костюма. Творческое сотрудничество Шанель с театром включало в себя функцию не только художника по костюмам, но и продюсера. Во второй половине XIX века Ворт уже развил коммерческое партнерство между театром и модным домом, а в 1930-е годы Лоренс могла выступать в прессе как эксперт по созданию элегантного женственного образа, соединяя свое повседневное «я» со сценическим, превращая костюм в модную одежду, а модную одежду – в костюм.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?