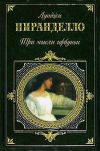Автор книги: Донателла Барбьери
Жанр: Дом и Семья: прочее, Дом и Семья
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Массовое тиражирование женского тела
Пластическая, эстетическая и хореографическая виртуозность, способствовавшая успеху романтического балета, показала и прибыльность представлений, в которых за счет одинаковых костюмов и движений массово тиражировалось женское тело. Так, парижское кабаре «Фоли-Бержер» с 1869 года предлагало своим посетителям возбуждающее зрелище – канкан: танцовщицы, выстроившись в ряд, задирали нижние юбки, с изнанки покрытые рюшами, и энергично взмахивали ногами в оборчатых панталонах с разрезом – даже в дофрейдовские времена можно было усмотреть в этой картине сходство с огромными вульвами из ткани. В этом танце, выставляющем напоказ не в меру разукрашенное нижнее белье, женская сексуальность приравнивалась к вещи, открытой мужскому взгляду и еще более доступной в силу своей множественности. Наряды танцовщиц канкана, красочные и броские, их мелькающие оборки предвосхитили удлинявшие фигуру аксессуары хористок в стиле Эрте. Особенно типичны они были для Лас-Вегаса, но пользовались популярностью и в других местах, и теперь уже не надо было поднимать никакие юбки. Танцовщицы неспешно передвигались на высоких шпильках, а их костюм состоял лишь из нескольких похожих на украшения предметов, прикрывавших отдельные части тела[20]20
В коллекции музея Виктории и Альберта представлены G-стринги середины XX века, ничем не закрепленные по бокам: они держались за счет согнутой проволоки между ног танцовщицы. В их число входят стринги, придуманные Рональдом Коббом для кабаре Eve’s Nightclub. О хористках см.: Dorney 2015.
[Закрыть]. Тонкие, почти обнаженные фигуры, которым придавали дополнительный объем головные уборы с перьями и другие нарочито возбуждающие аксессуары, например огромные веера и боа, одновременно подогревали желание и казались недосягаемыми. Тела танцовщиц, обильно украшенные искусственными бриллиантами, перьями и оборками, выглядели недоступными и вместе с тем необычайно притягательными. В погоне за новизной модель костюма впитывала в себя любые стили, например красочную имитацию обобщенно-стереотипного южноамериканского костюма. Как отмечает Кейт Дорни, анализируя костюмы, которые можно было увидеть в кабаре Eve Nightclub в 1960-е и 1970-е годы (Dorney 2015), для создания комического эффекта могли использоваться даже фигуры шекспировских персонажей, сверхъестественным образом державшиеся на лобке танцовщиц.
Однако примечательно, как с конца XIX века одинаково одетые хористки-танцовщицы стали примером контроля над женским телом и управления им, в результате чего создавалось впечатление тиражируемой, механистической и даже милитаризованной женственности. В книге «Орнамент массы» (Das Ornament der Masse) Зигфрид Кракауэр анализирует выступление ансамбля «Девушки Тиллера» (Tiller Girls) – хореографические номера, где танцовщицы, выстроившись тесными шеренгами, двигались по геометрическим траекториям, были поставлены Джоном Тиллером (1854–1925) с армейской четкостью и вызывали восхищение многих, в том числе и министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса. Военная точность Тиллера простиралась вплоть до требований к костюмам, которые должны были, структурируя фигуры танцовщиц, подчеркивать синхронные движения их ног. Когда зритель видит на сцене группу танцовщиц, он не воспринимает отдельные части тела каждой из них как единое целое, зато их ноги кажутся ему частью целостного механизма, автоматически совершающего синхронные движения. Эти девушки, штамповавшие, как на конвейере, постановки Джона Тиллера, действовали подобно шестеренкам одного механизма, создавая орнамент, который отвечал вкусам масс. Если «ногам девушек Тиллера на фабрике соответствовали руки» (Кракауэр 2008; Kracauer 1995: 79), тем более резонно предположить, что сидевшие в зале заводские рабочие и танцовщицы на сцене неосознанно видели друг в друге «своих» – безликую, однородную массу работников.
Однако Кира Рейли отмечает, что строгость и дисциплина, благодаря которым тела танцовщиц становились такими послушными, в первые десятилетия XX века позволили многим девушкам из рабочих семей впервые трудиться самим. В «становлении нового образа „современной девушки“ они играли роль как орнамента массы, так и активных участниц процесса» (Reilly 2013: 130). Важно, что танцовщицы, которых поглощала машина костюмированных ансамблей, в отличие от балерин и канканисток предшествующего столетия, не были предметом сексуальных домогательств вне сцены. Эти коллективные танцы могли даже выработать у девушек чувство профессиональной солидарности, которая накладывала отпечаток и на изготовление костюмов.
Костюм и кризис сообщества: «Весна священная»
Сергей Дягилев в «Русских балетах», где танцевали профессиональные солисты и солистки дореволюционных Императорских театров, одним из первых отказался от овеществления женского тела, равно как и от одинаковых костюмов и движений, из-за которых танцоры сливались в однородную массу. Он добивался этого средствами художественного оформления, музыки и хореографии. В первый из «Русских сезонов» в Париже (1909) были поставлены еще вполне традиционные «Сильфиды» (Les Sylphides), балет-фантазия, костюмы для которого создавались на основе романтических пачек Лами к постановке 1830-х годов, и «Павильон Армиды» (Le Pavillon d’Armide), в котором мужчины были одеты в пышные короткие юбки, отсылавшие к костюмам danseurs nobles эпохи «старого порядка». Однако для третьего из «Русских сезонов» была поставлена опера Александра Бородина «Князь Игорь». Николай Рерих создал для «Половецких плясок», балетного фрагмента оперы, костюмы, не похожие ни на пачки, ни на юбки-«бочонки» танцоров-мужчин. Все танцоры, мужчины и женщины, были в башмаках или сапогах и рубахах, а их костюмы, образцом для которых служили традиционные, изготовленные вручную ткани и одежда кочевых племен Средней Азии[21]21
Для постановки оперы «Князь Игорь» в рамках «Русских сезонов» Рерих покупал на петербургских рынках узбекские ткани и готовые костюмы. См.: Woodcock 2010: 143.
[Закрыть], были сшиты в технике икат и отличались сочными расцветками (ил. 2.15). Подход к одежде и телу, воплотившийся в этой постановке, в дальнейшем оказал серьезное влияние не только на танец, но и на моду. Подобно Матиссу и Пикассо, которые бросали вызов консервативной буржуазной эстетике, ориентируясь на безыскусность африканской маски, Рерих сделал акцент на изготовленных вручную азиатских тканях допромышленной эпохи. Они производили яркое впечатление и в то же время олицетворяли нечто «экзотическое».
Джульет Беллоу показала, что «театр играл ведущую роль в эстетике того времени» (Bellow 2013: 69). В 1913 году Дягилев и создатели «Русских балетов» проявили прозорливость, в «Весне священной», впервые поставленной в Париже за год до начала Первой мировой войны, обратившись к теме человеческих жертвоприношений[22]22
См.: Eksteins 1989.
[Закрыть]. Новаторская музыка и хореография балета, как известно, вызвали скандал в Театре Елисейских полей, где публика разделилась на два враждующих лагеря: буржуа, шокированных совершенно непохожим на балет действом, и любителями авангардного искусства, жаждавшими революционной эстетики, воплощенной в этом танце. Музыка Стравинского, экспериментировавшего с ритмом, диссонансом и звучанием ударных, сочеталась с не менее экспериментальной и выразительной хореографией Нижинского. Сюжет строится вокруг племенного сообщества и принесения в жертву Избранной, которая должна плясать, пока не упадет замертво, чтобы обеспечить хороший урожай и спасти племя. Николай Рерих, увлеченно изучавший культуру и быт языческой Руси и в своих работах выражавший протест против индустриализации, создал славянские костюмы на основе традиционной крестьянской одежды, которая в действительности относилась к началу XVIII века (Bowlt 2013a: 375). Подпоясанные льняные сорочки были расшиты – красными и золотыми нитями по белому – крупными узорами в фольклорном стиле; их дополняли парики с длинными косами, онучи и лапти (ил. 2.16). В отличие от подчеркнуто необработанной музыки, созданные Рерихом костюмы отражали его видение воображаемой славянской Аркадии, а не пространства суровой борьбы, для победы в которой нужна человеческая жертва. Однако их красочность могла отчасти облегчить восприятие эстетически неприемлемых для публики музыки и хореографии; прямые T-образные силуэты костюмов, доходивших мужчинам до колена, а женщинам – до икры, смягчали движения танцоров. Экспериментальные костюмы, олицетворяющие племенную соборность и отсылающие к ткацкому мастерству традиционных сельских общин, как и хореография «Весны священной», не вписывались в канон классического балета, но несколько смягчали общее впечатление. Стремление изобразить «примитивное» общество привело не просто к отказу от балетных пачек. В эскизах Рерих подчеркнул значимость костюма в ансамбле, в групповом танце, где он позволяет нарисовать картину социальной среды и ее внутренних конфликтов, – костюм отчасти помогает передать кризисное состояние сообщества. «Весна священная» по-прежнему ставится на сцене чаще других балетов эпохи модерна, привлекая знаменитых дизайнеров и хореографов.
Постановка Кеннета Макмиллана в Королевской опере (1962) до сих пор остается в репертуаре театра. Она явно отсылала к искусству аборигенов Австралии, переосмысляя «Весну священную» в другом культурном контексте. Над костюмами к ней работал Сидней Нолан. В конце 1940-х годов Нолан, австралийский художник, отправился на Северную территорию, где на протяжении нескольких лет тесно общался с аборигенами. – Вопреки установкам западных колонистов, которые, присваивая землю, навязывали ей убежденность в собственном культурном превосходстве[23]23
См.: Poignant 2004, особенно страницу 57, где автор кратко обрисовывает истоки колониальной мысли, начало которой положил в 1610 году Джон Локк.
[Закрыть] (Poignant 2004: 57), художник ставил культурную самобытность аборигенов выше всех остальных культур (Wilson 2007: 4). В созданных Ноланом костюмах прослеживается параллель между разрисованными телами туземцев и наскальными рисунками, наносившимися разными частями руки; они олицетворяли физическую общность с землей, выраженную в ритуале. На стенах доисторических пещер хребта Карнарвон отчетливо видны отпечатки рук, выстроенные в регулярный узор, воплощающий связь человеческих тел в коллективном произведении искусства, которое создавало несколько поколений общины (Dobrez 2013; Dobrez 2014). Эти изображения и вдохновили Нолана. Все тело танцоров закрывали трико, кисти рук были окрашены в белый цвет, сочетающийся с оттенками оранжевого и красной охры, что символизировало единство сообщества. Телесность «земляных» мет, нанесенных без помощи кисти, перекликалась с вытянутыми руками танцоров, средоточием их движений, а сами движения, как и повторяющийся рисунок на их костюмах, указывали на взаимосвязи между людьми. Смысл изображений в пещерах хребта Карнарвон отражает культурную, социальную и географическую специфику конкретного сообщества. Дизайнер и художник, сознающий социальную самобытность рисунков, «заимствовал» их и поместил в контекст «Весны священной», не нарушая целостности – и они преобразили тела танцоров, превратившись в динамичные, понятные на телесном уровне жесты, которые физически и визуально выражают связи между отдельными людьми, землей и сообществом. Кроме того, Нолан и Макмиллан заявили о своих ценностных ориентирах, подчеркнув связь такого художественного решения с культурой бывшей колонии, и дали понять, насколько культура и искусство австралийских аборигенов сложны и в то же время хрупки.
Нолан стремился показать культуру «другого» (Wilson 2007: 3) – аборигенов Австралии, которых в начале 1960-х все еще воспринимали как маргинальное сообщество без права голоса. Пина Бауш в своей интерпретации «Весны священной» (1975), входящей в постоянный репертуар «Танцтеатра» в Вуппертале, подчеркивает гендерную нетерпимость племенных обычаев и жестокость по отношению к женщинам, которые оказываются их жертвами. В качестве вещественного символа человеческой жертвы выступает красное платье-комбинация: сначала оно ассоциируется со страстью, но постепенно внушает женщинам ужас, потому что становится ясно, что в жертву предназначена та, кто его наденет. Рольф Борцик создал минималистичные костюмы, традиционно отражающие разницу между полами и по-разному акцентирующие наготу. Черные брюки оттеняют силу, заключенную в мускулистых обнаженных торсах и руках мужчин, которые вместе представляют собой сплоченную группу, сосредоточенную и зловещую. Полупрозрачные платья-комбинации телесного цвета длиной до икр, повторяющие контуры фигуры и чуткие к каждому движению, передают тревогу женщин и уязвимость их проступающего сквозь ткань тела. Когда они танцуют до полного изнеможения, словно бы подчиняясь какой-то неведомой силе, земля, рассыпанная на полу, пачкает костюмы, смешиваясь с потом. Благодаря осязаемой материальности тела и костюмов в примитивном, покрытом грязью пространстве зрители физически переживают происходящее, видя, как тела и одежда тяжело дышащих, мокрых от пота танцоров меняются у них на глазах. Во время предсмертного танца, направляющего движения Избранной, ее грудь обнажается, подчеркивая ее женскую природу как жертвы мужского ритуального насилия с молчаливого согласия всего сообщества, которое неподвижно наблюдает за ее пляской. Судя по рецензиям, посвященным постановке Бауш за последние десятилетия, она почти неизбежно производит глубокое впечатление на сидящий в зале альтернативный «хор». Кроме того, зрители могут задуматься, так ли неминуем исход этого гендерно окрашенного ритуала, соотнести его с другими примерами принесения женщины в жертву, которое часто можно увидеть на сцене, и задаться вопросом, что говорит эта широко распространенная практика о породившем ее патриархате.
Ирландский хореограф Майкл Киган-Долан переосмыслил неизбежность восприятия женщины как жертвы: в его версии «Весны священной» Избранная остается стоять посреди сцены в нижнем белье, а хор мужчин в цветастых платьях падает на землю вокруг нее. Над костюмами для этой радикально новаторской постановки работала Рэй Смит, а премьера состоялась в 2009 году; в спектакле задействованы танцоры Fabulous Beast Dance Theatre, а действие, судя по костюмам, перенесено в ирландскую деревню. По словам Ифы Макграт, подобные постановки, наделяя отдельных людей и группы способностью к активным действиям, свободой и вкладывая в их образы новые смыслы, «влияют на все последующие сюжеты, построенные по такой же модели, давая понять, что с угнетением всегда соседствует возможность действия» (McGrath 2011: 170). Макграт приводит слова Киган-Долана, рассказавшего, какое впечатление на него произвела гибель Энн Ловетт. В 1984 году женщина умерла у подножия статуи Мадонны в Гранарде, графство Лонгфорд, почти сразу же после родов. Из-за табу, связанных с беременностью вне брака, которые на тот момент существовали в Ирландии, она не могла попросить никого о помощи. Майкл Киган-Долан, современник Ловетт, по-прежнему живет неподалеку от тех мест. Постановки, в которых хореограф по-новому трактует сюжеты балетов, – в том числе «Жизели», – вкладывая в них актуальный современный смысл, гастролируют по всему миру и удостоились высоких оценок критики. Киган-Долан отождествляет Ловетт с Избранной. Героиня «Весны священной» выживает в его спектакле, поднимающем вопрос об ответственности за угнетение женщин посредством закона и религии, которое во многих отношениях продолжается до сих пор.
В своей постановке Киган-Долан делает акцент на понятии пола и гендерном конфликте. В начале спектакля все танцоры одеты в традиционную для своего пола одежду: женщины – в похожие летние платья с цветочным орнаментом, мужчины – в фермерские костюмы темных тонов. Они несут картонные коробки, из которых затем достают огромные, натуралистичные звериные маски: мужчины – маски угрожающего вида гончих, а женщины – испуганных зайцев; таким образом Киган-Долан еще раз подчеркивает границу между полами и одновременно обращается к теме животного начала, которая присутствует в «Весне священной». Начинается страшная охота, во время которой гончие преследуют своих жертв и срывают с них одежду, оставляя в одном нижнем белье. В кульминационный момент обряда, который совершает община, Избранная приносит длинную пеструю перекрученную веревку, которая, разворачиваясь, оказывается несколькими связанными вместе цветастыми платьями. Каждый из мужчин берет себе по платью, раздевается догола и, аккуратно сложив снятые с себя вещи, надевает его. В заключительной сцене на ногах остается только Избранная, а все остальные танцоры в пестрой одежде распростерты на полу вокруг нее, и «земля словно бы усыпана цветами» в этом, по словам Киган-Долана, «пронизанном оптимизмом финале» (цит. по: McGrath 2011: 163). За счет того, что все мужчины в спектакле переодеваются в платья, представления о поле вывернуты наизнанку, а суть ритуала состоит в осознании сообществом на сцене и обществом в целом несостоятельности неизменных, раз и навсегда сформулированных суждений о гендере и сексуальности, которые, содействуя механизму контроля и угнетения, неминуемо приведут к гибели новых Энн Ловетт и их младенцев.
Подобно древнегреческим хорам, бывшим рупором дискуссий на общественные и политические темы, «Весна священная», созданная накануне Первой мировой войны, позволила танцорам средствами хореографии и костюма коснуться культурных, социальных и политических проблем. Хореографы и художники, обращаясь к этому балету, затрагивали острые вопросы, связанные с индустриализацией и разобщенностью (Рерих/Нижинский), колониализмом, утратой единства с землей и культурных традиций (Нолан/Макмиллан), а также угнетением женщин и четким противопоставлением мужского пола женскому, которое выливается в отсутствие равноправия, – на последней теме акцент сделан как в трактовке Бауш/Борцик, так и в версии Киган-Долан/Смит. Киган-Долан узнаваемо воссоздает на сцене собственную социальную среду – она может быть и нашей – и привлекает внимание к сложной природе гендера, показывая, какую роль в процессе контроля и подавления играет страх. Особенно ярко этот образ воплощают маски гончих и сцена охоты. Работа каждой из танцевальных трупп отвечает как аристотелевскому, так и платоновскому пониманию хора, поскольку танцоры на сцене выступают и как персонаж, и как активный субъект построения общества, причем костюмы подчеркивают и укрепляют связь между сценическим миром и публикой.
Глава 3. Гротескный костюм: комизм и конфликтность «другого» тела
Что значит «другое»?
В этой главе я рассматриваю костюм с точки зрения «другого», той части личности, которую принято подавлять или игнорировать. Речь пойдет прежде всего о том, как в комическом действе броская внешняя оболочка личности актера и «инаковость» его костюма воплощают политическую установку. В контексте разговора о способности костюма выявлять сложность и неоднозначность человеческой натуры я буду опираться на понятие гротеска в трактовке Михаила Бахтина. Ученый сформулировал свою концепцию, исследуя народную культуру раннего Нового времени, которую он охарактеризовал как карнавальную. В работе «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» (1965, на английский язык переведена в 1984 году) Бахтин анализирует главным образом телесный аспект сценического действа, прослеживая связь между карнавальным смехом и процессом обновления, которое происходит через хаос, а иногда и развенчание. Карнавализация, которую Бахтин рассматривает на материале творчества Франсуа Рабле (1494–1553), уходит корнями в публичные действа средневековой Европы, где демонстрировались представления с использованием гротескных костюмов. Примеры таких представлений приведены в этой главе. Символ карнавала – шут в пестром костюме и похожем на поникшую корону колпаке, громко заявляющий о своем присутствии на городской площади. Карнавальные формы, по Бахтину, произрастают из стремления народной культуры к обновлению, которое, переворачивая социальную иерархию и отвергая эстетические нормы, наделяет властью угнетенных, компенсирует, хотя бы на некоторое время, давление церкви и государства. Карнавал творит «перевернутый мир», низвергая с трона королей и коронуя шутов, облекая тело в гротескный костюм, чтобы дать волю смеху, направленному против авторитета.
Лежащий в основе карнавализации механизм комического перевертывания прослеживается в эскизах Даниэля Рабеля к костюмам, предназначенным не для карнавала, а, как это ни парадоксально, для ближайших придворных Людовика XIII, участвовавших в балете «Серьезность и гротеск» (Ballet du Sérieux et du Grotesque, 1627). К XVII веку уличные карнавалы проникли в придворный балет – так появился «гротескный танец», danse grotesque, в противоположность «благородному танцу» (danse noble), о котором речь шла в предыдущей главе. Эскизы Рабеля передают выразительность гротескного костюма. Искажая контуры тела, он подчеркивает человеческие пороки и вбирает в себя визуальные эффекты, предназначенные для уличных представлений, которыми сопровождались праздники дураков и другие карнавальные народные действа предшествующих пяти столетий. Балет «Серьезность и гротеск» был поставлен не в Лувре, королевской резиденции, а – в парижской ратуше (Отель-де-Виль) – второй раз за всю историю французского придворного балета[24]24
Это был второй придворный балет – после «Великого бала богатой вдовушки из Бильбао» (Ballet Royal du Grand Bal de la Douairiere de Billebahaut, 1626; ил. 3.2), – поставленный в парижской ратуше. Подробнее об этом балете и о взаимоотношениях двора и парижской буржуазии в первой половине XVI века см.: McGowan 2001.
[Закрыть]. Среди приглашенных зрителей были буржуа, которые увидели на сцене пародии на самих себя, разыгранные придворными и профессиональными актерами. Например, персонаж, олицетворяющий серьезность (Le Sérieux), и его свита вместе с группой персонажей, которые изображали «парижскую буржуазию», пускались в рассуждения о социальной иерархии, а «серьезную физиономию» Серьезного, одетого в опрятный накрахмаленный костюм (ил. 3.1а), «украшали огромные обвисшие усы» (McGowan 2001: 115). С помощью костюма высмеивались и музыканты с ватными животами и горбами, готовые вот-вот превратиться в собственные инструменты (ил. 3.1б). Как поясняет Маргарет Макгоуэн, стражник, охраняющий клоуна Гротеска (Grotesque), был забинтован с ног до головы и не мог шевельнуться (ил. 3.1в): народный праздник лишил его способности к действию, и в то же время карнавальный костюм служил ему средством высмеять сам карнавал. Непригодность стражника к военным маневрам наглядно демонстрировал лишний меч, болтавшийся у него за спиной, и заимствованный из danse noble шлем с плюмажем, которым увенчана его голова. Если костюмы и не отнимали у актеров способности двигаться, эти гротескные одеяния все равно могли направлять их движения и определять восприятие ими пространства. Гигантская голова на маленьких ножках спотыкалась в своем накрахмаленном воротнике и высокой шляпе, какую носили представители свободных профессий (ил. 3.1 г), а «камзол без головы» (ил. 3.2), вероятно, плелся позади остальных, стараясь не задевать за дверные косяки и канделябры. Оба этих карикатурных костюма восходят к традиционным «народным шуткам», заимствованным из уличных карнавалов того времени или более раннего периода (Astington 2001: 101). В балете «Серьезность и гротеск» они осмеивали самодовольство и одержимость модой, которые придворные приписывали буржуазии, с помощью костюма утрируя эти предполагаемые пороки, чтобы унизить ее. Неправдоподобные костюмы народного карнавала доставляли участникам представления удовольствие, будучи полной противоположностью замысловатых и туманных аллегорий, о которых речь шла в предыдущей главе. Не исключая из своего общества тех, кого они считали ниже себя, придворные могли, прибегнув к пародийным костюмам, смеяться им в лицо.
Эскизы Рабеля для балета «Серьезность и гротеск» позволяют проследить механизм карнавализации костюма. Однако если, по Бахтину, гротескные комедийные формы родились как реакция угнетенных на собственное бесправие, почему двор использовал их, чтобы высмеивать средний класс? Утрачивая свою антиавторитарную суть, эти костюмы меняют свой смысл, помогая аристократии утвердиться в своем превосходстве[25]25
О концепции Бахтина применительно к танцу и о связях карнавала с придворным балетом см. также: Franko 2015.
[Закрыть]. Кроме того, применение подобной стратегии может указывать и на тайные опасения относительно несоразмерно слабого политического влияния, каким обладала элита. Возможно, придворные старались избавиться от собственных страхов, вызванных угрозой усиления среднего класса, представителей которого в придворных спектаклях отличала повседневная городская одежда, пусть непропорциональная и карикатурная.
К гротеску часто прибегают для выражения страхов в комической форме: если противостоять им и даже облекаться в них, они ведут к обновлению. Представленные в этой главе костюмы, комическое воплощение «другого», в разных обстоятельствах позволили выйти наружу опасениям, которые без них могли бы остаться в подсознании. Между телом и костюмом, обнажающим «театральность театра», возникает сложная многоуровневая игра сокрытия и разоблачения. Благодаря комедийному гротеску, обнаруживающему свое устройство и обретающему материальную форму в костюме, зритель видит личность в состоянии конфликта. Этот конфликт, по словам Бахтина, обнаруживает себя в протечках, щелях, набуханиях, выпуклостях, отверстиях и искажениях, которые претерпевают разные слои смысла на более буквальном уровне материальных слоев одежды, взаимодействующей с телом актера (см. об этом: Granata 2013). Вместе гротескные тела, каждое из которых конфликтует с самим собой, комически разоблачают друг друга.
Анализ гротескного костюма следует начать с древней аттической комедии, например Аристофана (около 446–386 годов до н. э.), где для искажения пропорций тела использовались подкладываемые под одежду подушечки и маски, накладные груди и съемные гениталии. Затем я рассмотрю феномен «диких людей» в Европе, из первобытных лесов перешедших в ежегодные деревенские праздники, связанные со сбором урожая. С распространением христианства «дикие люди» превратились в чертей, одетых в звериные шкуры, и стали воплощением «другого» в мираклях. В конце XVI века, когда появились первые комедии дель арте, физические черты средневековых бесов сосредоточились в образе Арлекина, а два столетия спустя Джозеф Гримальди в роли клоуна Джоя вытеснил Арлекина как главного персонажа арлекинады и с помощью нового типа костюма сформировал образ викторианского клоуна. Наконец, речь пойдет о XX веке, когда на весь мир прославился созданный Чарли Чаплином образ бродяги, наряду с которым будут рассмотрены спектакли «В ожидании Годо» (Waiting for Godot) Сэмюэла Беккета и «Король Убю» (Ubu Roi) Альфреда Жарри. Постановка последней пьесы, предвосхитившей театр абсурда, вызвала скандал в 1896 году, а в таллинском театре NO99 (Theatre NO99) пьесу ставили несколько раз. Абсурдистские, футуристические костюмы, носившие на себе отпечаток переменчивости, изначально присущей образу Арлекина, в только что получившей независимость Эстонии придавали фигурам мятежный, анархистский облик. Такая трактовка гротескного костюма неизбежно выявляла проницаемость границы между сценой и улицей, а в конечном счете – между актером и публикой. Перефразируя Бахтина, можно сказать, что человек, переживая обновление благодаря переодеванию, растворяется в общем действе (Бахтин 1990). Следовательно, действо, разыгранное средствами костюма и смеха, позволяет зрителям отождествить себя с человеческой природой персонажа, не знающей границ, и пережить временное обновление.