Текст книги "Война и право после 1945 г."
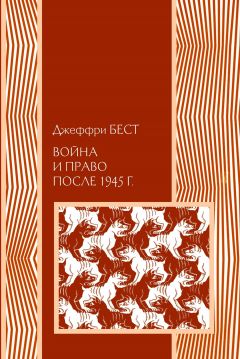
Автор книги: Джеффри Бест
Жанр: Юриспруденция и право, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Вторая мировая война, если рассматривать ее как эпизод в истории права войны, проходила в точности по тому образцу, который установился в прежние века. Основные принципы ограничения и избирательности во имя человечности неплохо соблюдались, когда у людей имелись на то воля и пространство возможностей. Соблюдение ужималось до нуля, когда воли и пространства не хватало.
Под «пространством» я подразумеваю не более чем отсутствие чрезвычайных затруднений и стимулов (психологических, технических или связанных с обстоятельствами) к тому, чтобы обойти или нарушить эти принципы ради того, чтобы добиться победы или избежать поражения. Пространство в этом смысле в избытке имелось во время «войны в пустыне» 1940–1942 гг., незначительной по масштабу, но стратегически очень важной. Военачальники стран Оси на таком удалении от родины и в такой обстановке были вполне свободны от вмешательства идеологии, а их начальник Роммель по своему складу был далек от типичного наци и пользовался репутацией человека, исключительно приверженного старомодным профессиональным добродетелям чести и рыцарства. Там не применялись вызывающие ужас новые виды оружия и методы ведения войны, которые могли бы осложнить ситуацию, а самое традиционное из всех привходящих осложнений – гражданское население – блистательно отсутствовало.
На противоположном полюсе находилась война в европейской части СССР и война с Японией в Тихом океане. В первом случае ситуация характеризовалась колоссальным гражданским населением и русским климатом; технологическое развитие безостановочно производило постоянно совершенствующиеся новые методы массового убийства; идеология правила бал и злобно требовала своего; ни одна из сторон не видела смысла в следовании принципу взаимности. В общем случае степень свободы, предоставляемая Исполнительному комитету Красного Креста для того, чтобы он мог выполнять Женевские конвенции и даже в случае необходимости по собственной инициативе выходить за их рамки, может служить неплохим тестом на относительное соблюдение приличий сторонами в вооруженном конфликте. В данном же случае он оказался практически исключенным из конфликта и был бессилен что-либо сделать. Война между японцами и «белыми» империями была по несколько иным причинам почти столь же ужасной, и Красный Крест точно так же был лишен всякой возможности действовать. Радикально новые виды вооружения и методы ведения войны к 1945 г. сделали возможными такие разрушительные бомбежки городов, каких Европа никогда ранее не видела. Гражданское население опять было безнадежно втянуто в войну, и для него все кончалось не совсем уж плохо лишь в той мере, в какой не проводилась политика намеренного его истребления. Идеология в форме японской военной этики запрещала сдаваться и призывала всецело презирать сдававшихся врагов, усиливалась дегуманизацией и взаимным оскорбительным отношением с обеих сторон.
Война между европейскими странами Оси и Объединенными Нациями (как они стали называть себя в 1942 г.), главным образом в Западной Европе и прилежащих к европейскому континенту морях и океанах, особенно ярко проиллюстрировала закон сохранения сильных сторон войны при усилении ее слабых сторон: ее неизбежную уязвимость перед темными страстями и вожделениями комбатантов, распаленных войной во всей ее тотальности и абсолютности. Религиозная, культурная и (в меньшей степени) расовая близость делала возможным сохранение некоторых остатков благородства и обычных человеческих чувств. Запрет боевого применения химического оружия не нарушался, хотя, следует признать, больше из трезвого расчета последствий, чем ради соблюдения принципа. Эмблема Красного Креста и белый флаг сохраняли некоторый авторитет. Несмотря на то что какая-то неизвестная и по сути не поддающаяся вычислению часть людей, готовых сдаться в плен, была убита, военнопленных было много, и с ними обращались в целом не так уж плохо. ИККК сумел многое сделать в рамках Женевских конвенций, система держав-покровительниц продолжала в определенной степени существовать. Нейтральные страны, расположенные в непосредственной близости от зон военных действий, облегчали оказание гуманитарной помощи пострадавшим настолько, насколько это позволяли воюющие стороны. Однако позволялось немногое: главенствующим в их соображениях было недоверие к врагу и беспощадное желание усиливать на него давление – и это давление было скорее чрезмерным, чем недостаточным. Гражданское население в оккупированных странах и в странах, на территории которых происходили боевые действия, становилось жертвой войны не в меньшей степени, чем во вражеских. Будучи международной и соответственно подпадающей под действие международного права, война во многих местах представляла собой также гражданский конфликт, технически выходящий за рамки этого права, и обычные ужасы такого конфликта усиливались odium ideologicum[51]51
Идеологической ненавистью (лат.). – Прим. перев.
[Закрыть]. Гестапо и тому подобные организации, с одной стороны, и НКВД с компанией – с другой, вносили свою долю невообразимых ужасов (невообразимых, впрочем, лишь поначалу: многие государства быстро становились адептами этих дьявольских наук).
Технологический соблазн или технологическая тирания – не знаю, какое из этих выражений лучше характеризует суть дела, – сила, которую дает техника для того, чтобы обойти правовой принцип и даже полностью сломать его ради достижения военного преимущества, или, если того потребует военная необходимость, можно особенно ярко проиллюстрировать примером использования военной авиации, в которой (даже если не рассматривать появление ядерного оружия) материально-техническое развитие было наиболее впечатляющим. Каждые ВВС, имеющие крупные бомбардировочные силы, по мере приобретения соответствующих средств и обеспечения себя соответствующими предлогами, проводили операции в диапазоне от bona fide[52]52
Добросовестный (лат.). – Прим. перев.
[Закрыть] – прицельной бомбардировки военных объектов в зоне смешанных военных и гражданских объектов до mala fide[53]53
Недобросовестный, злонамеренный (лат.). – Прим. перев.
[Закрыть] – намеренной бомбежки гражданского населения. В число этих средств к концу войны стали входить и первые в истории баллистические ракеты. Каждая армия, насколько и когда позволяли обстоятельства, вызывала свою авиацию для тактической поддержки боевых действий с воздуха, и эта поддержка становилась все более разрушительной и смертоносной пропорционально доступным средствам. К концу войны размах бомбардировок нередко определялся необходимостью занять делом боевые экипажи, а также желанием властителей воздуха продемонстрировать мощь своих сил во всей красе. Наземные войска, со своей стороны, все больше проникались идеей, нередко оказывавшейся ложной (как, например, в битве под Монте-Кассино в Италии), что оборонительные позиции врага непременно ослабнут, если их засыпать бомбами, при этом выпуская из внимания, что мирное население также будет засыпано бомбами (как это было во время битвы при Кане во Франции). Новый случайный элемент неизбирательности появился в связи с неспособностью во многих случаях низко и быстро летающих пилотов бороться с искушением открыть огонь по поездам, автотранспорту, судам, скоплениям людей и т. д., когда трудно было разобрать или точно понять, в кого или во что именно они целятся.
Война в воздухе показала четко, как на хорошем рентгеновском снимке, чтó же произошло с классическим правом войны, когда оно подверглось уничтожающим ударам тотальной войны, ведущейся с применением радикально новых видов вооружений и техники. При действиях в этой однородной среде, когда столь большой ущерб мог быть нанесен столь быстро и с таких больших расстояний, право пострадало гораздо больше, чем в военных действиях на суше и на море; в то же время здесь было гораздо меньше тех уравновешивающих условий, которые, очевидно, имелись при ведении войны на суше и на море и способствовали по крайней мере частичному соблюдению норм права и поддержанию личной приверженности участников его основополагающим принципам. Но во всех случаях результаты были неоднозначными. В целом их можно охарактеризовать следующим образом. Правительства и военачальники по большей части соблюдали законы, если с их точки зрения такое поведение отвечало их собственным интересам – интересам, которые могли быть продиктованы просвещенностью, великодушием и дальновидностью, но в равной степени могли сводиться к простой выгоде. Если же такое суждение об интересах не сформировалось, то право и гуманитарные побуждения, на которых основаны его принципы, не имели влияния и не играли никакой роли (за исключением элементов пропагандистского характера) в крупных вопросах политики и стратегии, хотя и могли влиять на принятие менее значимых решений тактического и личного характера.
Из этого накопленного в течение Нового времени опыта можно, по-видимому, извлечь два урока, имеющих отношение к соблюдению и внедрению права войны. Первый урок состоит в том, что самое полное и добросовестное его соблюдение зависит прежде всего от фундаментальной предрасположенности к рыцарскому поведению – готовности идти на риск и нести потери во имя правильности исполнения правовых норм или принципа гуманности. Такого рода жертвенность ради соблюдения закона по вполне понятным человеческим причинам встречается не слишком часто, а по описанным выше практическим соображениям в любом случае вероятнее всего может иметь место тогда, когда малые группы и отдельные индивиды могут извлечь прямой моральный смысл из того, чтó они делают и для кого именно, выбирая противоположный конец шкалы принятия решений по сравнению с такими политически распространенными установками, как «сделать все ради спасения жизни одного из наших ребят»[54]54
Проведенное Франсуазой Хэмпсон (Françoise Hampson) сравнительное исследование американского и британского понимания права применительно к санкционированной ООН акции против Ирака в начале 1991 г. привело ее к предположению, что «Королевские ВВС и британская армия, хотя и не были готовы идти на ненужный риск, были готовы пойти на больший риск ради уменьшения опасности для гражданского населения». См. ее статью в: Proceedings of the American Society of International Law, 45–54, at 53. Я должен отметить, что раздел «Правила для командиров» в целом достойных всяческих похвал «Правил ведения боя для солдат, принимающих участие в операции „Правое дело“» («Rules of Engagement issued to soldiers who fought in Operation Just Cause») – речь идет об интервенции США на Панаме в декабре 1989 г. – включает следующее положение: «Не подвергая опасности ваше подразделение и не рискуя успехом выполнения боевого задания, примите меры, чтобы минимизировать риск для гражданского населения». См.: Army Times, 13 Aug. 1990, 11–12.
[Закрыть]. Мало было на свете таких военачальников, которые во время весьма дорогостоящих штурмов хорошо укрепленных городов воздержались от воздушных бомбардировок ради спасения гражданского населения, как это сделал Макартур в Маниле в начале 1945 г. (Такую готовность нести бремя ради других не следует смешивать с готовностью понести самоубийственные потери ради эгоцентрических соображений, пусть даже в масштабе некоторого коллектива во имя религиозных и/или политических принципов, как это особенно ярко проявляется в японской этике императорского воина.)
Второй урок состоит в том, что не следует ожидать большого эффекта от перспективы суда и наказания – угрозы, которая неожиданно приобрела столь серьезный масштаб вследствие итогов Второй мировой войны. Какими бы ни были мотивы сознательного решения совершать законные и гуманные поступки вместо того, чтобы совершать безжалостные деяния или просто делать то, что легче (а эти мотивы могут быть весьма различными – от мук совести до юридического педантизма), едва ли в войне 1939–1945 гг. среди них присутствовал страх будущего наказания за неправомерное поведение. Объединенные Нации, начиная с 1943 г., все больше демонстрировали свою решимость привлечь к суду «военных преступников» (еще одно новое популярное выражение). Офицеры и гражданские служащие стран Оси, которые хоть что-то знали о последствиях 1914–1918 гг. и имели возможность сравнивать положение своих стран тогда и теперь, не сомневались, что будет предпринято что-то в этом же роде. Но профессиональные военные, инстинктивно или исходя из принципа склонные предполагать, что, когда они делают что-то неблаговидное по причине военной необходимости или по политическому приказу (чем они, естественно, оправдываются перед самими собой), они делают только то, что сделал бы любой профессиональный военный в подобных обстоятельствах, не могли заставить себя поверить, что из этого получится что-то серьезное. Офицеры вермахта, после окончания военных действий привлеченные к суду по обвинению в уголовных преступлениях, часто бывали искренне удивлены. Право войны, по их убеждению, не предусматривало такой возможности, и это их убеждение имело под собой определенные основания. Военные трибуналы победивших союзников, применяя это право, в действительности оправдали многих из них.
Более мрачно оценивали перспективы своей послевоенной судьбы те офицеры и должностные лица стран Оси, деятельность которых представлялась совершенно преступной и бесчеловечной, требующей возмездия в любой форме, законной или иной. Это были как крупные деятели, так и мелкая сошка в нацистской партии, чины СС, СД, гестапо, полицаи-коллаборационисты и т. п., попытки которых в последние недели войны замести следы, скрыться и сбежать отражали их вполне обоснованный страх. Послевоенные судебные процессы над ними привлекли много внимания, а вынесенные приговоры были встречены с нескрываемым одобрением. Но общепринятое применение термина «военные преступления» для характеристики этих случаев по аналогии с теми, о которых шла речь в предыдущем абзаце, было в той или иной степени ошибочным и вводящим в заблуждение. Некоторые из этих деяний являлись военными преступлениями в точном смысле этого слова, но бóльшая их часть была просто преступлениями – однако преступлениями такого рода, который требовал особого определения. Судопроизводство в их отношении не столько подтверждало право войны, сколько демонстрировало его недостаточность.
Дальнейшее утверждение права войны, даже в той усовершенствованной и обновленной форме, которая сложилась к 1950 г., само по себе в тех обстоятельствах не могло продвинуться настолько далеко, чтобы вернуть реальный смысл идее правового сообщества государств. Послевоенным разработчикам системы обеспечения исполнения международного права постепенно становилось ясно, что введение в действие существующего права войны должно сопровождаться формированием новой отрасли международного права, которая должна рассматривать сходные вопросы, не столь явно входящие в сферу действия права войны или очевидно в нее не входящие. Не все из этих новых категорий жестоких деяний имели место в военное время, а что касается тех, которые происходили именно тогда – как, например, длительная военная оккупация завоеванных территорий, а также эксплуатация и подавление их населения, – связь этих случаев с тем, что подпадало под понятие собственно военного преступления, т. е. действия, произведенного комбатантом в прямой связи с его стремлением к достижению военного успеха, могла представляться слабой и косвенной. Действовавшее на тот момент международное право не считало преступлением, когда правительство страны убивало собственных поданных. Гражданское население за прошедшее десятилетие убивали так много раз, в таких разнообразных обстоятельствах и под столь многими предлогами, что было бы действительно трудно попытаться различить действия, подлежащие судебной ответственности в большей и в меньшей степени. Самый худший из всех случаев – истребление нацистами евреев и цыган – был просто самым ярким примером. Соответственно из имеющихся в распоряжении юриспруденции источников выкристаллизовались два новшества: во-первых, новая категория международных преступлений для немедленного применения в послевоенных международных трибуналах – «преступления против человечности» и, во-вторых, универсальный правовой принцип прав человека, в соответствии с которым теперь следовало рассматривать эти преступления и который следовало инкорпорировать в новый международный правовой порядок, ознаменованный созданием Организации Объединенных Наций.
Часть II
Реконструкция законов войны, 1945–1950 гг
Глава 3
ООН и новый мировой правовой порядок
Учреждение в 1945 г. Организации Объединенных Наций стало центральным актом признания пережившим войну поколением того, что необходимо предпринять что-то радикальное, чтобы избежать повторения подобных катастроф. Это событие сразу же стало для людей, способных подняться над соображениями чисто локального характера, общепризнанным знаком и символом того, что кое-что действительно делается, будь то в рамках ООН или, как это было во многих из приведенных ниже случаев, на некотором отдалении от нее.
Право, содержащееся в Уставе ООН, стало основой для послевоенной реконструкции международным сообществом своего юридического аппарата. В том, что касается и подтверждения классических принципов (например, суверенитета государств во внутренней юрисдикции), и утверждения новых (например, запрещение любого применения силы государствами, кроме как для самозащиты), Устав ООН сразу же стал авторитетным источником права при осуществлении международных отношений и одновременно санкционировал учреждение всех тех новых органов, которые были призваны способствовать развитию этих отношений.
Право войны стояло несколько особняком. Существуя на протяжении уже нескольких веков, оно могло продолжать служить обществу независимо от появления ООН. Оптимистам, верящим в новый порядок, не очень нравилась навязываемая им пессимистами мысль о том, что новый порядок не будет означать столь явного разрыва с прошлым, чтобы лишить эту отрасль международного права ее традиционной полезности. Однако им не составляло труда использовать право войны в качестве инструмента преследования тех людей, которые привели старый порядок к его ужасному концу. Старомодные «военные преступления» фигурировали в обвинительных актах в Нюрнберге и Токио наряду с новомодными «преступлениями против мира» и «преступлениями против человечности».
Формулировка «преступления против человечности» была благоразумным, осторожным компромиссом на пути к признанию прав человека. Ее, можно сказать, придумали (фактически выделили, как и собственно права человека, из слияния культурных течений) для того, чтобы сделать возможным судебное преследование руководителей стран Оси за те чудовищные деяния, которые они совершали вдали от полей сражений, причем как в мирное время, так и в военное. Речь шла о преступлениях, которые традиционное право войны никоим образом не охватывало. Приведенное описание точно так же подходит к понятию «преступления против прав человека» – против тех прав, планы по защите которых начали обсуждаться в те же годы, в которые готовился обвинительный акт Нюрнбергского трибунала. Более того, в Уставе права человека упоминаются в явном виде как то, ради чего новая всемирная организация и была создана. Но тревожные сигналы замигали незамедлительно. Государство, чье презрение к правам человека было настолько вопиющим, что побудило Объединенные Нации выступить в их защиту, исчезло в результате своего полного поражения. В течение четырех послевоенных лет германского государства не существовало. Таким образом, в случае с Германией не было суверенной державы, которой можно было непосредственно бросить вызов. Но членами ООН были государства, проявлявшие ревностную заботу о своем суверенитете, что вообще характерно для государств. Риторика военных лет, заставившая их броситься после войны на защиту прав человека, была «пристегнута» к их политической теории, а не интегрирована в нее. Короче говоря, вопрос не был должным образом продуман, а последствия не были адекватно просчитаны[55]55
Свою столь нелицеприятную характеристику я оправдываю тем, что история прав человека со времени их первого упоминания в Уставе ООН и канонизации во Всеобщей декларации прав человека складывалась отнюдь не благополучно. Достаточно сказать, что лишь меньшинство государств объявило, что они будут следовать документам, имеющим обязательную силу, таким как пакты и конвенции, и в соответствии с ними будут сами соблюдать права человека и выполнять соответствующие нормы. Большинство же, возглавляемое США, на обсуждениях как в ООН, так и в ОАГ предпочитало ограничиться декларативными призывами.
[Закрыть].
Каковы бы ни были опрометчивые предложения, которым четыре великих державы, участвовавшие в составлении нюрнбергских обвинительных актов, позволили просочиться в Устав ООН, эти державы не собирались создавать прецедент, который мог бы немедленно быть обращен против них самих. Поэтому к определению «преступлений против человечности» была добавлена оговорка, согласно которой такие преступления должны быть совершены во время войны или как часть предполагаемого преступного заговора, имевшего целью развязать войну[56]56
Некоторое представление о деликатности задачи правильного выбора слов и знаков препинания в обвинительных заключениях можно получить из следующих работ: Oppenheim. 575 n.5: Bradley F. Smith, Reaching Judgment at Nuremberg (London, 1977), 60.
[Закрыть]. Таким образом, это понятие можно рассматривать не столько как предвестника понятия «преступлений против прав человека» в новом стиле, сколько как расширение понятия военных преступлений в старом стиле – именно так предпочитали рассматривать его победители, и именно в таком виде оно появилось в токийском обвинительном акте, где заголовки формулировались как «Преступления против мира», «Убийство» и «Прочие обычные военные преступления и преступления против человечности». Но, возможно, было и другое толкование со стороны тех, кто понимал, чтó имелось в виду под достаточно новым в то время выражением «права человека» (во всяком случае, в английском языке это новое словосочетание «human rights» имеет заметно иное звучание, чем традиционное «rights of man»[57]57
Оба выражения традиционно переводятся на русский язык одинаково, хотя более точным, буквальным переводом словосочетания «human rights» было бы «человеческие права». Исторически более раннее выражение «rights of man» несет в себе некоторую двусмысленность, так как в английском языке слово «man» обозначает одновременно «человек» и «мужчина», и употребление фразы «rights of man» может ассоциироваться с тем периодом истории, когда «права человека» уже были провозглашены, но мужчины и женщины пользовались разными правами. – Ред.
[Закрыть]), и кому не терпелось начать разработку соответствующего корпуса права.
Новое право и доктрина прав человека устойчиво воздействовали на старое право вооруженных конфликтов в двух направлениях. Во-первых, и то и другое подразумевало заботу о людях, оказавшихся in extremis[58]58
В крайней ситуации (лат.). – Прим. перев.
[Закрыть]. Как бы далеко ни заходила доктрина прав человека в провозглашении для всех без различия человеческих существ, всегда и везде «прав на свободу» и «прав на социальное обеспечение», суть вопроса состояла в защите людей от жестокостей и злоупотреблений со стороны вооруженных сил или, можно так выразиться, от насильственных эксцессов со стороны законно контролируемых во всех остальных отношениях вооруженных сил. В четырех основных документах, защищающих права человека (Европейской конвенции 1950 г., Американской конвенции 1969 г. и двух Международных пактах 1966 г.), об этом много не говорится, но именно это, без сомнения, подразумевается в общем для всех кратком перечне прав, настолько фундаментальном, что ни при каких обстоятельствах – ни во время войны, ни в случае введения чрезвычайного положения, ни в период национального кризиса, ни в каком-либо из случаев, когда вооруженные силы обычно выступают в качестве основной опоры власти или попросту становятся самой властью – эти права не могут быть отменены. Этот перечень в своем наикратчайшем варианте, в том, который содержится во всех четырех документах, действительно очень краток. В нем защищаются не более чем право на жизнь, право не быть подвергнутым пыткам или какому-либо иному бесчеловечному обращению, право быть судимым перед вынесением приговора и право не нести наказание за то, что не считалось нарушением закона в момент совершения поступка. Увы, опыт, накопленный с 1965 г., когда права человека были, так сказать, полностью введены в действие, показал, что этот перечень минимально необходимого для сохранения жизни нужно несколько расширить, чтобы от него была польза. В частности, необходимо добавить юридические и процедурные гарантии, способные предотвратить убийства, пытки и т. д. в период между арестом и судом. В эти критические моменты, когда речь идет о жизни и смерти, международное право в области прав человека движется в той же колее, что и гуманитарное право, стремясь обеспечить защиту тех же самых людей в то же самое время и от того же самого вида жестокого обращения со стороны вооруженной силы. Поскольку эти два правовых течения имели столь различные источники, группы сторонников и предметы озабоченности, то потребовались годы на то, чтобы общность их интересов стала очевидной и общепризнанной. Но к 80-м годам это стало настолько общим местом, что люди, ценящие точность и аккуратность, пришли к мысли о желательности напомнить о различиях наряду с чертами сходства, с тем чтобы специфика каждого из течений не потерялась в дымке универсализированной доброй воли.
Хотя совпадение в позитивных нормах существовало только в том, что касается разделяемой обоими направлениями озабоченности защитой людей in extremis, существовала еще одна, менее специфичная, но, возможно, более важная по своим последствиям взаимосвязь, посредством которой международное право в области прав человека, как только начало оно реально действовать в мире, стало вторгаться в поле действия права вооруженных конфликтов. Взятые в совокупности они предлагали всесторонний курс лечения страданий человечества, которое мучилось от последствий слишком доступного, слишком свободного от каких-либо ограничений применения вооруженного насилия, к чему оно, как во время войны, так и в мирное время, успело привыкнуть. Целью права вооруженных конфликтов было ограничить применение насилия между государствами и (в случае гражданской войны) между правительством и повстанцами. Право в области прав человека имело целью (помимо прочего) предотвращение и ограничение применения насилия правительствами против своих подданных, будь то во время официально объявленного восстания или безо всякого восстания – т. е. в конфликтном поле, в отношении которого в международном праве по определению отсутствуют средства правовой защиты.
Взаимодополнение этих двух направлений права не слишком ярко подчеркивалось в годы их первого сближения. Оптимистический дух, царивший в ООН и вокруг нее, препятствовал всему, что могло выглядеть как признание, что право вооруженных конфликтов могло сохранять свою значимость и полезность в мире. Возможно также, что среди наиболее убежденных и вдумчивых экспертов по правам человека существовало определенное ощущение, что нет необходимости указывать на нечто очевидное. В конце концов, все могли прочитать в преамбуле к Всеобщей декларации: «Необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать в качестве последнего средства к восстанию против тирании и угнетения». Во многих разделах основной части текста декларации подразумевается и в нескольких утверждается, что надлежащее полное соблюдение прав человека, перечисленных в Декларации, не только повысит социальную гармонию в государствах, но и будет способствовать дружественным отношениям между самими государствами. Чем больших успехов добьется программа соблюдения прав человека, тем меньше придется прибегать к тому корпусу права, который является последним прибежищем цивилизации, когда исчерпаны все остальные способы избежать и ограничить насилие.
Взаимосвязь между двумя сводами права хотя и редко подчеркивается, тем не менее слишком очевидна, чтобы ее не заметить. Ситуация, когда она привлекла к себе внимание, сложилась при обсуждении преамбулы к Женевским конвенциям. Этот вопрос был частью той совокупности тем для обсуждений, которая была передана на дипломатическую конференцию с последней из подготовительных конференций, а именно с конференции Международного Красного Креста, проходившей в Стокгольме. Преамбулы – хорошо известный элемент международных документов. В них излагается существо вопроса, как, например, в преамбуле IV Гаагской конвенции 1907 г. Не то чтобы без них совсем нельзя было обойтись, но они считаются неплохим способом давать общую формулировку принципов и целей документа. Поэтому приверженцам наиболее инновационной части нового законодательства, Конвенции о защите гражданского населения, показалось полезным снабдить ее преамбулой, которая добавила бы ей торжественности и усилила бы ее тем, что заявила бы о ней как о документе, направленном на защиту прав человека, и в частности на защиту основных, минимальных прав, – как о «гарантии цивилизованности» и «основе универсального гуманитарного права»[59]59
Pictet’s Commentary, i. 20.
[Закрыть]. Исходя из этой инициативы МККК при подготовке стокгольмских текстов для прохождения завершающей дипломатической процедуры разработал то, что считал их усовершенствованием. Комитет предложил, чтобы преамбула – одна и та же преамбула – предшествовала каждой из четырех конвенций, что укрепило бы общий для всех принцип защиты и представило вопрос о правах человека в более общих терминах: «Уважение к личности и достоинству людей составляет универсальный принцип, обязательный к применению даже в отсутствие договорных обязательств»[60]60
Ibid. 21.
[Закрыть].
То, что произошло в Женеве с этим проектом общей преамбулы, весьма поучительно; знание этого совершенно необходимо для понимания истории переговорного процесса по конвенциям и смысла, читаемого между строк. Никто не возражал против ссылки на права человека – это было бы на самом деле затруднительно для делегатов тех государств, которые примерно за полгода до этого утвердили ВДПЧ. Несколько государств во главе с Австралией выразили сомнения в том, нужна ли вообще преамбула, но были готовы принять версию МККК или одно из американских предложений, по существу близких к ней[61]61
Final Record III, 96.
[Закрыть]. Но остальные государства хотели чего-то более амбициозного, и здесь возникли трудности, которым не суждено было разрешиться. Одна группа таких государств, в которую, в частности, входили находящиеся в тесном альянсе с Ватиканом, считала уместным и желательным включить признание суверенитета Бога как «божественного источника человеческого милосердия», на промысел которого, наряду с действием человеческой совести, следовало опираться, чтобы наполнить духом юридическую букву конвенций[62]62
Paul de la Pradelle, La conférence diplomatique et les nouvelles conventions de Genève (Paris, 1951), 186.
[Закрыть]. Много дискуссий было посвящено вопросам о том, как следует выразить это религиозное почитание. Сэр Роберт Крейги, например, заявил делегации Великобритании, что ей «не следует возражать против уместной ссылки на Всевышнего», которая удовлетворила бы монсеньора Бертоли, если бы он смог добиться ее включения[63]63
UK: FO, 369/4153 K. 5651, совещание делегации 3 июня 1949 г. Final Record, IIA, 69.
[Закрыть]. Но имелась и соперничающая концепция.
Другая группа государств во главе с СССР стремилась использовать преамбулу, чтобы пропагандировать собственные идеи по поводу того, что, по их мнению, было главным в конвенциях (например, нюрнбергские принципы, а не Верховное Существо), а также продвигать, чего они намеревались достичь (например, распространения убеждения, что несоциалистические государства на самом деле не заинтересованы в предотвращении или ограничении войны)[64]64
US: 514.2 Geneva/6-2749; телеграмма от 27 июня 1949 г.
[Закрыть]. Напряженные и кропотливые усилия по достижению компромисса никого не удовлетворили. Кроме того, на конференции – что было необычно для такого рода мероприятия, на котором в основном все происходило гладко и оперативно, – возникла немалая путаница в отношении того, за что именно проводится голосование и кто за что проголосовал. Досада и разочарование стали доминирующим ощущением, когда путаница и взаимное непонимание привели к неожиданному исходу голосования: преамбулы не должно быть вообще[65]65
Pictet’s Commentary, I. 22–23. Final Record IIB.522–523, III. 99.
[Закрыть]. Разумеется, такой исход не соответствовал ожиданиям большинства делегаций. Вопрос о том, подорвала бы преамбула, приемлемая для признающего религию большинства, авторитет конвенций в глазах остальных стран, отвергающих религию, остается чисто спекулятивным. Но что, по-видимому, несомненно, так это тот факт, что включение прав человека, точно сформулированных в первоначальной, минималистской преамбуле, само по себе было приемлемо для всех участников дипломатической конференции 1949 г., причем до такой степени, что воспринималось как само собой разумеющееся[66]66
Короткая жизнь преамбулы и ее печальный конец хорошо описана делегатом Святейшего Престола монсеньором Бертоли в: Final Record IIB. 522–523.
[Закрыть].
Столь же очевидной для участников, с одобрением наблюдавших за восходящим солнцем прав человека, было то, что новые конвенции в существенной степени были отражением этого процесса: «права человека, действующие на арене войны», как довольно неожиданно заметил один американский армейский юрист на ежегодном совещании Американского общества юристов в области международного права, проходившем в 1949 г. и посвященном МГП[67]67
Willard B. Cowles, in PASIL, 43 (1949), 121.
[Закрыть]. С самого начала активную деятельность в этом отношении развил Дж. И. А. Д. Дрейпер, чья книга «Конвенции Красного Креста» (The Red Cross Conventions), вышедшая в 1958 г., сделала его ведущим авторитетом в этом вопросе, каковым он и оставался до конца жизни. Хорошее знакомство этого католического ученого с доктриной естественного права обнаруживается в его выводе о том, что конвенции «подтвердили, если такое подтверждение было нужно, что международное право наделяет правами и обязанностями как отдельных людей, так и государства». Затем он перечислил то, что было достигнуто этими конвенциями «в области прав человека», и указал, что «в том, что касается как определения правовых норм, так и принуждения к их исполнению», конвенции ушли «намного дальше, чем Европейская конвенция по правам человека 1950 г.»[68]68
Draper, Red Cross Conventions, 24.
[Закрыть]. Конвенцию о защите гражданского населения он описал как «воистину правовую хартию фундаментальных и детально проработанных прав человека во время вооруженного конфликта»[69]69
Ibid. 48. См. также то, что он говорит на с. 45.
[Закрыть]. Исходя из того, что он говорит об общей статье 3 Женевских конвенций в главе 1 своей книги и в «дополнительных соображениях», опубликованных несколькими годами позже, представляется вероятным, что он придерживался мнения, которое с тех пор стало общепринятым, что она представляет собой декларацию прав человека в миниатюре[70]70
Более поздняя работа, о которой идет речь: The Geneva Conventions of 1949 in The Hague Academy series, Recueil des Cours,1965 (I), 61 ff.
[Закрыть]. Еще один авторитетный юрист, Р. Квентин-Бэкстер, служивший представителем Новой Зеландии в Женеве в то время, когда разрабатывались конвенции, позднее снова обратился к уникальному значению этой общей статьи, ознаменовавшей то, что «впервые со времени создания ООН государства признали в договорном инструменте определенную степень своей подотчетности перед международным сообществом за действия в отношении собственных граждан»[71]71
R. Quentin-Baxter, “Human Rights and Humanitarian Law; Confluence or Conflict?” in Australian Yearbook of International Law, 1985, 94—111 at 102.
[Закрыть].









































