Текст книги "Железная пята. Люди бездны"
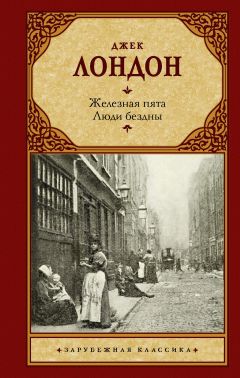
Автор книги: Джек Лондон
Жанр: Зарубежная фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Глава X
Водоворот
Вскоре после обеда дельцов ударами грома разразились события одно другого ужаснее. И я, скромная профессорская дочка, все свои годы прожившая в тиши университетского мирка, оказалась ввергнутой в мировую катастрофу. Трудно сказать, любовь ли к Эрнесту или же ясное понимание законов общественного развития – понимание, которым я была обязана тому же Эрнесту, – сделали меня революционеркой, но, став ею, я была подхвачена вихрем событий, которые еще три месяца назад казались бы невозможными.
С грандиозными переменами в жизни общества совпал и перелом в моей личной жизни. Началось с того, что отца уволили из университета. Разумеется, не буквально уволили – ему было предложено уйти в отставку, только и всего. Само по себе это не имело для нас большого значения. Напротив, папа был в восторге. Его забавляло, что терпение университетских властей окончательно истощилось после выхода его книги «Экономика и образование». «Еще один аргумент в мою пользу», – говорил он, торжествуя. Да и трудно было найти более убедительное доказательство того, что класс капиталистов наложил лапу на всю нашу образовательную систему.
Но «доказательство» повисло в воздухе. Никто так и не узнал, что отец ушел из университета не по своей воле. Если бы это событие вместе с привходящими обстоятельствами получило огласку, это могло бы стать своего рода сенсацией, принимая во внимание известность, которую папа снискал себе как ученый. Но нет, газеты расшаркивались перед ним, поздравляя с тем, что он решил отказаться от черной лекторской работы и целиком посвятить себя научным изысканиям.
Вначале папа смеялся, потом им овладел гнев – «живительный» гнев. А вскоре был наложен запрет на его книгу. Это было сделано потихоньку, мы ни о чем и не догадывались. Появление книги не прошло в стране незамеченным. В капиталистической прессе она была вежливо обругана: критики с убийственной учтивостью заявляли, что такому большому ученому не следовало бы жертвовать своей работой и забираться в дебри социологии, где он сразу же и заплутался. Так продолжалось с неделю; отец посмеивался и говорил, что книга, по-видимому, задела господ капиталистов за живое, – и вдруг как отрезало: газеты и журналы перестали о ней писать. Из продажи она исчезла. В книжных лавках нельзя было найти ни одного экземпляра. Отец запросил издателей, и ему сообщили, что матрицы случайно повреждены. Наконец после длительной и бесплодной переписки отцу было сообщено, что книга вторично набираться не будет и что издательство отказывается от всяких прав на нее.
– Ни один издатель в Америке не захочет взять ее теперь, – предупредил папу Эрнест. – И вот что я скажу вам: на вашем месте я бы уже сейчас подыскал себе какое-нибудь укромное местечко и укрылся в нем до лучших времен. Хватит с вас этого первого знакомства с Железной пятой, не советую идти дальше.
Как истинный ученый, отец никогда ничего не принимал на веру: каждое лабораторное исследование доводил до конца, добиваясь исчерпывающей полноты и ясности. Так и сейчас, запасшись терпением, он стал обращаться во все издательства подряд, но всюду находились какие-то отговорки, и ни один издатель так и не взял книгу.
Когда отец убедился, что книга его под запретом, то попробовал обратиться в прессу, но его жалобы нигде не встретили отклика. И вот однажды, на социалистическом митинге, где присутствовало много репортеров, он решил выступить с открытым заявлением. Взяв слово, он рассказал всю историю своих мытарств и на следующий день с интересом схватился за газеты, заранее радуясь тому, что там прочтет, но постепенно лицо его принимало все более возмущенное выражение: по правде сказать, гнев его на этот раз перешел уже в ту стадию, когда это чувство теряет свое тонирующее действие. Ни одна газета ни словом не упомянула о его книге, зато сам он был повсюду изображен каким-то извергом: слова его безбожно перевирались или же произвольно выхватывались из контекста; умеренные и сдержанные выражения были представлены анархистскими выкриками. Это было сделано не без искусства. Мне запомнился следующий пример: отец употребил термин «социальная революция», репортер же просто-напросто выкинул слово «социальная». Неудивительно, что, когда стараниями Ассошиэйтед Пресс сообщение о митинге пошло гулять по всей Америке, отовсюду посыпались ожесточенные протесты. Отца ославили нигилистом и анархистом, а в одной популярной карикатуре он был изображен с красным флагом, во главе целой орды косматых людей с дикими глазами, потрясающих ножами, бомбами и зажженными факелами.
Пространные и злобные газетные статьи изобличали отца в анархизме, попутно намекая, что он выжил из ума. По словам Эрнеста, капиталистическая печать так всегда и поступала. Газеты нарочно засылали репортеров на социалистические митинги, чтобы потом изобразить все в искаженном, карикатурном виде. Это делалось с целью внушить среднему классу ужас перед пролетариатом и помешать им между собой сговориться. Эрнест снова и снова убеждал отца отказаться от борьбы и заблаговременно скрыться от своих преследователей.
Социалистическая пресса, разумеется, не стала молчать: ее подписчикам, рабочим, вскоре стало известно, что такая-то книга запрещена. Но широкая публика этого не знала. Вскоре большое социалистическое издательство «Знамя разума» предложило отцу выпустить его труд. Папа торжествовал, а Эрнест еще больше встревожился.
– Говорю вам, мы на пороге неведомых событий, – настаивал он. – Что-то готовится вокруг нас в глубочайшей тайне. Мы не знаем, какие нас ждут перемены, и только предчувствуем их приход. Все общество потрясено до основания. Не спрашивайте меня ни о чем, я и сам ничего не знаю. Но наше общество сейчас – это насыщенный раствор, из которого что-то должно выкристаллизоваться. Процесс уже начался. Конфискация вашей книги – знамение времени. Сколько еще таких книг запрещено, мы понятия не имеем. Мы бродим в потемках. Никто нам ничего не расскажет. На очереди запрещение социалистических газет и издательств. Боюсь, это уже не за горами. Нас хотят задушить.
Эрнест необычайно чутко улавливал пульс своего времени и в этом отношении выделялся даже среди социалистов. Не прошло и двух дней после его разговора с папой, как был нанесен первый удар. Издательство «Знамя разума» выпускало еженедельник того же названия тиражом семьдесят пять тысяч экземпляров, который полностью расходился среди рабочих. Отдельные, специальные, номера журнала выходили массовым тиражом от двух до пяти миллионов. Это издание субсидировалось и распространялось друзьями журнала, которые вокруг него группировались. Первый сокрушительный удар был нанесен массовой серии. Почтовое ведомство запретило принимать ее к пересылке под тем предлогом, что она не соответствует установленному типу журнала. Неделю спустя запрещен был и еженедельник – как якобы «призывающий к мятежу». Делу социалистической пропаганды был нанесен большой урон. Издательство оказалось в отчаянном положении. Попытка организовать доставку журнала подписчикам через посредство железнодорожных или транспортных контор ни к чему не привела, все они наотрез отказались. Дни издательства были сочтены, однако оно не сдавалось и решило продолжать издание книг. Двадцать тысяч экземпляров «Экономики и образования» находились в переплетном цеху, а остальные печатались, когда однажды ночью к типографии подошла толпа громил с американским флагом. Толпа ворвалась в здание с пением патриотических песен и сожгла его дотла.
А между тем Джирард в штате Канзас, где это произошло, тихий, мирный городок, в нем за всю его историю никогда не бывало рабочих беспорядков. «Знамя разума» платило положенные ставки. Типография была главным промышленным предприятием во всей округе, кормившим сотни семейств. Толпу громил составляли, по-видимому, не жители Джирарда. Казалось, они вышли из-под земли и, сделав свое гнусное дело, опять провалились сквозь землю. Эрнест считал это событие зловещим симптомом.
– В Соединенных Штатах, очевидно, организованы «черные сотни»[71]71
«Черными сотнями» назывались шайки громил, которые обреченное на гибель самодержавие организовало для борьбы с русской революцией. Эти шайки нападали на революционеров, а также бесчинствовали и грабили, чтобы дать властям повод пустить в дело казаков.
[Закрыть], – говорил он. – Но это только начало. Самое худшее впереди. Железная пята наглеет с каждым днем.
Так книга отца и погибла в огне. В дальнейшем нам все чаще приходилось слышать о выступлениях «черных сотен». Список запрещенных социалистических изданий все увеличивался, немало было случаев, когда банды громил добирались и до типографских станков и предавали их уничтожению. Капиталистическая печать, разумеется, преданно служила реакции. Послушная своим хозяевам, она чернила и поносила удушенную социалистическую прессу, а черносотенцев выставляла патриотами и спасителями общества. Кампания велась так успешно, что много честных священников, поддавшись пропаганде, благословляли с кафедры зверства черносотенцев, не переставая сокрушаться о прискорбной неизбежности насилия.
События назревали. Приближались осенние выборы в конгресс, на которых Эрнест должен был баллотироваться от социалистической партии. Его шансы были очень высоки. После срыва стачки трамвайных служащих в Сан-Франциско такая же неудача постигла стачку возчиков. Оба провала нанесли рабочему движению чувствительный удар. Забастовку возчиков поддерживала федерация портовых рабочих, а также союзы строителей, – все эти организации потерпели тяжелое поражение. Немало тут пролилось рабочей крови. Увесистые полицейские дубинки работали без отказа, но особенно жестоко косил забастовщиков пулемет, установленный на крыше склада Марсденовской компании срочных доставок.
Среди рабочих царило угрюмое, озлобленное настроение. Они жаждали мести, кровавой расплаты. Потерпев неудачу в экономических боях, они стремились свести счеты со своими противниками на политической арене. У них все еще были профсоюзы, и это составляло их силу в приближающейся политической борьбе. Шансы Эрнеста на избрание поднимались. С каждым днем все больше профсоюзов заявляло о поддержке социалистического кандидата, и Эрнест немало смеялся, когда в ряды его избирателей влились факельщики и массажисты. Рабочие закусили удила. Восторженными толпами валили они на социалистические митинги, не обращая внимания на заигрывания и посулы других партий. Ораторы буржуазных партий выступали перед пустыми скамьями или же встречали такой прием, что приходилось вызывать полицию.
События стремительно развивались, надвигались грозой. Страна была на грани кризиса[72]72
Капиталистическая система производства неизбежно приводила к кризисам, которые ввергали народ в бедствия столь же неизбежные, как и бессмысленные. За периоды процветания он расплачивался периодами экономического застоя и безработицы, вызванными перепроизводством.
[Закрыть]. После ряда лет усиленного промышленного развития наступил период перепроизводства. Заводы работали неполный день, многие гигантские предприятия закрылись на время, пока страна не разгрузится от избытка товаров. Рабочим то и дело урезали заработную плату.
Следующей была сломлена забастовка механиков. Двести тысяч механиков вместе с полумиллионной армией рабочих-металлистов – своей союзницей – потерпели поражение в тяжелых классовых боях: быть может, самых кровопролитных в истории Соединенных Штатов. Рабочие вступали в форменные сражения с отрядами вооруженных штрейкбрехеров[73]73
Штрейкбрехеры во всем, кроме названия, были частной армией капиталистов. Их хорошо вымуштрованные, вооруженные до зубов отряды по первому требованию перебрасывались в любой конец страны, где рабочие объявляли предпринимателю стачку или же где предприниматель объявлял рабочим локаут. В те удивительные времена не раз случалось, что какой-нибудь предводитель штрейкбрехеров, вроде пресловутого Фарли, вместе со своей армией из двух с половиной тысяч хорошо снаряженных и вооруженных молодцов садился в специальный поезд и мчался через весь континент – из Нью-Йорка в противоположный конец страны, – чтобы сломить забастовку, как это было, например, во время стачки вагоновожатых Сан-Франциско. Все это находилось в вопиющем противоречии с существующими законами, но капиталистам и не такие беззакония сходили с рук, так как американский суд был в полном подчинении у плутократии.
[Закрыть], которых выставила против них ассоциация нанимателей. «Черные сотни», появляясь то тут, то там, учиняли погромы и поджоги, и для расправы с рабочими вызваны были регулярные войска. Часть руководителей забастовки были приговорены к смертной казни, остальных засадили в тюрьму; рядовых рабочих толпами загоняли на скотобойни[74]74
«Загнать на скотобойню» – ходячее выражение того времени, обозначавшее насильственный разгон рабочей демонстрации; вошло в обиход с тех пор, как во время одной из горняцких забастовок в Айдахо в конце XIX в. рабочие были загнаны войсками в скотобойню и там избиты. Как выражение, так и само мероприятие перекочевало и в XX в.
[Закрыть] и беспощадно избивали.
Народу приходилось расплачиваться за годы процветания. Все рынки были забиты товарами, на бирже царила паника, на фоне общего катастрофического падения цен самым катастрофическим было падение цен на труд. В стране не утихала классовая борьба. Повсюду вспыхивали забастовки, а там, где рабочие не бастовали, их пачками увольняли с заводов. Газеты были испещрены сообщениями о погромах и беспорядках, и ко всем этим злодеяниям приложили руку «черные сотни»[75]75
Чисто американские организации – только название перенесено в Америку из России; «черные сотни» вербовались из многочисленных тайных агентов, которых капитализм уже в XIX в. широко использовал в борьбе с рабочим движением. Это подтверждается свидетельством хотя бы такого высокоавторитетного современника, как Кэролл Д. Райт, государственный уполномоченный по вопросам труда. В своей книге «Рабочее движение» он отмечает, что «во время особенно памятных нам грандиозных забастовок предприниматели умышленно вызывали рабочих на акты насилия»; компании часто сами провоцировали забастовки, чтобы избавиться от товарных излишков; во время железнодорожных забастовок агенты компаний поджигали товарные вагоны, стремясь создать впечатление беспорядков. Из этих тайных агентов и возникли «черные сотни». Впоследствии олигархия использовала их как провокаторов – одно из самых страшных своих орудий.
[Закрыть]. Разбой, произвол и бесцельное уничтожение имущества были делом их рук. Все силы регулярной армии были двинуты против забастовщиков, и каждый раз появление военных отрядов провоцировалось «черными сотнями». Города и поселки были превращены в вооруженные лагеря, на рабочих охотились, как на зверей. Ряды штрейкбрехеров пополнялись за счет армии безработных, а когда союзы пытались бороться со штрейкбрехерами, на выручку спешили войска и расправлялись с союзами. В подавлении беспорядков принимала участие и национальная гвардия. Закон, о котором говорил Эрнест, не был еще приведен в действие, и власти обходились регулярными войсками, но на этот период террора число их было увеличено на сто тысяч человек.
Никогда еще пролетариат не терпел такого поражения. Короли промышленности, олигархи, впервые боролись плечом к плечу с ассоциациями нанимателей – организациями среднего класса. Напуганные кризисом и катастрофическим падением цен, поддерживаемые промышленными королями, предприниматели нанесли организованному пролетариату жестокое поражение. Это был могущественный союз, но по существу – союз льва с ягненком, и средний класс скоро в этом убедился.
Рабочие затаили жажду мести, но пока что были раздавлены. Однако разгромить рабочих еще не означало покончить с кризисом. Банки, представлявшие одну из важнейших сил олигархии, повсеместно требовали возвращения взятых ссуд. Биржа превратилась в чудовищный водоворот: здесь финансовые магнаты Уолл-стрита ежечасно пускали ко дну национальные богатства Америки. И над этими развалинами и обломками вставало грозное видение нарождающейся олигархии, безучастной, невозмутимой, уверенной в себе. Ее равнодушие и цинизм среди всеобщего крушения и хаоса были поистине ужасны. К услугам олигархии, для выполнения ее планов, были не только ее огромные средства, но также и средства государственной казны.
Нанеся поражение пролетариату, промышленные короли взялись за средний класс. Ассоциации предпринимателей, которые еще недавно помогли олигархии расправиться с рабочими организациями, теперь сами оказались ее жертвой. Среди крушения и гибели, постигшей мелких дельцов и промышленников, уцелели только тресты, и не только уцелели, но и развили кипучую деятельность. Они сеяли ветер, чтобы пожать бурю, ведь буря сулила им неисчислимые богатства. И какие богатства! Чудовищные! Чувствуя себя достаточно крепкими и устойчивыми, чтобы выдержать натиск стихий, которые сами же они выпустили на волю, они шныряли среди обломков кораблекрушения, вылавливая из пучины все, что могло им пригодиться, беззастенчиво грабя своих жертв. Акции американских предприятий продавались за бесценок, и тресты скупали все, что ни попадется, прибирая к рукам все новые и новые отрасли промышленности, наживаясь на разорении средних классов.
И вот летом 1912 года среднему классу был нанесен решающий удар. Даже Эрнест был поражен тем, как быстро это совершилось. С опасением смотрел он в будущее, не ожидая от осенних выборов ничего хорошего.
– Ничего не выйдет, – говорил он. – Мы разбиты. Железная пята у власти. Еще недавно я возлагал надежды на выборы, на то, что нам удастся завоевать власть мирным путем, и оказался не прав. Прав был Уиксон. Скоро мы лишимся и последних жалких свобод. Железная пята втопчет нас в землю. Остается одно: решительное, кровопролитное восстание рабочего класса. Конечно, мы победим, но я содрогаюсь при мысли, во что обойдется нам победа.
С тех пор Эрнест все надежды возложил на революцию. В этом отношении он намного опередил своих единомышленников. Его товарищи социалисты не соглашались с ним. Они все еще верили, что победы можно добиться на выборах. Они не то чтобы растерялись – это были люди большой выдержки и мужества, – но все еще не понимали того, что происходило на их глазах. Опасность, о которой твердил Эрнест, предвидевший приход к власти олигархии, не казалась им серьезной. Он призывал их к бдительности, но они слишком верили в свои силы. В их теории социальной эволюции не было места для олигархии, и они отказывались ее видеть.
– Вот пошлем тебя в конгресс, и все устроится, – говорили они Эрнесту на одном из наших конспиративных собраний.
– А если меня выкинут из конгресса, – холодно спрашивал Эрнест, – а потом поставят к стенке и разнесут мне череп? Как это вам понравится?
– Тогда мы подымемся все, как один! – сразу откликнулось несколько голосов. – Мы двинем против них все свои силы!
– И захлебнетесь в собственной крови, – ответил Эрнест. – То же самое утверждал и средний класс, а где сейчас его хваленые силы?
Глава XI
На переломе
Мистер Уиксон не посылал за папой, они встретились неожиданно – на пароме, шедшем в Сан-Франциско, и, следовательно, предостережение, с которым он обратился к папе, было делом случая. Если бы не эта встреча, никакого предостережения не было бы. Правда, это ничего не изменило. Отец вел свой род от пассажиров «Мейфлауэра»[76]76
Один из первых кораблей, на которых вскоре после открытия Нового Света прибыли в Америку колонисты. Потомки этих ранних поселенцев чрезвычайно гордились своей родословной, однако с течением времени семя их рассеялось по всей стране, так что, в сущности, каждый американец мог считать, что в его жилах течет кровь первых колонистов.
[Закрыть], и его не так-то легко было сломить.
– Эрнест был совершенно прав! – сообщил он мне уже с порога. – Твой Эрнест – умница! Я бы такого зятя не променял ни на Рокфеллера, ни на короля английского.
– Что случилось? – испуганно спросила я.
– Олигархия и в самом деле точит зубы – на нас с тобой во всяком случае. Мне сообщил об этом Уиксон чуть ли не этими самыми словами. Собственно, для олигарха он проявил величайшую любезность – предложил мне вернуться в университет. Как это тебе нравится? Грязный обирала Уиксон решает вопрос, быть или не быть мне профессором Калифорнийского университета! Впрочем, он осчастливил меня и еще более лестным предложением: возглавить грандиозный институт физических наук – это новый проект наших олигархов: ведь им нужно куда-то девать свои прибыли.
«Помните, что я сказал этому социалисту, приятелю вашей дочери? – спросил он меня. – Я заявил ему, что мы раздавим рабочий класс. И так оно и будет. Перед вами я преклоняюсь как перед ученым. Но если вы свяжете свою судьбу с судьбой рабочего класса, вам тоже солоно придется. Вот и все, что я вам хотел сказать». И он повернулся и пошел прочь.
– Значит, нам нужно поторапливаться со свадьбой, – сказал Эрнест, узнав об этом.
Тогда я не поняла, что он имеет в виду, но вскоре мне это стало ясно. Мы как раз ждали квартальной выплаты сьеррских дивидендов, однако все сроки прошли, а отец не получил обычного извещения. Повременив несколько дней, он написал в контору. Оттуда немедленно ответили, что имя отца не значится в книгах компании; более того, у него вежливо попросили объяснений.
– За объяснениями дело не станет, черт бы их побрал совсем! – сказал папа и отправился в банк взять из сейфа свои акции.
– Твой Эрнест просто гений, – заявил он мне, возвратившись, когда я помогала ему снять пальто в прихожей. – Слышишь, дочка, твой будущий муж – гений!
Такие преувеличенные похвалы, я знала по опыту, не предвещали ничего хорошего.
– Со мной эта публика уже расправилась, – продолжал папа. – Представь себе, акций как не бывало! В сейфе одни только голые стенки. Видно, вам с Эрнестом действительно придется поторапливаться со свадьбой.
Отец и на этот раз остался верен своим лабораторным методам. Он предъявил Сьеррской компании иск, но, к сожалению, не мог представить суду ее конторских книг. К тому же с компанией в суде считались, а с папой – нет. Словом, все вышло как по-писаному: отец потерпел полнейшее поражение, и открытый грабеж восторжествовал.
Сейчас мне и грустно, и смешно вспомнить, что после этого свалилось на голову бедного папы. Повстречав мистера Уиксона на улице в Сан-Франциско, он позволил себе назвать этого джентльмена отъявленным негодяем. Папу тут же арестовали, предъявив ему обвинение в оскорблении действием, приговорили к штрафу и обязали впредь не нарушать общественной тишины. Это было так нелепо, что он сам хохотал, вернувшись домой после всей этой эпопеи. Но какой шум подняли местные газеты! Они самым серьезным образом кричали о «микробе насилия», который поражает всякого, кто соприкасается с социалистами. Тихое, мирное житие моего отца выставлялось примером тлетворного действия этого ужасного микроба. Некоторые газеты утверждали, что престарелый профессор не выдержал умственного напряжения и сошел с ума и что самое целесообразное – отвести ему палату в соответствующем казенном заведении. И это было не пустой угрозой. Такая опасность действительно существовала: папа убедился в этом на примере епископа Морхауза, – и так хорошо усвоил этот урок, что никакие преследования не могли уже вывести его из равновесия; мне думается, даже его враги становились в тупик перед такой сверхъестественной кротостью.
Следующим на очереди оказался наш дом, где прошло мое детство. Папе была предъявлена неведомо откуда взявшаяся просроченная закладная и предложено немедленно выехать. На самом деле ни о какой закладной не могло быть и речи: за участок было полностью заплачено при покупке, а дом строился на наличные деньги; и участок, и дом были свободны от долгов. Но это не помешало нашим гонителям составить закладную по всей форме, со всеми полагающимися подписями и даже с отметками об уплате процентов за много лет. На сей раз папа и не пикнул: раз у него забрали все деньги – значит, могли забрать и дом. Искать защиты было негде. У власти были те, кто решил его уничтожить. Папа был истинный философ – он даже не сердился больше.
– Меня решено раздавить, – говорил он, – но отсюда еще не следует, что я должен сам рыть себе могилу. Нет, уж пощажу свои старые кости. Достаточно меня били. Не хватает мне еще на старости лет угодить в сумасшедший дом!
Кстати, это возвращает меня к нашему епископу Морхаузу, о котором я давно не упоминала. Но сначала расскажу о нашей с Эрнестом свадьбе. Я понимаю, что по сравнению с описываемыми здесь событиями все личное должно отступить на второй план, и расскажу об этом коротко.
– Вот мы и настоящие пролетарии, – сказал мне отец, когда мы покидали свой дом. – Я часто завидовал твоему жениху: очень уж хорошо он знает пролетариат. Ну а теперь и мне представляется возможность узнать и изучить его.
Очевидно, в папе заговорила романтическая жилка. Он и наши бедствия склонен был рассматривать как своего рода приключение. В душе его не было места ни злобе, ни обиде. Простодушный мудрец, он не способен был к мстительным чувствам, а широкие духовные интересы позволяли ему легко мириться с утратой привычных житейских удобств. Когда мы переехали в плохонькую четырехкомнатную квартирку в пролетарском районе Сан-Франциско, южнее Маркет-стрит, папа радовался этой перемене, как ребенок. С этой свежестью восприятия он соединял зрелость и безошибочную ясность мысли, свойственную выдающемуся ученому. Ум его и в преклонном возрасте не утратил своей гибкости. Он не был рабом предубеждений, условное, привычное не имело над ним власти. Только научные и математические истины были для него обязательны, только с ними он считался. Мой отец был великий ученый. У него была душа и ум выдающегося человека. В некоторых отношениях он превосходил даже Эрнеста, а выше Эрнеста для меня не было никого.
Меня тоже отчасти радовала перемена в нашей жизни. Она спасала нас от организованного остракизма, которому мы подвергались в родном городе, с тех пор как навлекли на себя немилость нарождающейся олигархии. К тому же «приключение» это и для меня было исполнено романтики, тем более волнующей, что то была романтика любви. Изменение наших жизненных обстоятельств ускорило мой брак, и в четырехкомнатную квартирку на Пелл-стрит, в одной из трущоб Сан-Франциско, я въехала уже как жена Эрнеста.
А самое главное – я дала Эрнесту счастье! Я вошла в его бурную жизнь не как новая, беспокойная сила, но как сила, проливающая мир и радость. Со мной Эрнест отдыхал. Это было для меня лучшей наградой, а также свидетельством того, что я выполняю свой долг. Зажечь улыбку светлой радости и забвения в этих милых усталых глазах – разве не было для меня величайшим счастьем?
Милые усталые глаза! Эрнест работал, как редко кто работает, и всю жизнь трудился для других – это лучшее мерило его мужества, его высокого сознания. А сколько было в нем человечности и нежности! Бесстрашный борец с телом гладиатора и душой орла, он был чуток и ласков со мной, как поэт. Да он и был поэтом. Дело его было для него песней. Всю жизнь пел он песнь о человеке. Душу Эрнеста переполняла любовь к человеку, и этой любви он отдал жизнь, ради нее принял мученический венец.
И это – без всякой надежды на воздаяние. В мировоззрении Эрнеста не было места вере в загробную жизнь. Весь устремленный в бессмертное, он отрицал бессмертие. Не правда ли, какой парадокс! Пламенный дух, он обрек себя холодной и суровой философии – материалистическому монизму. Я спорила с ним, говоря, что залогом бессмертия служит мне его крылатая душа и что мне, видно, придется прожить не одну вечность, чтобы измерить величие ее полета. И Эрнест обнимал меня и шутя называл своим маленьким метафизиком; усталости в глазах как не бывало, из них струился свет любви, который уже сам по себе был вернейшим доказательством его бессмертия.
И еще он называл меня своей милой дуалисткой и объяснял, что Кант, создавший учение о чистом разуме, предал разум во имя служения Богу. Он приводил мне этот пример, уверяя, что я способна сделать то же самое! И когда я, приняв это обвинение, храбро заявляла, что никакой вины тут не вижу, он еще крепче прижимал меня к себе и смеялся, как может смеяться только душа, возлюбившая Бога. Я утверждала, что наследственность и среда так же бессильны объяснить своеобразие и одаренность его натуры, как неуклюжие холодные пальцы науки не способны нащупать, отделить и препарировать то неуловимое, что является основой всякой жизни.
Я считала пространство атрибутом божества и видела в человеческой душе отражение божественной сущности. И когда Эрнест называл меня своим неисправимым метафизиком, я называла его моим бессмертным материалистом. Так мы любили друг друга и были счастливы. Я прощала ему материализм ради его высокого служения, к которому не примешивалось и тени корысти, ради его безграничной скромности, исключавшей всякое самодовольство и самолюбование.
Но гордость была ему присуща. Какой же орел не знает гордости! Эрнест говорил: куда больше величия в том, чтобы слабый огонек жизни почитал себя богоподобным, чем чтобы божество почитало себя божеством. И он прославлял в человеке все то, что мнил земным и смертным. Он любил читать мне вслух один поэтический отрывок. Всего стихотворения он не знал и не мог доискаться, кто его автор[77]77
Имя автора стихотворения, известного нам только по этому отрывку, навсегда утеряно.
[Закрыть]. Я привожу здесь эти строки не только потому, что Эрнест любил их, но и потому, что вижу в них отражение той же противоречивости, что жила в моем муже, узнаю ту же силу духа и то же отрицание его. Ибо как может человек, с восторгом, страстью и пламенным вдохновением повторяющий эти строки, быть только прахом земным, мимолетной тенью, зыбким, ускользающим облачком!
Мой по праву рожденья удел – торжество
И удача в суровой борьбе.
Жизнь я славлю свою, всей земле я пою
О моей высокой судьбе.
Узнай не одну я – мильоны смертей,
Что нас ждут до конца времен, —
Все ж, как чашу вина, пью я счастье до дна
Всех стран, веков и племен.
О пенная Гордость, о терпкая Власть,
О сладкая Женственность! Я
На коленях пью, славя чашу мою,
Золотой нектар бытия.
Я пью за Жизнь, я пью за Смерть,
Воспевая и эту и ту.
Пусть умру я – другой бокал круговой
Подхватит, как я, на лету.
Я тот, кого ты в мир труда и мечты
Из рая изгнал, мой Творец.
Здесь я прожил века, здесь пребуду, пока
Не придет Вселенной конец.
Ведь это мой мир, мой прекрасный мир,
Мир страданий, душе дорогих:
Здесь я сердцем постиг и младенческий крик,
И пытку мук родовых.
Пульс грядущих веков в юной алой крови!
Страсти целого мира вместив,
Этот дикий поток все сметает с дорог,
Самый ад на пути загасив.
От плоти до праха – я человек,
От трепетной плоти земной,
От сладостной тьмы нашей первой тюрьмы
До сиянья души нагой.
Кость от кости моей и от плоти плоть,
Мир покорен веленьям моим,
И к Эдему пути он стремится найти,
И порыв его непобедим.
Дай мне выпить, Господь, кубок жизни до дна,
Весь в радуге красок живых,
И вечную ночь я смогу превозмочь
Виденьями снов золотых.
Я тот, кого ты в мир труда и мечты
Из рая изгнал, мой Творец.
Здесь я прожил века, здесь пребуду, пока
Не придет Вселенной конец.
Ведь это мой мир, мой прекрасный мир,
Царство радости светлой моей —
От сверкающих льдов заполярных краев
До тьмы любовных ночей[78]78
Пер. Б. Лейтина. – Примеч. ред.
[Закрыть].
Эрнест работал, выбиваясь из сил. Выносливый организм многое дозволял ему, но глаза его говорили об утомлении. Милые усталые глаза! Эрнест спал всего каких-нибудь четыре-пять часов в сутки и все же не успевал переделать все свои ежедневные дела. Он продолжал пропагандистскую работу, и его лекции в рабочих аудиториях были расписаны на недели вперед. Много времени отнимала избирательная кампания: возни было столько, что другому хватило бы на целый рабочий день. С разгромом социалистических издательств его скудные авторские доходы прекратились, и надо было думать о новом заработке; не только революционная работа, но и жизнь предъявляла свои требования. Эрнест переводил для журналов научные и философские статьи и, придя домой поздно вечером, утомленный сутолокой избирательной кампании, садился за стол и работал далеко за полночь. Ко всему прочему он еще и учился, учился до самой смерти, и умудрялся делать большие успехи.
И он еще находил время дарить мне любовь и счастье. Разумеется, это было возможно только потому, что я всецело жила его жизнью. Я научилась стенографировать и писать на машинке и стала его секретарем. Эрнест уверял, что этим я наполовину его разгружаю. Во всяком случае, это позволяло мне целиком войти в его работу. Мы жили одними интересами, вместе трудились и вместе отдыхали.
А сколько драгоценных минут мы урывали для себя, похищая их у работы, пусть это было только слово, короткий поцелуй, мгновенная вспышка любви… Взятые у жизни украдкой, эти минуты были тем сладостней. Ибо мы жили на сверкающих высотах, где воздух был прозрачен и чист, где труд был обращен на пользу человечества и куда низменным, эгоистическим побуждениям не было доступа. Мы любили нашу любовь и никогда ничем ее не осквернили. И самое главное: я выполняла свой долг. Я давала отдых и покой тому, кто самоотверженно работал для других, – моему милому материалисту с усталыми глазами.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































