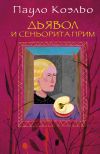Текст книги "Улисс. Том II"

Автор книги: Джеймс Джойс
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 34 страниц)
Но вернемся к мистеру Блуму, который при своем появлении уловил кое-какие непристойные шутки, однако стерпел, решившись смотреть на них как на плоды возраста, в коем, как это многие полагают, человек не ведает жалости. Совершенная правда, что молодые лоботрясы изощрялись в шальных проделках словно большие дети; слова, что слышались в их шумных беспорядочных спорах, были невразумительны и зачастую малопристойны; их грубость и оскорбительные mots[39]39
Словечки (фр.).
[Закрыть] отталкивали от себя его разум; и уж тем паче не были они строги в соблюденьи приличий, хотя неистощимые запасы их молодой животной энергии скорей привлекали к ним. Однако слова мистера Костелло звучали для него нежеланным наречием, ибо ему был тошен этот богомерзкий субъект, он казался ему неким корноухим отродьем, уродливо сгорбленным, неведомо от кого рожденным и в мир явившимся, как горбуны, уже зубатым и ногами вперед, чему придавали вероятие следы от щипцов хирурга на его черепе, и наводил он его на мысль о том недостающем звене в цепочке творений, которого так искал изобретательный ум покойного мистера Дарвина. Он уж перевалил за половину сроков, отпускаемых нам судьбою, перенеся бессчетные превратности бытия; и, принадлежа к племени осторожному, а также имея редкостный дар предвиденья, давно уже наказал своему сердцу не поддаваться порывам гнева, а, утишая их незамедлительно и искусно, хранить у себя в груди то покойное всеприятие, которое низкие люди поносят, скорые на суд презирают, и все находят терпимым – но не больше того. За теми, кто изощряется в острословии за счет хрупкой натуры женщин (наклонность, ему глубочайше чуждая), он не признал бы ни честного имени, ни благородного воспитания; противу же тех, кто, потеряв всякую меру, больше уже ничего не мог потерять, у него оставалось острое оружие – опытность, способная принудить их дерзость к бесславной и беспорядочной ретираде. Это не возбраняло ему сочувствия к пылкой юности, которая, невзирая на шамканье дряхлых и нареканья суровых, извечно стремится (как то выражают целомудренные образы Священного Писателя) вкусить от запретного плода; однако никогда он не мог бы дойти до такого пренебрежения человечностью в отношении к благородной даме, исполняющей возложенный на нее долг. Итак, заключим: хоть прежние слова сестры поддерживали в нем надежды на скорый исход, но, при всем том, нельзя не признать, велико было его облегчение, когда он узнал, что после столь тяжких испытаний благие предсказанья сбылись, и через то вновь явлены были всем щедроты и милосердие Верховного Существа.
Свои раздумия, сообразные событию, решился он поведать соседу, изъяснив тому, что, касательно его понятий на сей предмет, его мнение (которого, пожалуй, ему бы не стоило выражать) таково, что лишь имеющий сердце из льда и весь духа состав бесчувственным не возрадуется при вести о завершении ее родов, поскольку достались ей жестокие испытания без всякой ее вины. Нарядно одетый юноша ему отвечал, что вина за те испытания на ее супруге или, по крайности, должна она быть на нем, если только дама не являет собою новую матрону эфесскую. Должен сказать вам, молвил тут мистер Кроттерс, постучав по столу, дабы звучно подкрепить свое сообщение, что ее старый Аллилуй опять приходил сегодня, совсем уже пожилой, с бакенбардишками, и гнусавит в нос, прошу одно словечко, как там Вильгельмина, жизнь моя, это он ее так назвал. Я ему наказал быть в готовности, мол, событие вот-вот грянет. Ну и притча, я вам прямо скажу. Я только могу дивиться, какая потенция у этого старикана, если он из своей половины сумел вытрясти еще одного. Все принялись восхвалять его, каждый во что горазд, и только нарядный юноша, как прежде, стоял на том, что это-де некто, а не ее законный супруг, отличился в деле, лицо духовное или факельщик (весьма добродетельный) или бродячий торговец разным товаром, потребным домовитой хозяйке. Сколь изумительна, рассуждал гость сам с собою, сколь несравненна их способность к метемпсихозу, коль скоро и чадовосприимный покой и трупорассекновительный театр ныне обращены у них в академии безнравственного легкомыслия – и при всем том, уже одного вхождения в ученую корпорацию будет довольно, чтобы эти слуги праздных забав во мгновение ока преобразились в примерных служителей того искусства, которое столь многие славные мужи полагают из всех достойнейшим. Однако, прибавил он вслед за тем, может статься, это дает им случай не сдерживать томящих чувств, кои гнетут их в обычной жизни, ибо не раз наблюдал я подтвержденья тому, что рыбак с рыбаком веселятся рядком.
Но по какому праву, позвольте нам вопросить благородного лорда, его покровителя, этот чужеземец, лишь милостью доброго государя получивший гражданские права, возводит себя в верховные судьи внутренних наших дел? Где та благодарность, какую предписывает ему уже простая лояльность подданного? Во время недавней войны, когда врагу порой удавалось приобрести перевес своими гранатами, разве этот предатель своего племени не пользовался всякий раз случаем, чтобы обратить оружие против империи, где его до времени терпят, сам между тем дрожа за судьбу своих четырех процентов? Или он позабыл об этом, как предпочитает забывать обо всех получаемых им благах? Или, привыкнув водить за нос других, он одурачил, наконец, самого себя, коль скоро, если слухи не лгут, он сам сделался единственным орудием своего наслаждения? Бесспорный грех против скромности – вторгаться в спальню почтенной дамы, дочери отважного майора, или же допускать хотя бы тень сомнения в ее добродетели, однако, уж если он сам привлекает к тому наше внимание (чего поистине ему бы лучше остерегаться), – что же, будь по сему. Несчастная женщина, ей слишком упорно и слишком долго отказывали в ее законных прерогативах, чтобы она могла относиться к его упрекам иначе, нежели с презреньем отчаявшихся. Это он-то осмеливается их бросать, этот блюститель нравов, истый пеликан в своей добродетели, он, не посовестившийся, забыв о природных узах, искать незаконных сношений со служанкой, взятою из самых низов общества! Да ведь если бы эта красотка не обрела в своей швабре своего ангела-хранителя, ей досталась бы столь же горькая участь, как египтянке Агари! А что до пастбищ, то здесь его сварливое упрямство давно снискало дурную славу, так что один скотовод, возмутившись, дал ему суровую отповедь в отборных буколических выражениях, чему мистер Кафф был свидетелем. Не слишком ему пристало проповедовать такое писание. Разве нет у него поблизости поля, что лежит невспаханным и ждет плуга? Порочная привычка поры созревания есть срам в зрелом возрасте, но, увы, делается второю натурой. Уж если желает он расточать свой бальзам из Галаада в рецептах и апофегмах сомнительного вкуса, дабы возвращать на стези здоровья желторотых распутников, то подобало бы его делам быть в лучшем согласии с ученьями, коим он ныне привержен. Супружеское его сердце таит секреты, которые благопристойность откажется выносить на свет. Развратные предложенья какой-нибудь увядшей красотки способны утешить его за супругу, отринутую и павшую; однако в обличье новоиспеченного целителя зол и поборника добронравия являет он собой в лучшем случае некое экзотическое древо, что, уходя корнями в землю родного Востока, росло и цвело и источало изобильный бальзам, но, будучи пересажено в более умеренный климат, утеряло былую крепость корней своих, а вещество, из него истекающее, загнило и скисло и утратило силу.
С великою осмотрительностью, достойной придворных нравов Блистательной Порты, новость была доверена второй санитаркою младшему из дежурных представителей врачебного корпуса, и тот, в свою очередь, известил депутацию о появлении на свет наследника. Когда же он удалился на женскую половину, дабы присутствовать на торжественной церемонии отделения последа, с участием государственного секретаря по внутренним делам и членов тайного совета, усталым молчаньем выражавших единодушное одобрение, депутаты, наскучив своим долгим и чинным бдением и уповая, что радостное событие освобождает их от гнета приличий, благо это освобождение облегчалось одновременным отсутствием и камеристки и должностного лица, без промедления пустились в пререканье языков. Тщетно раздавался там голос господина Комиссионера Блума, призывая их к мягкости, сдержанности, спокойствию. Минута была слишком благоприятна для упражнений в том роде речей, который единственно лишь и связывал меж собой эти весьма несходственные натуры. Безжалостный скальпель их не миновал ни единой подробности предмета: врожденная антипатия единоутробных братьев, кесарево сечение, роды после кончины отца или, реже, после кончины матери, братоубийственное дело Чайлдса, что прославилось благодаря страстной речи господина Адвоката Буша, обеспечившей оправдание невиновного, права первородства и получения пособий при рождении двойни или тройни, выкидыши и детоубийства, умышленные либо тайные, лишенные сердца foetus in foetu[40]40
Рождающийся зародыш (лат.).
[Закрыть], апросопия от закупорки вен, агнатия неких китайцев без подбородка (случай, сообщенный господином Кандидатом Маллиганом) вследствие несовершенного сращения челюстных выступов вдоль медиальной линии, в каковом случае (по его выражению) одно ухо слышит, что другое говорит, преимущества обезболивания родов посредством снотворных, удлинение времени схваток в последней стадии беременности вследствие давления на вену, преждевременное отхождение вод (наблюдавшееся в настоящем случае), грозящее сепсисом матки, искусственное осеменение с помощью шприца, загибание матки с наступлением менопаузы, проблема продолжения рода в тех случаях, когда женщина зачала при изнасиловании, мучительный вид родов, называемый бранденбуржцами Sturzgeburt[41]41
Стремительные роды (нем.).
[Закрыть], известные примеры рождений монстров, двусеменных и многоблизнецовых рождений, случающихся, когда зачатие было кровосмесительным или в период менструации, – словом, все разновидности человеческого рождения, каковые классифицирует Аристотель в своем шедевре, снабженном хромолитографическими иллюстрациями. Глубочайшие проблемы акушерской науки и судебной медицины подвергнуты были разбору с тем же вниманием, что и простонародные поверья, касающиеся беременности, как то: запрет беременной перелезать через плетень, чтобы при таковом движении не задушился младенец пуповиной, или же указание ей, если возгорится пылко и тщетно желанием, то пусть прижмет руку к тому своему месту, каковое древним обычаем назначено для телесных наказаний. Такие аномальные отклонения, как заячья губа, родимые пятна, винные пятна, многопалость, синюха, ангиома, кем-то из собравшихся были помянуты как очевидное и естественное гипотетическое объяснение случающихся порою рождений свиноголовых (тут не была забыта мадам Гриссел Стивенс) или покрытых собачьей шерстью младенцев. Гипотеза же плазмической памяти, привлеченная посланцем Каледонии и достойная метафизических традиций представляемой им страны, усматривала в подобных случаях остановку эмбрионального развития на какой-либо из предчеловеческих стадий. Чужестранный депутат, отвергая обе эти теории, отстаивал с жаром почти убедительным теорию о совокуплении женщин с самцами животных, ручаясь за истинность басен, подобных легенде о Минотавре, которую изящный гений латинского поэта поведал нам на страницах его «Метаморфоз». Слова его произвели впечатление немедленное, но эфемерное. Оно исчезло столь же быстро, сколь и явилось, под воздействием речи господина Кандидата Маллигана, которую тот произнес в своем неподражаемом игривом стиле, провозгласив, что наилучший предмет желаний – это славный чистенький старичок. Одновременно с этим господин Депутат Мэдден и господин Кандидат Линч затеяли жаркий спор о юридической и богословской дилемме, возникающей в случае смерти одного из сиамских близнецов прежде другого, и оба решили изложить свои затруднения господину Комиссионеру Блуму для немедленной передачи господину Коадъютору Диакона Дедалу. Последний до этого молчал, повинуясь ли внутреннему голосу или, быть может, желая чрезмерно важною миной подчеркнуть странную чопорность своего наряда, и, будучи спрошен, напомнил кратко и, как показалось иным, с небрежностью, церковное установление, дабы не разлучал человек того, что соединил Бог.
Однако повесть Малахии начала уже наполнять трепетом их сердца. Вся сцена словно ожила перед глазами у них. Внезапно часть стены рядом с камином, скрывавшая потайной ход, бесшумно отошла в сторону, и в глубине показался… Хейнс! Кто из нас не ощутил, как плоть его застыла от ужаса? В одной руке его был портфель, плотно набитый кельтскими сказаниями, в другой – сосуд с надписью «Яд». Изумление, отвращение, трепет были написаны на всех лицах, меж тем как он взирал на них с мертвенною усмешкою. Я предвкушал подобный прием, промолвил он, сатанински расхохотавшись, в котором, надо полагать, повинна история. Да, вы не ошиблись. Я убийца Сэмюэла Чайлдса. Но как я наказан! Ад не страшит меня. Вот внешность, что на мне[42]42
Калька английской кальки ирландской идиомы, означающей: «Вот участь, что постигла меня».
[Закрыть]. Пропасть и вечность, глухо пробормотал он, когда же обрету я покой, по стогнам Дублина я влачусь с песенной своей ношей, и неотступно повсюду за мною он, словно soulth[43]43
Явление призрака (ирл.).
[Закрыть], словно bullawurrus[44]44
Здесь: запах убийства (ирл.).
[Закрыть]. Ад мой и ад Ирландии – на этом свете. Как ни пытался я заставить себя забыть! Развлеченья, стрельба ворон, гэльский язык (он произнес на нем несколько фраз), опиум (он поднес к губам свой сосуд), занятия туризмом. Все тщетно! Его призрак преследует меня. Дурман – вот единственная моя надежда… О-о! Гибель! Черная пантера! И неожиданно он с жутким воплем исчез, и стена скользнула на место. Однако через мгновение голова его появилась из противоположной двери и произнесла: Ждите меня на станции Уэстленд-роу в десять минут двенадцатого. Он ушел! Слезы заструились из глаз беспутного сборища. Провидец воздел длань свою к небесам, шепча: Возмездие Мананаана! Мудрые повторяли: Lex talionis. Сентиментальным нужно назвать того, кто способен наслаждаться, не обременяя себя долгом ответственности за содеянное. Малахия, охваченный волнением, смолк. Тайна раскрылась. Был третий брат, и этот брат – Хейнс, подлинная фамилия которого – Чайлдс. Черная же пантера – то был он сам, призрак своего собственного отца. Он пил одурманивающие снадобья, чтобы забыться. Признателен я вам за облегченье. Одинокий домик у кладбища необитаем. Ни единая душа не будет там жить. Лишь в одиночестве паук там ткет свою паутину да выглянет крыса из норы ночною порой. Проклятие тяготеет над этим местом. Тут бродит призрак. Тут земля убийцы.
Каков имеет возраст душа человеческая? Коль скоро прирожден ей хамелеонов талант менять оттенки свои при всякой перемене окрест, быть радостною с веселыми, печальной с поникшими, ужели не зрим, что и возраст ее столь же переменчив, как и ее настроенья? И Леопольд, что сидит здесь в раздумьи, без конца перелистывая листы памяти, вовсе уже не тот степенный служитель прессы, владелец скромного состояния в инвестициях. Умчались прочь годы. Он – юный Леопольд. Словно в ретроспективном упорядочении, словно зеркало в зеркале (и – раз!), он созерцает себя. Вот юная фигура той далекой поры, она выглядит возмужалой не по годам, свежим холодным утром она поспешает в школу из старого дома на Клэнбрасл-стрит, опоясана ранцем как патронташем, и в ранце – добрый ломоть пшеничного хлеба, забота матери. А вот – та же фигура через год или два, в первом своем котелке (о, это был день!), уже при деле, полноправный коммивояжер в фирме отца, вооруженный книгой заказов, надушенным платком (вовсе не только напоказ), баульчиком с блестящими безделушками (увы, это уже в прошлом!) и неистощимым запасом льстивых улыбок для каждой наполовину поддавшейся хозяйки, прикидывающей цену на пальцах, или для расцветающей юной девы, застенчиво выслушивающей (но голос сердца? признайтесь!) его заученные любезности. Духи, улыбки, а еще важней, темные глаза и елейная обходительность добывали к вечеру немало заказов для главы фирмы, который после подобных же трудов восседает словно Иаков с трубкою у домашнего очага (лапша, будьте покойны, вот-вот поспеет) и, вздев на нос круглые роговые очки, читает газету месячной давности с континента. Но дохнули на зеркало: и – раз! – и юный странствующий рыцарь отступает в глубину, делается все меньше, меньше и тает крохотной искоркою в тумане. Ныне он сам уже глава семьи, и те, что окружают его, могли бы быть его сыновьями. Кто здесь скажет? Мудр тот отец, что знает свое дитя. И вспоминается ему ночь с моросящим дождем, там, на Хэтч-стрит, возле запертых складов, та, первая. Они вместе (она – бесприютная бедняжка, дитя позора, твоя, моя, чья угодно за жалкий шиллинг с пенсом на счастье), вместе слышат тяжелый шаг стражей, когда две тени с острыми капюшонами движутся мимо нового королевского университета. Брайди! Брайди Келли! Навсегда ему запомнится это имя, никогда не забудется эта ночь, первая ночь, брачная ночь. В кромешной тьме сплетаются они воедино, жертва и жрец, и во мгновение ока (fiat![45]45
Да будет! (лат.)
[Закрыть]) море света затопит мир. Однако прильнуло ли сердце к сердцу? Увы, прекрасная читательница! Все свершилось единым духом – однако стойте! Назад! Не надо! Бедняжка в ужасе убегает, скрываясь во мраке. Она невеста ночи, дочь тьмы. Она не станет вынашивать солнцеликое чадо дня. Нет, Леопольд! Ни воспоминанье, ни имя не утешат тебя. Вотще миновало ликующее юное чувство собственной силы. Нет подле тебя сына от чресл твоих. Некому для Леопольда быть тем, кем был Леопольд для Рудольфа.
Голоса сливаются и растворяются в туманном безмолвии, безмолвии беспредельного пространства, и безмолвно, стремительно душа проносится над неведомыми краями бесчисленных поколений, что жили прежде. Край, где седые сумерки вечно спускаются, но никогда не упадают на светло-зеленый простор пажитей, проливая свой сумрак, сея нетленные росы звезд. Неровным шагом она следует за своею матерью, словно кобыла ведет за собой жеребенка. Сумеречные виденья, однако облеченные в формы магической красоты, статный округлый круп, стройная мускулистая шея, тревожно-кроткие очертания головы. Печальные видения, они меркнут; и вот все исчезло. Агендат – бесплодная пустыня, приют ночных сов и подслеповатых удодов. Златого Нетаима нет больше. Они движутся облачною тропой, призраки скотов, глухим громом отдаются их мятежные рыки. У-уу! Рр-р! У-уу! Параллакс погоняет их, следуя позади, молнии чела его жалят как скорпионы.
Яки, лоси, быки Васанские и Вавилонские, мастодонты и мамонты густым стадом бредут к впадине моря, Lacus Mortis[46]46
Озеро Смерти (лат.).
[Закрыть]. Зловещее, мстительное воинство Зодиака! Они мычат, ступая по облакам, двурогие и козерогие, хоботастые и клыкастые, львиногривые и длиннопантые, пресмыкающиеся и свинорылые, грызуны, жвачные и толстокожие, все их движущееся мычащее скопище, убийцы солнца.
Все дальше, к Мертвому морю бредут они с топотом на водопой, пьют ужасающими глотками и не могут напиться от его соленых, дремотных, неиссякаемых вод. И знак конский вновь растет и восходит среди пустыни небес, едва ли не во всю ширь небосвода, покуда не заслонит своею огромностью дома Девы. И вот, взгляни, о чудо метемпсихоза, то она, присносущая невеста, вестница дневныя звезды, невеста и приснодева. То она, Марта, моя утрата, Миллисент, юная, милая, сияющая. Сколь безмятежна она в царственном своем появленьи среди Плеяд в последние предрассветные часы, в сандалиях из чистого золота, в уборе из этой, как ее, кисеи. Он окутывает ее, плывет над ее звездною плотью, играет сапфирным и изумрудным, лиловым и яркосолнечным, волнуется токами леденящих межзвездных ветров, свиваясь, кружась, кружа головы бедняжкам, змеясь по небу таинственными письменами, и наконец, после неисчислимых метаморфоз символа, гаснет, Альфа, рубиновый треугольный знак на челе Тельца.
Тут Фрэнсис напомнил Стивену о том, как они вместе учились в школе во времена Конми. Он стал расспрашивать его про Главкона, Алкивиада, Писистрата. Какова участь их? Оба были в неведеньи. Ты говоришь о прошлом и призраках его, молвил Стивен. Но что о них думать? Ежели я через воды Леты вновь призову их к жизни, разве бедные привиденья не поспешат толпой на мой зов? Кто властен над ними? Я, Бус Стефануменос, быколюбивый бард, я им господин и податель жизни. И, улыбнувшись Винсенту, он увенчал непокорные свои кудри короною виноградных листьев. Ответ сей, промолвил на то Винсент, как равно и сей венок, достойней украсили бы тебя, когда б побольше, да намного побольше творений, чем горсточка легковесных од, могли назвать твой гений своим отцом. И все твои доброжелатели с надеждой ожидают того. Все жаждут увидеть во плоти замышленный тобою труд. Сердечно желаю, чтобы не обманулись их ожидания. О нет, Винсент, сказал ободрительно Ленехан и положил руку на плечо ближайшего своего соседа. Можешь не опасаться. Он не оставит мать свою сиротой. Лицо юноши омрачилось. Все могли видеть, как тяжелы ему напоминанья о его обещаниях и свежей его утрате. Он бы покинул пир, если бы шумные голоса вокруг, отвлекая, не унимали боль. Мэдден потерял пять драхм на Короне, поставив на нее из причуды, ради имени жокея; таков же был и убыток Ленехана. Он принялся рассказывать о скачках. Упал флажок, и тут же, у-ух, они все помчались, кобылка взяла резво, свежо, жокей О. Мэдден. Она повела скачку, сердца у всех так и бились. Даже Филлис не могла удержаться, она махала шарфиком и кричала: Урра! Корона побеждает! И тут, уже на последней прямой, когда все шли плотной кучкой, с ними вдруг поравнялась темная лошадка, Реклама, догнала Корону и обскакала. Все было потеряно. Филлис молчала: глаза ее – грустные фиалки. О Юнона, воскликнула она, я разорена, я погибла. Однако она утешилась, когда ее возлюбленный подал ей золотой ларец, в котором лежали кругленькие засахаренные сливы, и охотно скушала дюжину. Лишь одна-единственная слезинка упала с ее ресниц. Самый лихой жокей, сказал Ленехан, это У. Лэйн. Четыре приза вчера, три сегодня. Кому еще такое под силу? Его посади на верблюда или на дикого буйвола, и он, не торопясь, придет первым. Однако перенесем немилость фортуны, как это умели древние. Милосердие к неудачникам! Бедная Корона! молвил он с легким вздохом. Кобылка, видно, сдала. Ручаюсь, другой такой уж не будет. А какой была, сэр! Не Корона, а королева! Помнишь ее, Винсент? Жаль, ты не видел сегодня мою королеву, отвечал Винсент, во всем ее юном блеске (сама Лалага не показалась бы хороша рядом с ней), в желтых туфельках и в муслиновом платье, не знаю, как этот фасон называется. Кругом стояли каштаны в буйном цвету, воздух был полон их густым ароматом, и облачка пыльцы летали повсюду. Камни на солнцепеке нагрелись так, что ничего бы не стоило испечь на них толику булочек с коринфскими плодами, какими Периплепоменос[47]47
Бродячий торговец фруктами (греч.).
[Закрыть] торгует в своей лавочке у моста. Но ей, увы, было нечего взять на зуб, разве что мою руку, которой я ее обнимал и которую она шаловливо покусывала, когда я жал слишком сильно. Неделю назад она болела, пролежала в постели четыре дня, но сегодня была уже весела и беспечна, смеясь над всеми опасностями. В такую пору она еще соблазнительней. А ее букеты! Вы бы видели, какой она нарвала вокруг, когда мы прилегли на травку. И по секрету, дружище, ты не поверишь, кого мы встретили с ней, когда уже уходили с поля. Конми собственною персоной! Прогуливался вдоль изгороди и что-то читал, верно, свой требник, где вместо закладки у него, я уверен, галантное послание от какой-нибудь Хлои или Гликеры. Милая моя бедняжка от смущенья не знала, куда деваться, сделала вид, словно поправляет платье, какая-то веточка пристала к нему, как будто даже деревья волочатся за ней. Когда Конми прошел, она вынула маленькое зеркальце, которое всегда у нее с собой, и поглядела на свое прелестное эхо. Но он был милостив. Дал нам благословение. Боги тоже должны быть милостивы, откликнулся Ленехан. Уж раз у меня неудача с кобылкой Басса, так, может быть, его снадобье пойдет мне на пользу. И он уже взялся было за ближний сосуд с вином, однако Малахия увидел это и удержал его, показывая на незнакомца и на красный ярлык. Тихо, прошептал он им, берегите молчание друида. Душа его далеко отсюда. Быть может, пробуждаться от видений столь же мучительно, как рождаться на свет. Любой предмет, при напряженном его созерцании, может служить вратами вхождения в нетленный эон богов. Ты с этим согласен, Стивен? Об этом поведал мне Теософий, отвечал Стивен, коего в предыдущем воплощении египетские жрецы посвятили в тайны кармического закона. Ярко-оранжевые повелители луны, так говорил Теософий, приплывшие с планеты Альфа лунной цепи, не допускают эфирных двойников, и оттого последние были воплощены темно-красными эго из второго созвездия.
Однако на деле несуразная идея о том, будто бы он пребывал в некоем гипнотическом либо ипохондрическом состоянии, была всецело порождена самым поверхностным заблуждением и вовсе не отвечала действительности. Индивид, зрительные органы которого, покуда все это происходило, при данных обстоятельствах начали подавать признаки оживления, был зорок не меньше, если не больше любого из живых смертных, и всякий, допустивший противное, не успев оглянуться, сел бы в калошу. В течение последних четырех минут (или, возможно, пяти) он пристально смотрел на некоторое количество пива марки «Басс, номер первый», разлива фирмы Басс и К°, в Бертоне-он-Трент, которое оказалось, среди прочих бутылок, в точности напротив него и было явно рассчитано на то, чтобы привлекать внимание своей ярко-красной наружностью. Он попросту всего-навсего, как далее обнаружилось по причинам, что лучше всех ведомы ему самому и дали совсем иную окраску происходящему, после предыдущих минут раздумий о днях своего отрочества и скачек, предался воспоминаниям о двух или трех частных своих поступках, в коих те двое были неповинны как нерожденный младенец. Однако в конце концов четыре их глаза встретились, и едва его осенило, что тот вознамерился овладеть предметом в видах использования по назначению, как он неожиданно для себя решил в тех же видах сам воспользоваться последним и сообразно сему, взяв за горло средних размеров стеклянный приемник с искомою жидкостью, проделал в нем пространную пустоту, излив солидную часть содержимого наружу, однако равномерно направив неусыпную внимательность, чтобы ничего не расплескать из бывшего внутри пива.
Дальнейшие дебаты своим содержанием и развитием как бы изобразили в миниатюре течение самой жизни. И место собрания и его участники блистали неоспоримыми достоинствами. Дебатирующие принадлежали к числу самых незаурядных людей страны, предмет же их спора был благороден и важен. Высокие своды Хорновых хором никогда не видали столь представительного и многоликого общества, и старинные балки сего учреждения вовеки не слыхивали речей столь энциклопедических. Поистине, то было живописное зрелище. Там восседал в конце стола Кроттерс в экзотическом шотландском наряде, с лицом, выдубленным суровыми ветрами Малл-оф-Галловей. Напротив него помещался Линч, на лице у которого уже читались стигматы ранних пороков и преждевременной опытности. Место рядом с шотландцем занимал Костелло, субъект с большими причудами, подле которого громоздилась грузная флегматичная фигура Мэддена. Кресло здешнего обитателя оставалось незанятым перед камином, но зато по обе стороны от него являли резкий контраст друг другу Баннон, одетый как путешественник, в твидовых шортах и грубых воловьих башмаках, и лимонножилетный Мэйлахи Роланд Сент-Джон Маллиган, сияющий элегантностью и столичными манерами. И наконец, во главе стола обретался юный поэт, в дружеском оживлении сократической беседы нашедший убежище от педагогических трудов и метафизических созерцаний, а справа и слева от него располагались незадачливый предсказатель, явившийся прямо с ипподрома, и неутомимый наш странник, покрытый пылью дорог и битв, познавший неизгладимое бесчестие и позор, но вопреки всем соблазнам и страхам, тревогам и унижениям нерушимо хранящий в своем стойком и верном сердце тот пленительно-сладострастный образ, что был запечатлен для грядущих веков вдохновенным карандашом Лафайетта.
Целесообразно указать здесь же, в самом начале, что извращенный трансцендентализм, к которому суждения мистера С. Дедала (Скеп. Богосл.) показывают его неизлечимое, по всей видимости, пристрастие, идет целиком вразрез с установившимися научными методами. Наука, это необходимо подчеркивать беспрестанно, рассматривает лишь чувственные феномены. Человек науки, как и любой смертный, должен исходить из самых обыкновенных фактов, которые нельзя обойти, и должен пытаться дать им наилучшее объяснение. Имеются, совершенно верно, отдельные вопросы, на которые наука еще не нашла ответа, – как, например, первая из проблем, поставленных мистером Л. Блумом (Рекл. Аг.), то есть проблема предсказания пола младенца. Должны ли мы принять точку зрения Эмпедокла из Тринакрии, согласно которой правый яичник (по иным утверждениям, в постменструальный период) обеспечивает рождение мальчиков, или дифференцирующими факторами служат столь долго недооцениваемые сперматозоиды, иначе немаспермы, или же, как склонны полагать многие эмбриологи, в частности Калпеппер, Спалланцани, Блюменбах, Ласк, Хертвиг, Леопольд и Валенти, имеет место и то и другое? Последнее было бы равносильно сочетанию (одному из самых излюбленных приемов природы) nisus formativus[48]48
Формообразующий импульс (лат.).
[Закрыть] немасперма, с одной стороны, и удачного выбора положения, succubitus felix[49]49
Удачное низлежание (лат.).
[Закрыть], пассивного элемента – с другой. Вторая проблема, поднятая тем же исследователем, нисколько не менее насущна – это смертность младенцев. Здесь примечательно то, что, по глубокому его замечанию, мы все рождаемся одинаковым образом, но умираем весьма по-разному. Мистер М. Маллиган (Hyg. et Eug. Doc.[50]50
Доктор Гигиены и Евгеники (лат.).
[Закрыть]) возлагает вину на санитарные условия, из-за которых наши городские жители с их серыми легкими приобретают аденоиды, болезни дыхательных органов, etc., будучи вынуждены вдыхать кишащих в пыли бактерий. Как он утверждает, именно эти факторы, а также отвратительные картины на наших улицах – безобразная реклама, служители религии всех конфессий и рангов, искалеченные солдаты и матросы, извозчики, щеголяющие цинготными язвами, развешанные останки мертвых животных, холостяки-параноики и неоплодотворенные приживалки, – вот что, по его словам, является истинной причиной вырождения нации. Он предсказывает, что каллипедия очень скоро получит всеобщее признание, и все лучшие блага жизни, подлинно хорошая музыка, занимательная литература, легкая философия, поучительные картины, копии классических статуй, прежде всего Венеры и Аполлона, цветные художественные фотографии образцовых младенцев, – все эти небольшие знаки внимания помогут дамам, находящимся в интересном положении, провести положенные месяцы самым приятным образом. Мистер Дж. Кроттерс (Disc. Васс.[51]51
Бакалавр Риторики (лат.).
[Закрыть]) относит известную часть из обсуждаемых смертных случаев на счет брюшных травм у женщин-работниц, принуждаемых на работе к тяжелому труду, а дома – к супружеской дисциплине, но подавляющее большинство – на счет небрежения (как официального, так и частных лиц), вершиною которого являются подбрасывание новорожденных, криминальные аборты и чудовищное преступление детоубийства. Хотя последнее (мы говорим о небрежении) отнюдь не может оспариваться, однако случай, им приводимый, когда сестры забыли пересчитать губки в брюшной полости, слишком редок, чтобы считаться типичным. В действительности же при ближайшем рассмотрении представляется удивительным скорее то, что столь многие беременности и роды проходят совершенно благополучно, если учесть все факторы, включая и наши человеческие недостатки, которые сплошь и рядом мешают осуществиться начертаньям природы. Мистер В. Линч (Васс. Arith.[52]52
Бакалавр Арифметики (лат.).
[Закрыть]) выдвинул глубокомысленную идею, согласно которой рождаемость и смертность, равно как и все прочие феномены эволюции, приливные движения, фазы луны, температура крови, заболевания – словом, все совершающееся в необъятной мастерской природы, от гибели отдаленных солнц и до расцветания любого мельчайшего цветка среди украшающих наши городские парки, – все это подчиняется некоему числовому закону, который пока не открыт. Однако с другой стороны, простой и прямой вопрос, отчего ребенок нормальных и здоровых родителей, по всем признакам и сам здоровый, имеющий правильный уход, непонятным образом умирает в раннем детстве (хотя с другими детьми от того же брака этого не происходит), заведомо, говоря словами поэта, велит нам призадуматься. Поскольку нельзя усомниться в том, что природа за каждым своим действием имеет благие и основательные причины, то, по всей вероятности, подобные смерти вызываются неким законом предвосхищения, в силу которого организмы, избранные для своего обитания болезнетворными бактериями (современная наука доказала окончательно, что одно только вещество протоплазмы может считаться бессмертным), предрасположены исчезать на гораздо более ранних стадиях развития – особенность, хотя и причиняющая страдания нашим чувствам (в первую очередь материнским), однако в конечном итоге, как некоторые из нас полагают, благотворная для рода в целом, поскольку она обеспечивает выживание наиболее приспособленных. Замечание (или уместней его называть вмешательством?) мистера С. Дедала (Скеп. Богосл.) о том, что всеядное существо, способное с завидной невозмутимостью разжевать, проглотить, переварить и вывести через обычный канал столь разнородные продукты питания, как канкренозные женщины, истощенные родами, тучные мужчины свободных профессий, не говоря уже о желтушных политиках и малокровных монашках, возможно, испытало бы желудочное облегчение, невинно закусывая валким телком, показывает как нельзя ясней и в самом отрицательном свете ту тенденцию, намекнуть на которую мы позволили себе выше. Для сведения же тех, кто не успел свести с бытом городской бойни столь тесного знакомства, как то, которым кичится сей эмбрион философа и болезненно чувствительный эстет, в делах научных полный тщеславной самонадеянности, но едва ли способный отличить кислоту от щелочи, возможно, следует пояснить, что на грубом наречии хозяев наших трактиров самого низкого пошиба валким телком именуют пригодное для стряпни в пищу мясо теленка, свежеисшедшего из чрева матери. В недавнем публичном диспуте с мистером Л. Блумом (Рекл. Аг.), происходившем в большом зале Центрального Родильного Дома, Холлс-стрит, 29, 30 и 31, главою которого является, как известно, наш талантливый и знаменитый доктор Э. Хорн (Вр, – Ак., Б. В.-П. К. О. И. В.[53]53
Врач-Акушер, Бывший Вице-Президент Королевского Общества Ирландских Врачей.
[Закрыть]), согласно свидетельствам очевидцев, он утверждал, что если женщина впустила кота в мешок (как можно догадываться, намек нашего эстета на один из самых сложных и удивительных природных процессов, акт полового соединения), то она должна также и выпустить его, или же дать ему жизнь, чтобы, как он выразился, спасти свою собственную. С риском для своей собственной, последовала на то уместная реплика собеседника, которой придавал еще больше веса его сдержанный и достойный тон.