Текст книги "Не хочу, чтобы он умирал"
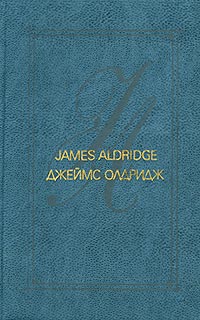
Автор книги: Джеймс Олдридж
Жанр: Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц)
7
Скотт думал о Люси Пикеринг; мысли о ней все еще его преследовали. Прежде он забывал о ней после нескольких дней, проведенных в пустыне. А теперь эти мысли начинали его тревожить.
И тревожило его не лицо с таким нежным овалом и продолговатыми, прозрачными глазами. Скотта волновал ее темперамент: ведь она никогда не давала себе воли. Как-то раз Пикеринг попросил Скотта подержать маленькую Эстер (Скотт унаследовал у Пикеринга и его порывистую, чудаковатую привязанность к ребенку), и он потянулся к девочке, как только она протянула к нему ручонки. Люси хотелось, чтобы отношения с детьми у нее были простые и ясные. Ей хотелось, чтобы и отношения со Скоттом у нее были такие же простые и ясные. Так свершалось столь типичное для англичан насилие над собственной душой. Ясность отношений с Пикерингом действительно была ей нужна, но со Скоттом такая ясность, пожалуй, была бы ей только во вред.
– Еще далеко? – прервал его мысли голос Бентинка.
Скотт вел Бентинка к плато, откуда они должны были увидеть «Харрикейн». Еще не светало, и они шли в темноте. Шли уже целый час, молча, с трудом передвигая ноги. За этот час Скотт успел принять решение, а Бентинк выйти из себя.
– Еще один бархан – и мы его увидим, – сказал Скотт. – Если к тому времени чуть-чуть посветлеет.
Бентинк заявил, что ему дьявольски холодно, что ему осточертела пустыня, осточертело плестись и прятаться, и снова куда-то идти без всякой цели и без всякого смысла.
– Когда летишь в самолете, – говорил он, – всегда куда-нибудь прилетаешь, а потом возвращаешься обратно. А вы идете в никуда, никогда и ни до чего не доходите и видите кругом одну только пустоту. Даже если вы куда-то стремитесь, вы стремитесь в никуда.
– Привычка, – сказал Скотт. Мысли его были заняты совсем другим. Он вдруг разоткровенничался. – Вы вернетесь прямо в Каир? – спросил он.
– Да, когда доставлю в Багуш самолет. В Гелиополис – моя эскадра еще там. А что?
– Вы, наверно, увидите Люси Пикеринг?
– Ах, вот вы о чем, старина… Стало быть, дело уже на мази?
– Передайте ей от меня несколько слов, – сказал Скотт, как всегда жестко и без запинки, хотя ему явно было нелегко.
– А почему бы вам ей не написать? – услужливо предложил Бентинк.
Теперь Скотт сконфузился, ему трудно было договорить до конца.
– Дело не такое уж важное, – сказал он. – Передайте ей, что я вернусь в Каир недели через две-три. Вот и все.
– Она вас ждет, старина?
– Дело не такое уж срочное, – настойчиво повторил Скотт. – Если хотите, передайте ей, не хотите – не надо.
– Не беспокойтесь, – рассмеялся Бентинк, – я ей непременно передам.
Он запел, и Скотт понял, что розовые щеки, пухлые губы и детские замашки взяли свое. Куотермейн спросил его, почему он недолюбливает Бентинка, но он промолчал и только пожал плечами. Тогда Куотермейн рассмеялся:
– Подсознательно, Скотти, вы уже почти примкнули к определенному лагерю. Но Бентинк – симпатяга. Он просто никак не может повзрослеть. У него на это не было времени.
Бентинк стал что-то насвистывать, и Скотт сказал ему, чтобы он перестал.
– Ладно, старина! – добродушно согласился тот. – Не буду! – Они подошли к песчаному холму.
– Его тут нет, – сказал Скотт, думая о «Харрикейне». Первые лучи зари – бледное, словно подернутое рябью облаков свечение утреннего неба – открыли их глазам плоскую поверхность плато, рыжую, голую от песка, гальки и кустарника. Плато начиналось где-то за их спиной и постепенно снижалось впереди, переходя в ниспадающую долину, за которой, казалось, раскинулось море, хотя до моря отсюда было чуть не сто миль. Снизу в лицо им дул ветерок.
– Где он должен был сесть? – спросил Бентинк.
– Где-нибудь на этом плато, – сказал Скотт.
Бентинк попросил у Скотта бинокль и осмотрел лежавшую перед ними долину.
– Вот это мило! – сказал юноша. – Столько пройти, и зря. Где же он может быть еще?
– Не знаю, и мы не станем терять времени, гадая об этом.
– Проклятый французишка, – сказал Бентинк.
– Проклятый Черч, – возразил ему Скотт. – С самого начала это была глупая затея. Слишком сложна, слишком рискованна… – Он замолчал.
– Ну что ж, пойдем назад, – устало предложил Бентинк.
– Есть еще одна возможность, – сказал Скотт, стараясь выбросить из головы все обидное, что он думал о Черче. – На этом плато дует всегда сильнее, чем где бы то ни было в пустыне. Вчерашний ветер мог показаться французу слишком порывистым.
– И он вернулся назад?
– Нет, сел на защищенном от ветра склоне, – сказал Скотт, немножко поразмыслив. – Давайте посмотрим там.
До края плато, откуда видна была нижняя часть склона, пришлось пройти еще целую милю. Скотт нетерпеливо топал впереди, и хотя он мельком и оглянулся, заслышав отдаленный рокот моторов, – не в воздухе, а на земле, – все же, не останавливаясь, пошел дальше. В этот миг над ними на большой высоте пролетели в кильватерном строю самолеты. Внезапно Скотт со своим спутником оказались у края плато – оно круто пошло вниз, как накатанная детскими салазками снежная дорога.
– Вот он, – сказал Бентинк, показывая на самолет, который был отсюда виден. – Но французик посадил машину на крыло. Поглядите, Скотти.
Скотт, взяв у него бинокль, заметил, что самолет как-то странно завалился набок, слегка подняв в воздух колесо и сильно задрав крыло.
– Что это, по-вашему, значит? – спросил он у Бентинка. – Авария?
– Не знаю. Давайте подойдем и посмотрим.
– Вечером, – сказал Скотт. – Надо соблюдать осторожность.
– Но вокруг на пятьдесят миль нет ни души, – нетерпеливо возразил Бентинк.
– Нам некуда спешить, – стоял на своем Скотт.
Бентинк с трудом проглотил готовое вырваться у него ругательство, и они пошли назад к вади.
Издали взглянув на самолет, Куотермейн сразу же рассудил, что с ним делать.
– Они могли начинить его минами-сюрпризами или просто заминировать. Может, они его нашли и нарочно поставили на крыло, но в этом я сомневаюсь, – говорил он Скотту, когда они на грузовике подъезжали к самолету. – Сейчас поглядим.
Скотт разрешил ему поглядеть. Куотермейн сам отлично закладывал мины-сюрпризы и умел их находить. Он осмотрел местность в радиусе пятидесяти метров от самолета, а кое-где и покопался в песке и камешках. Дойдя до машины, он ощупал шов, соединяющий крылья с фюзеляжем, словно приласкал его кончиками пальцев.
– А это для чего? – спросил Бентинк.
– Сюда летчик обычно кладет свои собственные бомбы, – сказал Сэм.
Куотермейн, насвистывая, влез на задранное крыло, и самолет слегка качнулся, не изменив, однако, своего положения. Прозрачный козырек был откинут. Куотермейн заглянул в кабину и с изумлением повернул голову к своим спутникам.
– Француз еще здесь, – крикнул он. – Но он мертв.
– Тогда вы его не трогайте, – сказал Скотт. – Слезайте.
Скотт сошел с грузовика, приказав остальным подождать, и побежал к самолету; Куотермейн ждал его, сидя на тупом конце крыла.
– В чем дело? – удивился он.
– Труп могли заминировать, – сказал Скотт.
– Будто я не знаю! – ответил Куотермейн. – Сейчас погляжу.
– Я погляжу сам. Слезайте.
– Да что это с вами, Скотти?.
– Дайте мне ваши щипцы, – сказал Скотт, сам удивляясь тому, что с ним происходит: у него вдруг томительно заныло сердце от страстного нежелания подвергать опасности Куотермейна и других своих людей, хотя он, не задумываясь, делал это уже тысячу раз.
Скотт вскарабкался наверх, чтобы заглянуть в кабину, и увидел одетое в кожу, тронутое разложением туловище. Непокрытая голова была вбита в щит управления. Темные курчавые волосы француза кишели серыми мушками. Мягкий кожаный шлем с большими наушниками болтался на тесемке вокруг шеи.
Скотт нагнулся над телом и пощупал, не подведены ли под одеждой провода к груди, потом, стараясь не дышать, просунул голову подальше, чтобы проверить, не заминировано ли сидение. Он чуть было не перекувырнулся прямо на мертвеца, но Куотермейн удержал его за ноги.
– К нему ничего не подведено, – сказал он, вернул Куотермейну щипцы и спрыгнул на песок, чтобы выплюнуть изо рта смрадный запах смерти.
– Удивительная вещь, – сказал Куотермейн. – Небольшой перекос, а голову расшибло вдребезги.
Скотт спросил у Бентинка, что могло случиться.
– Он, по-видимому, откинул козырек и снял шлем, чтобы сориентироваться при посадке, и слегка приподнялся, следя за тем, куда идет машина. Я и сам так поступаю в пустыне, – объяснил им Бентинк. – Ремни у него закреплены?
– Не знаю, – сказал Куотермейн. – Проверьте.
Бентинк покачал своей юной аристократической головой. Он уже мельком заглянул в кабину.
– Нет, спасибо. Мне ведь еще не раз придется торчать в этих душегубках. Проверяйте сами.
Куотермейн посмотрел:
– Ремни не закреплены.
– В том-то и вся штука, – сказал Бентинк. – Ему здорово не повезло. Заднее колесо ударилось о камень, когда самолет уже катился по земле. Если бы у француза был надет шлем, он бы вышел из самолета живой.
И тогда на ноги поднялся большой и грустный Сэм Гассун; он два раза поднатужился и вытащил скрюченный труп француза из люка. Сэм не бросил похолодевшее тело на землю, он отнес его на открытое место и положил лицом вниз, чтобы не было видно этой маски с разинутым от ужаса ртом. Один ботинок свалился, и сквозь дыру на пятке синего носка виднелась нога. Руки были тонки, как у балерины, но и они застыли навек; вдогонку за телом полетели мухи.
Самолет подперли шестами и мешками с песком, Сэм с Бентинком осмотрели поврежденное крыло и пробитую шину. Бентинк заявил, что сможет полететь, если они подрежут крыло и приведут в порядок шину. Сэм заверил его, что это дело нехитрое.
– Сломаете шею, – бесстрастно заметил Бентинку Скотт.
– А я не желаю еще целую неделю цепляться за борта вашего «шевроле», – упорствовал Бентинк. – Я завтра же полечу на этом самолете.
– Игра не стоит свеч, – настаивал Скотт. – Лучше возвращайтесь с нами.
Бентинк только смеялся, не желая его слушать.
– Вы ничегошеньки не смыслите в самолетах, старина. Эти машины летают куда лучше без кончиков крыльев. В сущности говоря, Сэму лучше обрезать их оба.
Скотт спорил, Бентинк ругался. Разговор принял крутой оборот: Скотт приказал Бентинку делать то, что ему ведено, а Бентинк – очень молодой и хрупкий, но весьма решительный, судя по тону, – послал Скотта к черту.
– Да не держите вы его, – сказал Куотермейн. – Пусть ломает голову, если хочет; видно, он здорово торопится к жене.
Скотт погрузился в упорное молчание, которое было так им знакомо. Товарищи знали: сколько бы они ни спорили, последнее слово останется за ним.
Сгоряча он сказал:
– Запрещаю!
Но стоило Скотту произнести это слово – решительно, в сердцах, с душевной болью, как тогда, когда Куотермейну грозила опасность подорваться на мине, – и он вдруг сдался, отвел от себя эту заботу, не захотел ничего решать:
– Делайте, как хотите. Сэм вам поможет.
8
Атыя и Скотт похоронили француза. Ночью, пока Сэм и молодой Бентинк обрезали крылья и чинили самолет, а Куотермейн светил им, прикрывая рукой фонарь, они расчистили взлетную дорожку – освободили от камней метров двести.
Когда Скотт и Атыя кончили свое дело, остальные трое что-то дружно мастерили и дружно смеялись. Они были очень высокого мнения о себе и в один голос кляли нехватку инструментов, пилу, которая сломалась, и дрели, нагревавшиеся во время работы.
Стоило им покорпеть вместе часок – и у них родилась дружба на всю жизнь; Скотт вдруг почувствовал себя одиноким. Сэм хорошо владел инструментами, Бентинк неплохо разбирался в аэродинамике, а Куотермейн суетился возле них, отпуская иногда забавные, а иногда и плоские шуточки, и был душой всего дела. Они отремонтировали машину, и Бентинк успел бы вылететь еще до рассвета, если бы удалось запустить мотор. Скотт не разрешил им его испытывать до самого отлета. Грузовикам нужно было дать возможность спокойно уйти, а шум мотора мог привлечь внимание ближних патрулей.
Скотт разбудил храпевшего Бентинка в четыре утра. Бентинк сложил вещевой мешок, Сэм приготовил еду, Атыя пометил ориентиры на карте. Он отдал Бентинку свою, с обозначенным на ней маршрутом. Сориентироваться Бентинку придется в воздухе.
Когда время отлета подошло, Скотт передал Бентинку все, что они нашли в карманах француза; юноша влез в кабину и стал запускать мотор. Аккумулятор рывками толкал пропеллер, но мотор не работал.
– Не знаю, как тут быть, Сэм, – крикнул сверху Бентинк. – Не хочу, чтобы сел аккумулятор. Он и так уже на исходе. Придется вам запустить мотор вручную – ему надо разогреться.
Бентинк, ставший неуклюжим в комбинезоне, вылез из кабины и показал Сэму, как толкать трехлопастный винт, чтобы не было перебоев.
Мотор два раза кашлянул.
– Теперь с подсосом в порядке, – крикнул Сэм, когда из глушителей вырвался черный дым. – Обождите немножко.
Бентинк подождал, а потом Сэм велел ему снова нажать на стартер.
Бентинк включил стартер. На этот раз мотор застрекотал, взревел, закашлялся, опять взревел, а потом заглох. Бентинк запустил его снова и крикнул Сэму, чтобы тот придержал хвост. Сэм обхватил руками хвост и крепко держал его, несмотря на воздушный поток. Бентинк снова и снова запускал мотор на максимальные обороты, а затем, прогрев его, довел до ровного гудения, дожидаясь, чтобы поднялись температура и давление. Уже почти рассвело, занималась заря.
– Прощайте, подонки! – закричал Бентинк. Он махал им рукой и смеялся. – До встречи в Каире! – Послав воздушный поцелуй, он крикнул: – Ну и миляга же вы, Сэм!
Они махали ему вслед, даже Атыя, который за пять дней не обмолвился с Бентинком ни словом – ни дурным, ни хорошим.
Бентинк дал для старта полное число оборотов. Он помахал Куотермейну, который, в свою очередь, помахал Сэму, чтобы тот отпустил хвост. Сэм отбежал, самолет ринулся вперед, ударяясь о землю хвостом, и взревел на расчищенной дорожке.
– Эх, если бы не крыло! – крикнул Куотермейн, перекрывая гул.
Правое крыло было опущено, но через миг Бентинк почувствовал, что у машины нарушено равновесие, и выровнял ее. Он повел самолет в пустыню, несмотря на то что машина беспокойно подрагивала на ходу. Бентинк оторвался от земли так мягко, что Скотт едва это заметил.
В воздухе обрезанное крыло снова опустилось, но Бентинк выпрямил самолет, набирая высоту. Он шел вверх, в самый рассвет, и начал медленно разворачиваться над стоящими внизу людьми.
– Что-то его вид мне не нравится, – сказал Скотт, наблюдая за тем, как болтает и сносит с курса самолет.
Медленно описывая над ними круг и набирая высоту, «Харрикейн» качался и нырял. Потом Бентинк пронесся мимо, выровнялся и лег на курс.
А они, эти люди пустыни, хоть им и надо было торопиться в путь, все стояли, ожидая, чтобы он скрылся из виду; и в это время взошло солнце.
– Сегодня к вечеру у него начнется медовый месяц, – сказал Куотермейн и вздохнул. – Что ж, больше будет Бентинков на этом дурно устроенном свете.
Скотт вспомнил девушку, милую, непосредственную девушку, жену Бентинка, его титулованную супругу, – от нее теперь зависит судьба всех Бентинков – и тех, кто уже умер и ушел в небытие, и последнего их отпрыска, который летит сейчас в подрагивающем самолете и скоро скроется из виду.
– Смотрите! – закричал Куотермейн.
Лицо Бентинка еще стояло перед глазами Скотта, а самолет внезапно сделал неловкий, противоестественный рывок. Он плавно кувырнулся носом вниз, а потом ринулся в крутое пике, которое быстро, удивительно быстро кончилось яркой вспышкой и ударом о землю. Сначала была вспышка, потом удар, а через несколько мгновений – взрыв, положивший всему конец. Бледное, металлическое пламя загорелось на миг и погасло.
Часть вторая
«В любви…»
9
Когда мысли Скотта обращались к Пикерингу, он вспоминал его с восхищением и острым чувством утраты. Не мог он представить себе Пикеринга мертвым; в его сознании Пикеринг был до дрожи живым – слишком много в нем было того, что не могло умереть и еще не получило ответа.
Пикеринг, и правда, носил за поясом дешевенькую губную гармошку, то и дело наигрывая на ней мотивы из опер. Для этого ему и нужна была гармошка. Пикеринг опустился и потерял в пустыне всю свою военную выправку – странный термин для такой деликатной вещи, как человеческое тело. Седые волосы были спутаны, борода всклокочена. Он этим даже щеголял, предпочитая чувствовать себя неряхой, а не подлецом, ибо, по его уверению, физическая чистоплотность обычно прикрывает у англичанина нечистоты души. Но, правду говоря, он был попросту человек неопрятный.
– Духом я – семит, – изрекал он с жаром, – и сторонник варварства. Рим я ненавижу, Грецию – ненавижу! Вам, Скотт, невдомек, что люди так и не сумели переварить технический прогресс. Вот за что я ненавижу Возрождение. В этом беда и англичан. Посмотрите на себя. Если бы вы смогли отбросить четыреста лет наследственного техницизма (а это ваша сущность, Скотт), вы были бы просто чудом!
У них шел нескончаемый спор о величии человека, человека – хозяина над своей техникой. Скотт знал, что Пикеринг его любит, поэтому он ни разу не попрекнул Пикеринга тем, что всю работу выполняет за него техника. Впрочем, он был согласен с Пикерингом. Англичане умудрились как-то незаметно потерять себя в своей технике.
Скотт защищал Пикеринга даже тогда, когда знал, что его обвиняют справедливо. Чудачество Пикеринга было непреложным фактом, но Скотт не желал об этом слышать, даже теперь. Он до сих пор отрицал историю с томатным соком, хотя сам был свидетелем того, как маршал авиации отказался выделить дорожно-топографическому отряду маленький самолет для их нужд. Пикеринг гостил у маршала и по-дружески с ним выпивал; он плеснул томатным соком не сразу, а лишь после того как сказал: «Ладно, сами купим самолет», – а маршал засмеялся, говоря, что военно-воздушные силы все равно не станут их обслуживать, так как частный самолет не может быть взят на военное снабжение. Из стакана, который держал Пикеринг, вылетела струя томатного сока, а сам он покинул прогулочную яхту, тяжело опираясь на руку Скотта, словно вдруг превратился в немощного и разбитого горем старца.
К концу его жизни многие (а может, и почти все солдаты в пустыне) верили, что Пикеринг – единственный человек, способный совладать с Роммелем. Все его знали или думали, что знают. И хотя Скотт понимал, что общее представление о Пикеринге в основном справедливо, где-то тут крылась серьезная ошибка.
Дело было, по-видимому, в чрезмерной героизации этого человека. Скотт не считал Пикеринга героем. Такое отношение было для него неприемлемо – может, потому, что он никогда как следует не знал Пикеринга и, в сущности, никогда как следует его не любил.
Только наполовину понятый, только наполовину мертвый… Скотт знал, что его собственные достоинства неразрывно слиты с достоинствами Пикеринга, видимо даже в представлении Люси. Он нуждался в ней для того, чтобы найти ответ на неясные для него вопросы, а она, быть может, нуждалась для того же самого в нем.
Люси не могла понять, как он разрешил Бентинку погибнуть, пилотируя неисправный самолет.
– Это так на вас не похоже. Почему вы позволили ему лететь, ведь было же ясно, что ему грозит опасность?
– Я и не собирался указывать Бентинку, что ему делать и чего не делать.
– Почему? Вы же его начальник.
– Бентинк не желал с этим считаться. – Скотт не злился, он только хотел, чтобы его поняли. – Бентинк был слишком молод, у него были свои понятия о том, как ему поступать. Но дело совсем не в этом. Он заверил меня, что самолет в порядке. Он понимал толк а самолетах. А я нет. Мне пришлось положиться на его мнение. Я не мог с ним спорить.
– Вам и не надо было спорить. Вы должны были сказать ему «нет», и все!
– Вы слишком многого от меня требуете, – вдруг распалился Скотт. – Он сам себя погубил. Сразу было видно, что он не жилец на этом свете. Не знаю почему – из-за его глупости, молодости или происхождения. Я и не стал с этим бороться. Примирился с неизбежным. Вот и все.
– Вам пора понять, что есть вещи, с которыми не мирятся, – настаивала она. – Бентинк привык своевольничать. Таким уж он уродился.
– Зато я уродился другим.
Он сказал это с презрением: она не понимала, почему умер Бентинк. Может, она не совсем понимала, почему таким же образом умер и ее собственный муж; может, до нее так и не дошла вся преступная глупость того, что происходит.
Вместо старого «форда» Пикеринга она купила «шевроле» и отвезла в нем Скотта на окраину пустыни к Гелиополису, чтобы обсудить смерть Бентинка, понять ее и снять камень с души, прежде чем им придется рассказать об этой гибели другим, – словно они могли ее объяснить только себе самим и никому другому.
– Все равно, вы не должны были его пускать, – твердила она снова и снова.
– Почему? – спросил Скотт, потеряв всякое терпение. – Я не мог его не пустить. Как я мог его не пустить? Если Бентинк стал летчиком, ему полагалось знать, что он делает. Ведь это же его профессия! В механике и аэродинамике нет правил безопасности специально для Бентинка.
– Вы должны были подумать о его безопасности.
– Он был летчиком, Люси. Человек должен знать свое дело. Почему вы этого не хотите понять? Вам это, по-видимому, недоступно.
– Я не инженер… – начала она.
– А я инженер. Но вопрос ведь совсем не в этом. Основной закон для нас всех – знать, что ты делаешь. Особенно теперь, на войне, когда от этого зависит и твоя собственная жизнь, и множество других жизней. Такие люди, как Черч, претендуют на то, что им сам бог велел быть исключением из этого правила и, пользуясь своим положением, губят уйму своих же людей. Бентинк тоже пренебрег правилами, но погубил себя самого. Вот и вся между ними разница. Он погубил себя сам.
– Я не хочу с вами спорить. Мне обидно с вами ссориться. Но все равно я с вами не согласна.
Да и ему не хотелось с ней спорить; он понимал, что они смотрят на это дело по-разному. И чем сильнее она горевала о Бентинке, тем сильнее он горевал о Пикеринге, и тем больше был уверен в своей правоте, в том, что Черч и в самом деле виновен, чего ей, видно, никогда не понять.
Смерть Бентинка поразила ее так глубоко, что она теперь цеплялась за Скотта; снова опустили завесу над ее жизнью, завесу, которая вот-вот готова была приподняться. А ведь настоящая драма еще и не началась…
– Я понимаю одно: за бессмысленностью этой смерти кроется какая-то чудовищная закономерность. Когда смерть уносит таких людей, как Пикеринг или бедняжка Бентинк, кажется, что она преследует особую цель.
Ему хотелось сказать ей, что закономерность всех бессмысленных смертей – в войне, в Черче, но он этого не сказал. Однако злость не позволила ему смолчать.
– Бессмысленная смерть должна уносить таких людей, как Черч. Тогда у нее была бы разумная цель.
– Какой ужас! Разве можно так говорить? – упрекнула она его. – Даже о человеке, которого вы не любите!
– Помните, – сказал он, – Пикеринг вам рассказывал, что он чувствовал, когда Черч распорядился послать Сэма в Бенгази только потому, что тот говорит по-итальянски и может услышать что-нибудь интересное? Ну, а если его поймают, тем хуже, ему тогда крышка… Я едва удержал Пикеринга, чтобы он не сел в «виллис», не помчался за пятьдесят миль на командный пункт к Черчу и не пустил ему пулю в лоб. Пикеринг был просто невменяем. И непременно пустил бы в Черча пулю, если бы я его не удержал силой.
– Но то был Пикеринг, – сказала она. – А то вы.
Скотт грустно кивнул:
– Верно. Иногда мне очень хочется быть Пикерингом. Кому-то надо ведь так разозлиться, чтобы сделать то, что необходимо…
Люси не пожелала больше об этом разговаривать. К тому же она, видно, предвкушала что-то совсем другое, куда более приятное, чем трагедия…
Пока Скотта не было, она сменила не только машину – она переехала в другой дом. Вместо беленькой квартиры Пикеринга в Гезире она жила теперь в старом доме в Гелиополисе. Тут не было той стерильной чистоты, которая встречала возвращавшегося из пустыни косматого и перепачканного Пикеринга: дом был старый, с высокими потолками, просторный, во французском стиле и совсем не похожий на белоснежную, как больница, квартиру в Гезире. Если там Люси пыталась организовать для Пикеринга образцово-гигиенический быт, которого ему не хватало в пустыне, – тут она постаралась все устроить в угоду Скотту.
Ей казалось, что Скотт нуждается в чем-то смягчающем его жесткую оболочку, его массивную, волевую мужественность, – в просторном, покойном жилье, с благородными линиями высоких потолков. Она решила, что Скотту нужно привить склонность к удобствам, к изяществу, лишенному практической пользы. Она ему эту склонность и прививала. Она уверяла, что дом ему должен понравиться. Она утверждала, что в том, другом доме больше нет надобности – не было смысла его сохранять. Тут будет лучше, у этого дома свои достоинства. Возмещать то, чего не хватает, – вот в чем, казалось, был ее талант в повседневной жизни.
Скотт уклонился от этого разговора и сказал:
– Наверно, и Джоанне здесь будет лучше. На острове сыро.
– И от детского сада далеко, – добавила она.
Но он и не пытался разгадать ее намерений. К тому же все было испорчено смертью Бентинка.
Он не жил у нее, да никто ему этого и не предлагал. Скотт поселился в пансионе, который держала полуслепая тетка Сэма Гассуна. В побуревшем от зноя саду у нее жила черепаха, и старуха вечно боялась сослепу на нее наступить. Черепаха пряталась в корнях пыльного мангового дерева и выходила оттуда только для того, чтобы попить и поесть хлебных крошек. Старуха купала ее каждый день в ведре с водой и рассказывала Скотту, что черепаха любит хлеб, бананы и всякие фрукты, но не ест ни шпината, ни латука.
– Она и слышать не хочет о латуке, – говорила тетя Клотильда, и ее желтое лицо, на котором светились большие очки с толстыми стеклами, было обращено в пустоту, где она пыталась найти Скотта. Старуха его не видела. Она познакомилась с ним по голосу; когда Сэм поцеловал ее и сказал, что Скотт – свой, близкий, как брат родной, она подала ему руку.
– Ты совсем еще ребенок, Сэм, – сказала она племяннику. – И тратишь слишком много денег. Но все равно, ты – хороший мальчик.
Сэм истратил часть своих денег на то, чтобы отблагодарить ее за попечение о Скотте, и купил ей длиннохвостого попугая, но, пожалев птицу, выпустил ее на свободу, так и не дойдя до пансиона. Когда Скотт сказал ему (сразу же об этом пожалев), что ястреб, орел, а то и просто коршун заклюет попугая еще до захода солнца, Сэм очень огорчился, и Скотт долго корил себя, зачем он, не подумав, сказал ему эту незамысловатую правду.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































