Текст книги "Рассказы (сборник)"
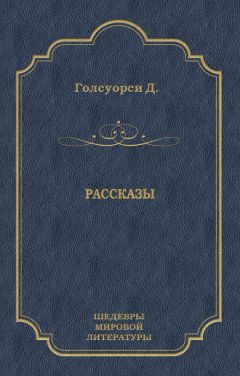
Автор книги: Джон Голсуорси
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 20 страниц)
Он встал, остро чувствуя себя несчастным. Он видел, что она следит за ним взглядом, и знал: она боится, что он уйдет. Женщина сказала заискивающим тоном:
– Извини, что я так разболталась, хороший мой: мне не с кем поговорить. Если тебе это не нравится, я буду тиха, как мышка.
Он пробормотал:
– Нет, почему же… Говори. Я вовсе не обязан соглашаться с тобой, да я и не соглашаюсь.
Она тоже встала, прислонилась к стене; косой свет луны тронул ее бледное лицо и темное платье; она заговорила снова – медленно, негромко, с горечью:
– Скажи сам, милый, что это за мир, если в нем мучают миллионы ни в чем не повинных людей? Мир прекрасен, да? Чепуха! Дурацкая чепуха, как вы, молодые ребята, говорите. Ты вот толкуешь о товарищах и о храбрости на фронте, где люди не думают о себе. Что ж, и я не так уж часто думаю о себе. Мне все равно, я пропащий человек… Но я думаю о своих, на родине, о том, как они там страдают и горюют. Я думаю о всех несчастных людях и здесь и там, которые потеряли своих любимых, и о беднягах пленных. Как же не думать о них? Думаю, вот и не верю, что мир хорош.
Он стоял молча, кусая губы.
– Послушай, у каждого только одна жизнь, и та скоро проходит. И, по-моему, хорошо, что это так.
Он возмутился:
– Нет, нет! В жизни есть нечто большее.
– Ага, – продолжала она тихо. – Ты думаешь, что люди воюют ради будущего. Вы гибнете за то, чтобы жизнь стала лучше, да?
– Мы должны драться до победы, – процедил он сквозь зубы.
– «До победы»… Немцы тоже так думают. Каждый народ думает, что, если он победит, жизнь станет лучше. Но этого не будет, будет еще гораздо хуже.
Он отвернулся и взялся за фуражку, но ее голос преследовал его:
– А мне безразлично, кто победит. Я всех презираю… Звери! Ну куда же ты, не уходи, мой хороший… Я больше не буду.
Он вытащил из кармана гимнастерки несколько ассигнаций и, положив их на стол, подошел к ней.
– Прощай.
Она жалобно спросила:
– Ты в самом деле уходишь? Я тебе не нравлюсь?
– Нет, ты мне нравишься.
– Значит, ты уходишь, потому что я немка?
– Нет.
– Так почему же не хочешь остаться?
Он хотел сказать: «Потому что ты меня расстроила», но только пожал плечами.
– И ты даже не поцелуешь меня?
Он наклонился и поцеловал ее в лоб, но она не дала ему выпрямиться, запрокинула голову и, прильнув к нему, прижалась губами к его губам.
Он вдруг сел и сказал:
– Не надо! Я не хочу чувствовать себя скотиной.
Она рассмеялась.
– Ты странный мальчишка, но очень хороший. Ну, поговори со мной немножко. Со мной никто не разговаривает, а мне больше всего хочется поговорить. Скажи, ты видел много пленных немцев?
Он вздохнул то ли облегченно, то ли с сожалением.
– Да, порядочно.
– Среди них были и люди с Рейна?
– Наверное, были.
– Они очень горюют?
– Некоторые горевали, другие были рады, что попали в плен.
– Ты когда-нибудь видел Рейн? Правда, он красив? Он особенно хорош ночью. Лунный свет там такой же, как здесь, и во Франции, и в России, везде. И деревья везде одинаковы, и люди так же встречаются под ними и любят, как здесь. Ох, как это глупо – воевать!.. Как будто люди не любят жизнь.
Ему хотелось сказать: «Никогда не узнаешь, как хорошо жить, пока не встретишься со смертью, потому что до тех пор ты не живешь. И когда все так думают, когда каждый готов отдать жизнь за другого, то это дороже всего остального на свете». Но он не мог сказать это женщине, которая ни во что не верила.
– Как ты был ранен, милый?
– Мы шли в атаку через открытую местность… Во время перебежки в меня угодили сразу четыре пули.
– А ты не испугался, когда приказали идти в атаку?
Нет, в тот раз он ничего не боялся. Он покачал головой и рассмеялся:
– Это было здорово. Мы много смеялись в то утро. И надо же, чтобы меня так быстро подстрелили! Экое свинство!
Она испуганно уставилась на него.
– Вы смеялись?
– Ну да. И знаешь, кого я первым увидел, когда на следующее утро пришел в себя? Моего старикана – полковника… Он наклонился надо мной и вливал мне в рот лимонный сок. Если б ты знала моего полковника, ты бы тоже верила, что в жизни есть хорошее, хоть и зла много. В конце концов, умирают только раз, так уж лучше умереть за родину.
Лунный свет придавал ее лицу с внимательными, чуть потемневшими глазами какое-то очень странное, неземное выражение. Она прошептала:
– Нет, я ни во что не верю. Сердце во мне умерло.
– Тебе это только кажется. Если бы это было так, ты не плакала бы, когда я встретил тебя.
– Если бы сердце мое не умерло, думаешь, я могла бы жить так, как я живу?.. Каждую ночь бродить по улицам, делать вид, что тебе нравятся незнакомые мужчины… Никогда не слышать доброго слова… Даже не разговаривать, чтобы не узнали, что я немка. Скоро я начну пить, и тогда мне капут. Видишь, я трезво смотрю на вещи. Сегодня я немного расчувствовалась – это все луна. Но я теперь живу только для себя. Мне на все и на всех наплевать.
– Как же так? Ты только что жалела свой народ, пленных и вообще…
– Да, потому что они страдают. Те, что страдают, похожи на меня, значит, выходит, что я жалею себя, вот и все. Я не такая, как ваши английские женщины. Я знаю, что делаю. Пусть я непорядочная, но голова у меня работает, она не отупела.
– И сердце тоже.
– Дорогой, ты очень упрям. Но вся эта болтовня о любви – чепуха. Мы любим только себя.
Угнетенный тем, что снова услышал затаенную горечь в ее тихом голосе, он встал и высунулся из окна. В воздухе уже не чувствовалось ни духоты, ни запаха пыли. Он ощутил пальцы Мэй в своей руке, но не пошевелился. Она такая черствая и циничная – так почему он должен жалеть ее? И все же он жалел ее. Ее прикосновение вызывало у него желание защитить ее, оградить от горя. Ему, совсем незнакомому человеку, она излила свою душу. Он слегка пожал ей руку и почувствовал ответное движение ее пальцев. Бедняжка! Видно, многие годы никто не относился к ней с такой дружеской симпатией. А ведь, в конце концов, чувство товарищества важнее и сильнее всего. Оно было всюду, как это лунное сияние («Такое же и в Германии», – сказала она), как этот белый чарующий свет, обволакивающий деревья в пустынном, молчаливом сквере и превращающий оранжевые фонари в причудливые, бесполезные игрушки. Он повернулся к девушке, – несмотря на пудру и помаду на губах, лицо ее поразило его своей недоброй, но волнующей красотой. И тут у него появилось очень странное ощущение: вот они стоят тут оба, как доказательство, что доброта и человечность сильнее вожделения и ненависти, сильнее низости и жестокости. Внезапно ворвавшиеся откуда-то с соседних улиц голоса мальчишек-газетчиков заставили его поднять голову; крики усиливались, сталкивались друг с другом, мешая разобрать слова. Что они кричат? Он прислушался, чувствуя, как замерла рука девушки на его плече – Мэй тоже слушала. Крики приближались, становились громче, пронзительнее; и лунная ночь внезапно наполнилась фигурами, голосами, топаньем и бурным ликованием. «Победа!.. Блестящая победа! Официальное сообщение!.. Тяжелое поражение гуннов! Тысячи пленных!» Все мешалось, неслось куда-то мимо, опьяняя юношу, наполняя его дикой радостью, и, высунувшись наружу, он размахивал фуражкой и кричал «ура!» как безумный. И все вокруг как будто трепетало и отзывалось на его волнение. Потом он отвернулся от окна, чтобы выбежать на улицу, но, наткнувшись на что-то мягкое, отпрянул. Эта девушка! Она стояла с искаженным лицом, тяжело дыша и сжав руки. И даже сейчас, охваченный этой безумной радостью, он пожалел ее. Каково ей, одной среди врагов, слышать все это! Хотелось что-то сделать для нее. Он наклонился и взял ее за руку – в нос ему ударил запах пыльной скатерти. Девушка отдернула руку, сгребла со стола деньги, которые он положил туда, и протянула ему.
– Возьми… Мне не нужно твоих английских денег… Возьми их! – И вдруг она разорвала бумажки надвое, потом еще раз, еще, бросила клочки на пол и, повернувшись к нему спиной, оперлась на стол, покрытый пыльным плюшем, опустила голову.
А он стоял и смотрел на эту темную фигуру в темной комнате, четко очерченную лунным светом. Стоял только одно мгновение, затем бросился к двери…
Он ушел, а она не шевельнулась, не подняла головы – она, которая ни во что не верила, которой все было безразлично. В ушах у нее звенели ликующие крики, торопливые шаги, разговоры; стоя посреди обрывков денег, она всматривалась в лунный свет и видела не эту ненавистную комнату и сквер напротив, а немецкий сад, и себя маленькой девочкой, собирающей яблоки, и большую собаку рядом, и сотни других картин, таких, которые проносятся в воображении человека, когда он тонет. Сердце ее переполнилось, она упала на пол и приникла лицом, а потом и всем телом к пыльному ковру.
«Собака околела»
Перевод В. Рогова
{58}58
Впервые опубликован в сборнике Tatterdemalion. London: Heinemann, 1920.
На русском языке впервые опубликован в в Собр. соч. в 16 т. Т. 13. М.: Правда, 1962; пер. В. Рогова.
[Закрыть]
До окончания «великой войны» я не предполагал, что некоторые из оставшихся в тылу также принесли огромную жертву.
Мой друг Харбэрн, ныне покойный, был родом из Нортамберленда{59}59
Нортамберленд – графство на севере Англии у побережья Северного моря.
[Закрыть] или еще откуда-то с севера; это был коренастый седеющий человек лет пятидесяти, с коротко остриженной головой, небольшими усами и багровым лицом. Мы с ним жили по соседству за городом и оба держали собак одной породы – эрделей, не меньше чем по три сразу, так что мы могли случать их и этим были полезны друг другу. Мы часто ездили в город одним поездом. Его пост давал ему возможность выдвинуться, но до войны он мало этим пользовался, погруженный в откровенное безразличие, почти переходившее в цинизм. Я считал его типичным грубовато-добродушным англичанином, который гордится своим цинизмом и привержен к спорту – он увлекался гольфом и ходил на охоту, как только представится возможность; он казался мне хорошим товарищем, всегда готовым помочь в беде. Был он холост и жил в домике с верандой недалеко от меня, а рядом с ним стоял дом немецкой семьи, по фамилии Гольштейг, прожившей в Англии около двадцати лет. Я довольно хорошо знал эту дружную троицу – отца, мать и сына. Отец, уроженец Ганновера, чем-то занимался в городе, мать была шотландка, а сын – его я знал и любил больше остальных – только что окончил школу. У него было открытое лицо, голубые глаза и густая светлая шевелюра, зачесанная назад без пробора, – симпатичный юноша, несколько похожий на норвежца. Его мать обожала его; это была настоящая горянка из Западной Шотландии, скуластая брюнетка, уже начавшая седеть, улыбалась она мило, но насмешливо, а ее серые глаза были как у ясновидящей. Я несколько раз встречал Харбэрна в их доме, потому что он наведывался туда по вечерам поиграть с Гольштейгом в бильярд, и все семейство относилось к нему по-дружески. На третье утро после того, как мы объявили Германии войну, Харбэрн, Гольштейг и я ехали в город в одном вагоне. Мы с Харбэрном непринужденно беседовали. Но Гольштейг, плотный блондин лет пятидесяти, с острой бородкой и голубыми, как у сына, глазами, сидел уткнувшись в газету, пока Харбэрн вдруг не спросил его:
– Послушайте, Гольштейг, а правда, будто ваш мальчик хотел уехать и вступить в немецкую армию?
Гольштейг оторвался от газеты.
– Да, – ответил он. – Он родился в Германии и поэтому подлежит призыву. Слава богу, что ему невозможно уехать!
– А как же мать? – спросил Харбэрн. – Неужели она отпустила бы его?
– Она очень убивалась бы, конечно, но она считает, что долг прежде всего.
– «Долг»! Да господь с вами, что вы такое говорите! Он ведь наполовину британец и прожил здесь всю жизнь! Отродясь ничего подобного не слыхал!
Гольштейг пожал плечами.
– В такие критические времена остается одно: строго следовать закону. Он германский подданный призывного возраста. Мы думали о его чести; но, конечно, мы очень рады, что теперь ему никак не попасть в Германию.
– Черт меня дери! – воскликнул Харбэрн. – Вы, немцы, исполнительны до тупости!
Гольштейг не ответил.
В тот же вечер мы возвращались из города вместе с Харбэрном и он сказал мне:
– Немец всегда немец. Ну не удивил ли вас утром этот Гольштейг? Столько лет здесь прожил, женился здесь, а остался немцем до мозга костей.
– Что ж, – отозвался я, – поставьте себя на его место.
– Не могу; я бы ни за что не стал жить в Германии. Послушайте, Камбермир, – добавил он, помолчав, – а этот самый Гольштейг не опасен?
– Конечно, нет!
Этого мне не следовало говорить Харбэрну, если я хотел восстановить его доверие к Гольштейгам, потому что не сомневался в их порядочности. Скажи я: «Конечно, он шпион» – и Харбэрн сразу встал бы на защиту Гольштейга, потому что в нем от природы заложен был дух противоречия.
Я привожу этот краткий разговор единственно из желания показать, как давно Харбэрн думал о том, что впоследствии так занимало и вдохновляло его, пока он – как бы это лучше выразиться – не умер за отечество.
Я не уверен, какая именно газета первая подняла вопрос о необходимости интернировать всех «гуннов»{60}60
Гунны – воины-кочевники, пришедшие в Европу в 70-х гг. IV в. и подчинившие себе ряд германских племен; предпринимали опустошительные походы во многие страны. Во время Первой мировой войны (1914–1918) в странах, противостоявших Германии, гуннами презрительно называли немцев.
[Закрыть], но, по-моему, он был поднят скорее потому, что многие из наших печатных органов каким-то нюхом чуют, что больше понравится публике, а никак не из глубоких идейных соображений. Во всяком случае, я помню, как один редактор рассказывал мне, что он целое утро читал одобрительные письма читателей. «В первый раз, – сказал он, – читатели так быстро откликнулись на нашу кампанию. Почему паршивый немец должен перехватывать мою клиентуру?» И прочее в том же духе. «Британия для британцев!»
– Не очень-то повезло людям, которые так нам польстили, когда сочли, что в нашей стране можно лучше жить, чем в других, – заметил я.
– Да, не очень, – согласился он. – Но на войне как на войне. Вы ведь знаете Харбэрна? Видели его статью? Крепко загнул!
При следующей встрече Харбэрн сразу сел на своего конька.
– Помяните мое слово, – заявил он, – я ни одному немцу не дам здесь остаться!
Его серые глаза, казалось, были из стали и кремня, и я почувствовал, что говорю с человеком, который так много размышлял о немецких зверствах в Бельгии{61}61
Немецкие зверства в Бельгии – в самом начале Первой мировой войны Бельгия, объявившая о своем нейтралитете, отказалась беспрепятственно пропустить германские война через свою территорию и была после недолгого упорного сопротивления захвачена Германией. Пресса стран Антанты, противостоявшей Германии в войне, много писала о грубом обращении немцев с мирным населением Бельгии.
[Закрыть], что теперь стал одержим какой-то отвлеченной ненавистью.
– Конечно, – сказал я, – среди них оказалось много шпионов, но…
– Все они шпионы и негодяи! – закричал он.
– А многих ли немцев вы знаете лично? – спросил я.
– Слава богу, и десятка не наберется.
– И они все – шпионы и негодяи?
Он посмотрел на меня и рассмеялся, но смех его походил на рычание.
– Вы стоите за справедливость и прочее слюнтяйство, – сказал он, – а их надо брать за глотку, иначе нельзя.
У меня на языке вертелся вопрос, собирается ли он брать за глотку Гольштейгов, но я промолчал из боязни навредить им. Я сам разделял тогдашнюю общую ненависть к немцам и должен был ее обуздывать из боязни лишиться элементарного чувства справедливости. Но Харбэрн, как я видел, дал ей полную волю. Он и держался иначе и вообще стал словно другим человеком. Он утратил приветливость и добродушный цинизм, которые делали его общество приятным; он точно был чем-то снедаем, – одним словом, его одолела навязчивая идея.
Я как карикатурист не могу не интересоваться психологией, и я задумался о Харбэрне: по-моему, невозможно было не удивляться тому, что человек, которого я всегда считал воплощением добродушия и невозмутимости, вдруг оказался таким одержимым. Я придумал о нем такую теорию. «Это, – сказал я себе, – один из «железнобоких»{62}62
Железнобокие – фанатичные солдаты-пуритане, основа республиканской армии Кромвеля во время английской буржуазной революции XVII в.
[Закрыть] Кромвеля, опоздавший родиться. В ленивое мирное время он не находил отдушины для той грозной силы, что в нем таилась, – любовь не могла бы зажечь его, поэтому он и казался таким безразличным ко всему. И вдруг в эту бурную пору он ощутил себя новым человеком, он был препоясан и вооружен ненавистью – ранее неведомым ему чувством, жгучим и возвышенным, ибо теперь ему есть на что обрушиться ото всей души. Право же, это крайне интересно. Кто бы мог подумать о таком превращении? Ведь внешне тот Харбэрн, которого я знал до сих пор, ничем не был похож на «железнобокого». Его лицо послужило мне для карикатуры, где был изображен человек-флюгер, неизменно указывающий на восток, откуда бы ни дул ветер. Он узнал себя и при встрече со мной засмеялся, – без сомнения, он был несколько польщен, но его смех звучал свирепо, как будто он ощущал во рту солоноватый привкус крови.
– Шутите на здоровье, Камбермир, – заявил он, – но теперь-то я вцепился в этих свиней мертвой хваткой!
И, несомненно, он сказал правду – этот человек стал серьезной силой: несчастных немцев – некоторые из них, конечно, были шпионами, но большинство, несомненно, были ни в чем не повинны – каждый день отрывали от работы и семей и бросали в концлагеря; и чем больше их бросали туда, тем больше повышались его акции слуги отечества. Я уверен, что он это делал не ради славы – это было для него крестовым походом, «священным долгом»; но, по-моему, он к тому же впервые в жизни почувствовал, что живет по-настоящему и получает от жизни ее лучшие дары. Разве он не разил врага направо и налево? По-моему, он мечтал сражаться по-настоящему, на фронте, но не позволяли годы, а он не принадлежал к тем чувствительным натурам, которые не могут губить беззащитных, если рядом нет никого посильнее. Помню, я как-то спросил его:
– Харбэрн, а вы когда-нибудь думаете о женах и детях ваших жертв?
Он оскалился, и я увидел, какие у него прекрасные зубы.
– Женщины еще хуже мужчин, уверяю вас, – ответил он. – Будь моя власть, я бы их тоже упек. А что до детей, то без таких отцов им только лучше.
Он, право же, слегка помешался на этой почве, не больше, конечно, чем любой другой человек с навязчивой идеей, но и никак не меньше.
В те дни я все время ездил с места на место и покинул свой загородный коттедж, так что не видел Гольштейгов и, признаться, почти забыл о том, что они существуют. Но, вернувшись в конце 1917 года домой после отлучки по делам Красного Креста, я нашел среди своей корреспонденции письмо от миссис Гольштейг.
«Дорогой мистер Камбермир!
Вы всегда по-дружески относились к нам, поэтому я и осмелилась Вам написать. Вероятно, Вы знаете, что больше года назад моего мужа интернировали, а в прошлом сентябре он был выслан. Он, конечно, все потерял, но пока что здоров и может жить в Германии без особой нужды. Мы с Гарольдом остались здесь и еле перебиваемся на мои маленькие доходы. Мы теперь считаемся «гуннами в нашем тылу» и фактически ни с кем не видимся. Какая жалость, что нельзя заглянуть друг другу в сердце, не правда ли? Я раньше думала, что мы народ, высоко ставящий справедливость, но теперь поняла горькую правду: в трудное время справедливость невозможна. Гарольду гораздо хуже, чем мне; он очень сильно переживает свое вынужденное бездействие и, наверное, предпочел бы «выполнять свой долг» в концлагере, чем оставаться на свободе, испытывая всеобщее недоверие и презрение. Но я все время в ужасе: а вдруг и его интернируют? Когда-то вы были в дружеских отношениях с мистером Харбэрном. Мы его не видели с первой военной весны, но знаем, что он принимал активное участие в антигерманской агитации и стал очень влиятельным человеком. Я не раз думала, в состоянии ли он понять, что значит это интернирование без разбора для семей интернированных. Не могли бы вы при случае поговорить с ним и объяснить ему это? Если бы он и немногие другие перестали давить на правительство, преследования прекратились бы, так как власти не могут не знать, что все действительно опасные элементы давно изолированы. Вы и представить себе не можете, до чего мне теперь одиноко у себя в родной стране; если я потеряю и Гарольда, то могу совсем пасть духом, хотя это мне и несвойственно.
Остаюсь, дорогой мистер Камбермир, искренне Вас уважающая
Элен Гольштейг».
Прочитав письмо, я был охвачен состраданием: не требовалось большого воображения, чтобы представить себе, каково приходится этой одинокой матери – англичанке и ее сыну; я тщательно обдумал, уместно ли говорить об этом с Харбэрном, и стал припоминать пословицы: «слово – серебро, молчание – золото», «бери быка за рога», «семь раз отмерь – один отрежь», «куй железо, пока горячо», «поспешишь – людей насмешишь», «промедление смерти подобно». Они были настолько противоречивы, что я обратился за помощью к здравому смыслу, который подсказал мне выждать. Но через несколько дней я встретил Харбэрна в клубе и, найдя его в хорошем расположении духа, поддался внутреннему порыву.
– Кстати, – сказал я, – вы помните Гольштейгов? Я на днях получил письмо от бедной миссис Гольштейг: она просто в ужасе, что ее сына, такого милого юношу, могут интернировать. Как по-вашему, не пора ли оставить в покое этих несчастных?
Как только я упомянул фамилию Гольштейг, я сразу же увидел, что допустил ошибку, и продолжал говорить только потому, что остановиться было бы еще хуже. Харбэрн сразу весь ощетинился и сказал:
– Гольштейг! Этот щенок, который собирался при первой возможности вступить в германскую армию? Черт подери, неужели он еще не сидит? Путное же у нас правительство, нечего сказать! Ну да ладно, я его попомню.
– Харбэрн, – проговорил я, запинаясь, – ведь это частный разговор. Юноша по крови наполовину англичанин, и он мой друг. Я думал, что он и ваш друг тоже.
– Мой? – переспросил он. – Нет уж, спасибо. Я с полукровками не знаюсь. А что касается частных разговоров, Камбермир, то во время войны не может быть никаких частных разговоров о том, от чего зависит безопасность государства.
– Господи! – воскликнул я. – Да вы и вправду помешались на этом. Чтобы этот мальчик, с его воспитанием…
Он ухмыльнулся.
– Рисковать мы не хотим, – отрезал он, – и исключений не делаем. У него не будет другого выбора. Британская армия или концентрационный лагерь. Я уж об этом позабочусь.
– В таком случае, – сказал я, вставая, – нашей дружбе конец. Я не потерплю такого злоупотребления моим доверием!
– Ах, шут вас побери, – пробурчал он. – Сядьте! Все мы должны исполнять свой долг.
– Вы когда-то в разговоре с Гольштейгом называли это немецким чудачеством.
Он засмеялся.
– Ах да, – сказал он. – Помню, помню, тогда в поезде. Ну, да я с тех пор переменился. А щенка следовало бы посадить вместе с прочими псами. Но, впрочем, забудем об этом.
Тем дело и кончилось, потому что он сказал: «Забудем об этом», а слово свое он держал. Мне же была наука: не соваться впредь к людям, столь непохожим на меня характером. Я написал Гольштейгу-младшему и пригласил его к себе пообедать. Он поблагодарил и отказался, так как не имел права уезжать от своего дома дальше пяти миль. Искренне беспокоясь о нем, я приехал к ним на мотоцикле. Юноша очень переменился: он стал задумчив, ушел в себя, мало-помалу озлобился. Он готовился идти по стопам отца, но теперь из-за своей национальности не мог уехать из дому, и ему оставалось только выращивать овощи на огороде да читать поэтов и философов, а это не могло развеять его горьких дум. Миссис Гольштейг, чьи нервы явно напряглись до предела, была преисполнена горечи и совсем потеряла способность смотреть на войну беспристрастно. Все неприглядные человеческие качества, все жестокие люди, которых поток великой борьбы неизбежно выносит на поверхность, казались ей теперь типичными для национального характера ее соотечественников, и она не делала скидки ни на то, что не ее соотечественники начали эту борьбу, ни на то, что такие же неприглядные качества и жестокие люди явно оказались на поверхности и в других странах, участвовавших в войне. Уверенная в честности мужа, она воспринимала его интернирование и высылку не только как вопиющую несправедливость, но и как личное оскорбление. Высокая, худая, со скуластым лицом, она словно пылала каким-то внутренним огнем. Эта женщина вряд ли хорошо влияла на юношу, который остался с ней в пустом доме, покинутом даже слугами. Я провел там тяжелый день, пытаясь убедить себя, что все не так уж плохо, и вернулся в город с горьким чувством, очень жалея их.
Вскоре я опять уехал по делам Красного Креста и вернулся в Англию только в августе 1918 года. Я был нездоров и поехал к себе в загородный коттедж, где теперь снова мог жить.
В то время свирепствовала испанка{63}63
Испанка – эпидемия гриппа (1918–1919), унесшая во всем мире миллионы жизней.
[Закрыть], и я заболел ею в легкой форме. Когда я начал выздоравливать, первым навестил меня Харбэрн, проводивший за городом летний отпуск. Он не пробыл у меня и пяти минут, как сел на своего конька. Должно быть, нервы мои были не в порядке после болезни, потому что я не могу выразить, с каким отвращением я тогда его слушал. Он казался мне псом, который, урча, грызет заплесневелую кость и испытывает при этом какую-то ярость. Он держался победителем, что было неприятно, хотя и не удивительно, потому что он стал влиятельнее, чем когда-либо прежде.
«Боже, храни меня от навязчивых идей!» – подумал я, когда он ушел. В тот же вечер я спросил мою экономку, не видала ли она в последнее время мистера Гольштейга-младшего.
– Что вы! – ответила она. – Его вот уж пять месяцев, как посадили. Миссис Гольштейг ездит к нему на свидание раз в неделю. Пекарь говорит, что она совсем повредилась в рассудке, все бранит правительство за то, что так поступили с ее сыном.
Признаться, у меня не хватило духу пойти повидать ее.
Примерно через месяц после подписания перемирия я опять поехал за город. Харбэрн ехал в одном поезде со мной и подвез меня до дому со станции. К нему отчасти вернулось его былое добродушие, и он пригласил меня к себе ужинать на другой день. Это была наша первая встреча после победы. Мы великолепно поели и выпили отличного старого портвейна из его погреба за Грядущее. Только когда мы уселись с бокалами в приятном полумраке у камина, где пылали дрова, и два эрделя улеглись у наших ног, он заговорил на свою любимую тему.
– Что бы вы думали? – спросил он, резким движением наклоняясь к огню. – Кое-кто из этих паршивых слюнтяев хочет выпустить наших гуннов. Но тут уж я постарался! Никто из них не выйдет на свободу, если не уберется отсюда в свою драгоценную Германию.
И я увидел в его глазах знакомый блеск.
– Харбэрн, – сказал я, движимый неодолимым порывом, – вам бы полечиться.
Он уставился на меня, ничего не понимая.
– «Это путь к безумию»{64}64
«Это путь к безумию» – цитата из трагедии У. Шекспира «Король Лир».
[Закрыть], – продолжал я. – Ненависть – чертовски коварная болезнь, душа ее долго не выдерживает. Вам бы надо ее очистить.
Он расхохотался.
– «Ненависть»! Да она и дает мне силу. Чем больше я ненавижу этих гадин, тем лучше я себя чувствую. Выпьем за погибель всех проклятых гуннов.
Я пристально посмотрел на него.
– Я часто думаю, – сказал я, – что не было бы на свете людей несчастнее «железнобоких» Кромвеля или революционеров во Франции, если б они достигли цели.
– А я тут при чем? – в изумлении спросил он.
– Они тоже губили людей из ненависти и уничтожали врагов. А когда «кончен труд»{65}65
«Кончен труд» – цитата из трагедии У. Шекспира «Отелло».
[Закрыть] человека…
– Вы бредите, – оборвал он меня.
– Отнюдь нет! – возразил я; меня задело его замечание. – Вы странный случай, Харбэрн. Почти все наши германофобы-профессионалы или извлекают из этого выгоду, или это просто слабые люди, которые поддались чужому влиянию; они быстро забудут свою ненависть, когда она перестанет быть источником дохода или боевым кличем для попугаев. А вы этого не можете. Для вас это мания, религия. Когда прибой схлынет и оставит вас на мели…
Он стукнул кулаком по ручке кресла, опрокинул свой бокал и разбудил собаку, спавшую у его ног.
– Я не дам ему схлынуть! – воскликнул он. – Я буду продолжать – помяните мое слово!
– Вспомните Канута!{66}66
Канут – король Англии и Дании; согласно легенде, будучи опьянен властью, приказал морю отхлынуть во время прилива.
[Закрыть] – пробормотал я. – Кстати, можно мне еще портвейна?
Я встал, чтобы налить себе вина, и вдруг, к изумлению своему, увидел, что в стеклянной двери, выходящей на веранду, стоит женщина. Она, без сомнения, только что вошла, так как еще держалась за портьеру. Это была миссис Гольштейг; седины, развевавшиеся вокруг ее головы, и серое платье придавали ей странное и почти призрачное обличье. Харбэрн не видел ее, и я быстро подошел к ней, надеясь так же бесшумно вывести ее в сад и там с ней поговорить; но она подняла руку, как бы отталкивая меня, и сказала:
– Простите, что помешала вам; я пришла кое-что сказать этому человеку.
Харбэрн вскочил и быстро обернулся на ее голос.
– Да, – совсем тихо повторила она, – я пришла кое-что сказать тебе: я пришла проклясть тебя. Многие проклинали тебя втихомолку, а я сделаю это в глаза. Сейчас мой сын находится между жизнью и смертью в тюрьме – в твоей тюрьме. Выживет ли он, умрет ли, все равно я проклинаю тебя за все, что ты причинил бедным женам и матерям – английским женам и матерям. Будь проклят навеки! Прощай!
Она отпустила портьеру и исчезла прежде, чем Харбэрн успел добежать до двери. Она исчезла так быстро и бесшумно, а говорила так тихо, что мы с Харбэрном стояли и протирали глаза.
– Это было довольно-таки театрально! – проговорил он наконец.
– Но вполне реально, – медленно ответил я. – Вас прокляла настоящая шотландка. Посмотрите-ка на собак!
Эрдели застыли на месте, ощетинившись.
Внезапно Харбэрн расхохотался, и его резкий смех наполнил всю комнату.
– Черт побери! – сказал он. – А дело-то, пожалуй, подсудное.
Но я не мог с ним согласиться и отрезал:
– Если так, то все мы кандидаты на скамью подсудимых.
Он опять засмеялся, на этот раз натянуто, захлопнул и запер дверь на веранду и снова уселся в кресло.
– У нее, наверно, испанка, – сказал он. – За какого же идиота она меня считает, если явилась сюда и устроила такой балаган!
Но вечер был испорчен, и я простился почти сразу же. Я вышел в холодную, ветреную декабрьскую ночь, глубоко задумавшись. Харбэрн легко отнесся к посещению миссис Гольштейг, и, хотя никому не доставило бы удовольствия слушать, как его проклинают в присутствии знакомого, я чувствовал, что он был достаточно толстокожим, чтобы спокойно перенести это. Кроме того, трюк был грубый и дешевый. Кто угодно может войти в дом к соседу и проклясть его – хуже от этого не будет. И все-таки она сказала правду: сотни женщин, ее соотечественниц, должно быть, втихомолку, проклинали его, главного виновника их горя. Что ж, он сам проклял «гуннов» и пожелал их разорения, и я чувствовал, что у него хватит смелости вынести ответный удар. «Нет, – подумал я, – она только раздула пламя его ненависти. Но боже мой! В том-то и дело! Ее проклятие только подкрепило мое предсказание. Он неизбежно погибнет от безумия, которое она усилила и углубила». И, как ни странно, я пожалел его, как жалеют собаку, которая взбесится, натворит сколько может бед и сдохнет. В ту ночь я долго не мог уснуть, размышляя о нем и о несчастной, почти обезумевшей женщине, чей сын был между жизнью и смертью.
На другой день я зашел к ней, но она уехала в Лондон, очевидно навестить сына в его заточении. Через несколько дней, однако, она мне написала, благодаря меня за визит и сообщая, что сын ее вне опасности. Но она не обмолвилась ни словом о том вечернем посещении. Может быть, ей было стыдно. А может, в тот вечер она была вне себя и теперь ничего не помнила.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































