Текст книги "Рассказы (сборник)"
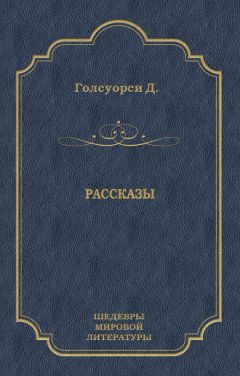
Автор книги: Джон Голсуорси
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 20 страниц)
Голос за стеной пара сказал:
– Двадцать минут прошли, сэр.
– Хорошо, выхожу. Вечерний костюм!
Вынимая костюм и рубашку, Меллер размышлял: «И для чего старику наряжаться? Лег бы в постель да и обедал там. Если человек впал в детство, ему место в люльке…»
Через час старый Хейторп опять стоял в комнате, где произошла его битва с Вентнором; стол уже накрыли к обеду, и он внимательно оглядывал все. Занавеси были подняты, в комнату лился свежий воздух, за окном виднелись темные очертания деревьев и лиловатое небо. Тихий, сырой вечер благоухал. Старик был разгорячен после ванны, с ног до головы в свежей одежде, и в нем заговорила чувственность. Чертовски давно не обедал он во всем блеске! Хорошо, если бы за столом напротив сидела женщина – но только не эта святоша, боже упаси! – хотелось бы ему еще раз увидеть, как падает свет на женские плечи, увидеть сверкающие глаза! Черепашьей походкой он подошел к камину. Здесь только что спиной к огню с видом хозяина стоял тот хвастун – будь проклято его нахальство! И внезапно перед ним возникли лица трех секретарей, особенно молодого Фарни, – что бы они сказали, если б видели, как этот бандит схватил его за горло и бросил наземь! А директора? Старый Хейторп! Как легко повалить могущественных! И этот торжествующий пес!
Камердинер перешел комнату, закрыл окно и спустил занавеси. И этот тоже! А ведь придет день, когда он больше не сможет платить ему жалованье и не найдет в себе сил сказать: «Ваши услуги больше не нужны». День, когда он больше не сможет платить своему доктору за то, что тот изо всех сил старается отправить его на тот свет! Все ушло: власть, деньги, независимость! Его одевают и раздевают, кормят кашкой, как ребенка, прислуживают как им вздумается и хотят только одного: чтобы он поскорей убрался с дороги – разбитый, обесчещенный! Старики имеют право на жизнь, только если у них есть деньги! Имеют право есть, пить, двигаться, дышать! Когда денег не будет, святоша немедля доложит ему об этом. Все ему доложат, а если нет – это будет только из жалости. Раньше его никогда не жалели, слава богу! И он сказал:
– Принесите бутылку «Перье Жуэ». Что на обед?
– Суп жермен, сэр, рыбное филе, сладкое мясо, котлеты субиз, ромовое суфле.
– Пусть несут hors-d’oeuvre[10]10
Добавочное блюдо (фр.).
[Закрыть], и приготовьте что-нибудь острое на закуску.
– Слушаю, сэр.
Когда слуга вышел, он подумал: «Поел бы я устриц – жаль, поздно вспомнил!» – и, подойдя к секретеру, на ощупь выдвинул верхний ящик. Там было немного: всего несколько бумаг, деловых бумаг его компаний, и список его долгов; не было даже завещания, он не делал его – нечего завещать! Писем он не хранил. Полдюжины счетов, несколько рецептов и розовенькая записка с незабудкой. Вот и все. Старое дерево перестает зеленеть весной, и корни его иссыхают, а потом оно рушится под порывами ветра. Мир медленно уходит от стариков, и они остаются одни во мраке. Глядя на розовую записочку, он подумал: «А напрасно я не женился на Элис – лучшей возлюбленной было не найти!» Он задвинул ящик, но все еще устало слонялся по комнате; против обыкновения ему не хотелось садиться; мешали воспоминания о той четверти часа, которую пришлось ему высидеть, пока эта собака грызла ему горло. Он остановился против одной из картин. Она поблескивала своей темной живописью, изображавшей кавалериста из серого шотландского полка{40}40
Кавалерист из серого шотландского полка – во времена Крымской войны (1853–1856) между Россией и коалицией Великобритании, Франции и Турции шотландские части (Scots Grey) были одеты в серые мундиры в отличие от английских, одетых в красные.
[Закрыть], взвалившего на своего коня раненого русского, взятого в плен в сражении при Балаклаве{41}41
Сражение при Балаклаве (13 (25) октября 1854) – одно из крупнейших сражений Крымской войны.
[Закрыть]. Он купил ее в 59-м. Очень старинный друг эта картина! Висела у него еще в холостой квартире, в Олбени, – и с тех пор он с ней не расставался. К кому она попадет, когда его не станет? Ведь святоша наверняка выкинет ее, а взамен повесит «Распятие на кресте» или какое-нибудь модное, высокохудожественное произведение. А если ей вздумается, она может сделать это хоть сейчас. Картина-то принадлежит ей, как, впрочем, все в этой комнате – вплоть до бокала, из которого он пьет шампанское; все это передано ей пятнадцать лет назад – перед тем, как он проиграл последнюю свою крупную игру. «De l’audace toujours de l’audace». Игра, которая выбила его из седла и довела до того, что он теперь попал в руки этого хвастливого пса! «Повадился кувшин по воду ходить…». Попал в руки!.. Звук выстрелившей пробки вывел его из задумчивости. Он вернулся к столу, занял свое место у окна и сел обедать. Вот удача! Все-таки принесли устрицы! И он сказал:
– Я забыл челюсть.
Пока слуга ходил за ней, он глотал устриц одну за другой, педантично посыпая их кайенским перцем, поливая лимоном и чилийским уксусом. Вкусно! Правда, не сравнить с устрицами, которые он едал у Пимма в лучшие дни, но тоже недурно, и весьма! Заметив перед собой синюю мисочку, он сказал:
– Передайте поварихе благодарность за устрицы. Налейте мне шампанского. – И взял свою расшатанную челюсть. Слава богу, хоть ее-то он может вставить без посторонней помощи! Пенистая золотистая струя медленно наполнила доверху его бокал с полой ножкой; он поднес его к губам, казавшимся особенно красными из-за белоснежных седин, выпил и поставил на стол. Бокал был пуст. Нектар! И заморожено в меру!
– Я держал его на льду до последней минуты, сэр.
– Прекрасно. Что это за цветы так пахнут?
– Это гиацинты, сэр, на буфете. От миссис Ларн, днем принесли.
– Поставьте на стол. Где моя дочь?
– Она уже отобедала, сэр. Собирается на бал, кажется.
– На бал!
– Благотворительный бал, сэр.
– Хм! Налейте-ка мне к супу чуточку старого хереса.
– Слушаю, сэр. Надо откупорить бутылку.
– Хорошо, идите.
На пути в погреб слуга сказал Молли, которая несла в столовую суп:
– Хозяин-то раскутился сегодня вовсю. Не знаю, что с ним после этого будет завтра.
Горничная тихо ответила:
– Пусть потешится бедный старик. – Идя через холл, она замурлыкала песенку над дымящимся супником, прижатым к ее груди, и подумала о новых кружевных сорочках, купленных на тот соверен, что хозяин дал ей.
А старый Хейторп, переваривая устрицы, вдыхал запах гиацинтов в предвкушении своего любимого супа сен-жермен. В это время года он, конечно, будет не совсем то – ведь в него надо класть зеленый горошек. В Париже – вот где его умеют готовить. Да! Французы не дураки поесть и смело смотрят в глаза опасности! И не лицемерят – не стыдятся ни своего гурманства, ни своего легкомыслия!
Принесли суп. Он глотал его, пригнувшись к самой тарелке, салфетка, как детский нагрудник, закрывала его манишку. Он полностью наслаждался букетом этого хереса – обоняние его в этот вечер было необычайно тонким; да, это редкий, выдержанный напиток – прошло уж больше года, как он пил его в последний раз. Но кто пьет херес в наши дни? Измельчали люди!
Прибыла рыба и исчезла в его желудке, а за сладким мясом он выпил еще шампанского. Второй бокал лучше всего – желудок согреет, а чувствительность нёба еще не притупилась. Прелесть! Так, значит, этот тип воображает, что свалил его, – каков, а? И он сказал:
– Там у меня в шкафу есть меховое пальто, я его не ношу. Можете взять себе.
Камердинер ответил довольно сдержанно:
– Благодарю вас, сэр, очень вам признателен. («Значит, старый хрыч все-таки пронюхал, что в пальто завелась моль!»)
– Не очень ли я утруждаю вас?
– Что вы, сэр, вовсе нет! Не больше, чем необходимо.
– Боюсь, что это не так. Очень жаль, но что поделаешь? Вы поймете, когда станете таким же, как я.
– Да, сэр. Я всегда восхищался вашим мужеством, сэр.
– Гм! Очень мило с вашей стороны.
– Вы всегда на высоте, сэр.
Старый Хейторп поклонился.
– Вы очень любезны.
– Что вы, сэр! Повариха положила немного шпината в соус к котлетам.
– А! Передайте ей, что обед пока что великолепен.
– Благодарю, сэр.
Оставшись один, старый Хейторп сидел не двигаясь, мозг его слегка затуманился. «На высоте», «на высоте»! Он поднял бокал и отхлебнул глоток. Только сейчас у него разыгрался аппетит, и он прикончил три котлеты, весь соус и шпинат. Жаль, что не удалось отведать бекаса – свеженького! Ему очень хотелось продлить обед, но оставались только суфле и острое блюдо. И еще ему хотелось поговорить. Он всегда любил хорошую компанию и сам, как говорили, был душой общества, а в последнее время он почти никого не видел. Он давно заметил, что даже в правлении избегают разговаривать с ним. Ну и пусть! Теперь ему все равно: он заседает в последнем своем правлении. Но они не вышвырнут его, не доставит он им этого удовольствия – слишком долго он видел, как они ждут не дождутся его ухода. Перед ним уже стояло суфле, и, подняв бокал, он распорядился:
– Налейте.
– Это особые бокалы, сэр. В бутылку входит только четыре.
– Наливайте.
Поджав губы, слуга налил. Старый Хейторп выпил и со вздохом отставил пустой бокал. Он был верен своим принципам кончать бутылку до десерта. Отличное вино – высшей марки! А теперь за суфле. Оно было восхитительно, и он мгновенно проглотил его, запивая старым хересом. Значит, эта святоша отправляется на бал, а? Чертовски забавно! Интересно, кто будет танцевать с такой сухой жердью, изъеденной благочестием, которое есть не что иное, как сексуальная неудовлетворенность? Да, таких женщин много, часто встречаешь их и даже жалеешь, пока не приходится иметь с ними дело, а тогда они делают вас такими же несчастными, как они сами, и вдобавок еще садятся вам на шею. И он спросил:
– А что есть еще?
– Сырный рамекин{42}42
Рамекин – сдобная ватрушка из хлеба, сыра и яиц.
[Закрыть], сэр.
Как раз его любимый!
– Дайте к нему мой портвейн шестьдесят пятого года.
Слуга вытаращил глаза. Этого он не ожидал. Конечно, лицо старика горело, но это могло быть и после ванны. Он промямлил:
– Вы уверены, что это вам можно, сэр?
– Нет, но я выпью.
– Не возражаете, если я спрошу у мисс Хейторп, сэр?
– Тогда вы будете уволены.
– Как угодно, сэр, но я не могу взять на себя такую ответственность.
– А вас об этом просят?
– Нет, сэр.
– Ну, значит, несите. И не будьте ослом.
– Слушаю, сэр! («Если не потакать старику, его наверняка хватит удар!»)
И старик спокойно сидел, глядя на гиацинты. Он был счастлив, все в нем согрелось, размягчилось и разнежилось, а обед еще не кончен! Что могут предложить вам святоши взамен хорошего обеда? Могут ли они заставить вас мечтать и хоть на минутку увидеть жизнь в розовом свете? Нет, они могут только выдавать вам векселя, по которым никогда не получишь денег. У человека только и есть что его отвага, а они хотят уничтожить ее и заставить вас вопить о помощи. Он видел, как всплескивает руками его драгоценный доктор: «Портвейн после бутылки шампанского – да это верная смерть!» Ну и что ж, прекрасная смерть – лучше не придумаешь. Что-то вторглось в тишину закрытой комнаты. Музыка? Это дочь наверху играет на рояле. И поет! Что за писк!.. Он вспомнил Дженни Линд{43}43
Линд Дженни (1820–1887) – знаменитая певица родом из Швеции. Имела большой успех в Берлине, Вене, Лондоне, а также в Америке.
[Закрыть], «шведского соловья» – ни разу он не пропустил ни одного ее концерта, Дженни Линд!
– Он очень горячий, сэр. Вынуть его из формы?
А! Рамекин!
– Немного масла и перцу!
– Слушаю, сэр.
Он ел медленно, смакуя каждый кусок, – вкусно, как никогда! А к сыру – портвейн! Он выпил рюмку и сказал:
– Помогите перейти в кресло.
Он уселся перед огнем; графин, рюмка и колокольчик стояли на низеньком столике сбоку. Он пробормотал:
– Через двадцать минут – кофе и сигару.
Этим вечером он воздаст должное своему вину – не станет курить, пока не допьет его. Верно сказал старик Гораций: «Aequam memento rebus in arduis Servare mentem»[11]11
Даже в тяжелых обстоятельствах сохраняй здравый рассудок (лат.).
[Закрыть]. И, подняв рюмку, он медленно отхлебывал, цедя по капле, зажмурив глаза.
Слабый, тонкий голос святоши в комнате наверху, запах гиацинтов, усыпляющий жар камина, где тлело кедровое полено, портвейн, струящийся в теле с ног до головы, – все это на минуту увело его в рай. Потом музыка прекратилась; настала тишина, только слегка потрескивало полено, пытаясь сопротивляться огню. Он сонно подумал: «Жизнь сжигает нас – сжигает нас. Как поленья в камине!» И он снова наполнил рюмку. До чего небрежен этот слуга – на дне графина осадок, а он уж добрался до самого дна! И когда последняя капля увлажнила его седую бородку, рядом поставили поднос с кофе. Взяв сигару, он поднес ее к уху, помяв толстыми пальцами. Отличная сигара! И, затянувшись, сказал:
– Откройте бутылку старого коньяку, что стоит в буфете.
– Коньяку, сэр? Ей-богу, не смею, сэр.
– Слуга вы мне или нет?
– Да, сэр, но…
Минута молчания. Слуга торопливо подошел к буфету и, достав бутылку, вытащил пробку. Лицо старика так побагровело, что он испугался.
– Не наливайте, поставьте здесь.
Несчастный слуга поставил бутылку на столик. «Я обязан сказать ей, – думал он, – но раньше уберу графин и рюмку, все-таки будет лучше». И, унося их, он вышел.
Старик медленно попивал кофе с коньячным ликером. Какая гамма! И, созерцая голубой сигарный дымок, клубящийся в оранжевом полумраке, он улыбался. Это был последний вечер, когда его душа принадлежала ему одному, – последний вечер его независимости. Завтра он подаст в отставку, не ждать ведь, когда его выкинут! И не поддастся он этому субъекту!
Как будто издалека послышался голос:
– Отец! Ты пьешь коньяк! Ну как ты можешь, это же просто яд для тебя! – Фигура в белом, неясная, почти бесплотная, подошла ближе. Он взял бутылку, чтоб наполнить ликерную рюмку – назло ей! Но рука в длинной белой перчатке вырвала бутылку, встряхнула и поставила в буфет.
И, как в тот раз, когда там стоял Вентнор, бросая ему в лицо обвинения, что-то подкатило у него к горлу, забурлило и не дало говорить; губы его шевелились, но на них лишь пенилась слюна.
Его дочь снова подошла. Она стояла совсем близко, в белом атласном туалете. Узкое желтоватое лицо, поднятые брови. Ее темные волосы были завиты – да, завиты! Вот тебе и святоша! Собрав силы, старик пытался сказать: «Так ты грозишь мне – грозишь, в этот вечер!» – но вырвалось только «так» и неясный шепот. Он слышал, как она говорила: «Не раздражайтесь, отец, ни к чему это – только себе вредите. После шампанского это опасно!» Потом она растворилась в какой-то белой шелестящей дымке. Ушла. Зашуршало и взревело такси, увозя ее на бал. Так! Он еще не сдался на ее милость, а она уже тиранит его, грозит ему? Ну, мы еще посмотрим! Глаза его засверкали от гнева; он опять видел отчетливо. И, слегка приподнявшись, позвонил дважды – горничной, а не этому Меллеру, который с его дочерью в заговоре. Как только появилась хорошенькая горничная в черном платье и белом передничке, он сказал:
– Помоги мне встать!
Два раза ее слабые руки не могли поднять его и он валился обратно. На третий он с трудом встал.
– Спасибо. Иди. – И, подождав, пока она уйдет, подошел к дубовому буфету, нащупал дверцу и вынул бутылку. Дотянувшись, схватил рюмку для хереса; держа бутылку обеими руками, налил жидкость, поднес к губам и отпил. Глоток за глотком коньяк увлажнял его нёбо – мягкий, очень старый, старый, как он сам, солнечного цвета, благоухающий. Он допил рюмку до дна и, крепко обняв бутылку, черепашьей походочкой двинулся к своему креслу и весь ушел в него.
Несколько минут он просидел неподвижно, прижимая бутылку к груди, думая: «Так джентльмены не поступают. Надо поставить бутылку на стол, на стол», но тяжелая завеса встала между ним и всем окружающим. Он хотел поставить бутылку на стол сам, своими руками! Но он не мог найти рук, он их не чувствовал. В его мозгу будто раскачивались качели – вверх-вниз: «Ты не можешь двигаться». – «Нет, буду!» – «Ты разбит». – «Нет, не разбит». – «Сдайся». – «Нет, не сдамся!» Казалось, не будет конца напряженным поискам рук – он должен найти их! После этого – хоть на тот свет, но уйти в полном порядке! Все было красно вокруг него. Потом красное облако слегка рассеялось и он услышал тиканье часов: тик-так. Он ощутил, как оживают его плечи и руки до самых ладоней; да, теперь он ощущал в них бутылку! Он удвоил усилия, чтобы податься вперед в кресле, – надо же поставить бутылку! Джентльмены так себя не ведут! Он мог уже двигать одной рукой, но еще не мог ухватить бутылку достаточно крепко, чтобы поставить. Из последних сил, толчками подвигаясь вперед, он шевелился в кресле, пока не смог наклониться, – и бутылка, скользнув по его груди, косо стала на край низенького столика. Тогда он отчаянно рванулся вперед всем телом и руками – и бутылка выпрямилась. Он это совершил, совершил! Губы его искривились в улыбке, тело в кресле медленно оседало. Он это совершил! И он закрыл глаза…
В половине двенадцатого горничная Молли, отворив дверь, взглянула на него и тихо сказала: «Сэр, там пришли дамы и господин!» Он не ответил. Держась за дверь, она зашептала в холл:
– Он спит, мисс.
Ей зашептали в ответ:
– О! Только впустите меня, я не разбужу его, разве что он сам проснется. Мне так хочется показаться ему в новом платье!
Горничная отодвинулась, и на цыпочках вошла Филлис. Она направилась туда, где свет лампы и огонь камина могли осветить ее с ног до головы. Белый атлас – ее первое взрослое платье, упоение первым выездом в свет, гардения на груди, другая в руке! Ох, какая жалость, что он спит! И какой же он румяный! До чего забавно старики дышат! И таинственно, как ребенок, она прошептала:
– Опекун!
Молчание. Надув губки, она вертела гардению. Вдруг ее осенило: «Вставлю-ка я цветок ему в петлицу! Когда он проснется и увидит ее, то-то обрадуется!» И, подкравшись ближе, она наклонилась и вложила цветок в петлицу. Из-за двери выглядывали два лица; она слышала подавленный смешок Боба Пиллина и мягкий, легкий смех матери. Ой, какой у него багровый лоб! Она дотронулась до него губами, отпрянула назад, молча покружилась, послала воздушный поцелуй и ускользнула, как ртуть.
В холле раздались шепот, хихиканье и короткий переливчатый смех.
Но старик не проснулся. И пока в половине первого не пришел, как обычно, Меллер, никто не знал, что он больше никогда не проснется.
Христианин
Перевод А. Ильф
{44}44
Впервые опубликован в сборнике The inn of tranquillity. London: Heinemann, 1912.
На русском языке апервые опубликован в Собр. соч. в 16 т. Т. 12. М.: Правда, 1962; пер. А. Ильф.
[Закрыть]
Однажды летним днем, после второго завтрака, я отправился на прогулку со старым приятелем, с которым мы учились вместе в колледже. Нас всегда волнуют встречи с теми, кого мы много лет не видели; и, идя через парк, я искоса приглядывался к другу. Он сильно переменился. Худощав он был всегда, а теперь совсем похудел – просто кожа да кости. Держался так прямо, что воротник его пасторского сюртука подпирал затылок длинной и узкой головы с темными, седеющими волосами, еще не поредевшими над лбом от тяжких раздумий. В его гладко выбритом лице, очень худом и продолговатом, привлекали внимание только глаза: темные брови и ресницы подчеркивали их стальной блеск, взгляд был неподвижный, отсутствующий, неизвестно на чем сосредоточенный. Эти глаза наводили на мысль о тайной муке. А рот его всегда улыбался кротко, но словно бы принужденно – то был рот распятого, да, распятого!
Молча ступая по выжженной солнцем траве, я чувствовал, что если мы заговорим, то непременно разойдемся в мнениях; его прямой узкий лоб свидетельствовал о непримиримой натуре, словно разделенной на железные клетки.
День был жаркий, и мы сели отдохнуть у пруда Серпентайн{45}45
Серпентайн – узкое искусственное озеро в лондонском Гайд-парке.
[Закрыть]. Как всегда, молодые люди скользили в лодках по зеркальной его поверхности с обычной своей отчаянной энергией, а гуляющие лениво слонялись вокруг, глазея на них, и та же неизменная собака плавала, когда не лаяла, и лаяла, когда не плавала. Мой друг сидел улыбаясь, вертя в тонких пальцах золотой крестик, висевший на его шелковом жилете.
Потом мы вдруг разговорились; и это была не обычная светская беседа об особенностях редких видов уток или о карьере наших университетских товарищей, – то, о чем говорили мы, никогда не обсуждается в изысканном обществе.
За завтраком наша хозяйка рассказала мне печальную историю об одном несчастливом браке, и я сгорал от желания узнать, что думает об этих вещах мой друг, который, казалось, отошел куда-то далеко от меня. И теперь я решил, что момент настал.
– Скажи мне, – начал я, – что, по-твоему, важнее – буква или дух христианского учения?
– Дорогой друг, – ответил он мягко, – что за вопрос? Как можно разделять их?
– Но разве сущность веры Христовой не в том, что дух – превыше всего, а форма ничего не значит? Разве этой мыслью не проникнута вся Нагорная проповедь?{46}46
Нагорная проповедь – проповедь, в которой Иисус сформулировал сущность христианской морали.
[Закрыть]
– Разумеется.
– В таком случае, – сказал я, – если учение Христа придает первейшее значение духу, считаешь ли ты, что христиане вправе держать других в тисках установленных правил поведения – независимо от того, что происходит в их душах?
– Да, если это делается для их блага.
– А как вы можете знать, в чем их благо?
– Нам это указано.
– «Не судите, да не судимы будете»{47}47
«Не судите, да не судимы будете» – цитата из Нагорной проповеди.
[Закрыть].
– О да, мы же не судим сами; мы лишь слепые исполнители заповедей Господних.
– Вот как! А разве общие правила поведения учитывают все особенности каждой души?
Он взглянул на меня сурово, будто почуял ересь.
– Лучше бы ты объяснил точнее, – сказал он. – Право, я не понял.
– Хорошо, возьмем конкретный пример. Мы знаем, Христос сказал о супругах, что они единая плоть! Но мы знаем и то, что некоторые женщины живут брачной жизнью со страшным чувством душевного отвращения – это жены, которые поняли, что, несмотря на все их усилия, у них нет духовной близости с мужьями. Отвечает это духу христианского учения или нет?
– Нам предписано… – начал он.
– Возьмем определенную заповедь: «И станут двое одной плотью»{48}48
«И станут двое одной плотью» – библейская заповедь (Быт. 2, 24).
[Закрыть]. Нет ведь, кажется, ни одного более сурового, незыблемого закона; но как же вы примирите его с сущностью христианского учения? Откровенно говоря, я хочу знать, есть ли в нем последовательность или это только собрание законов и предписаний, не составляющих духовной философии?
– Конечно, – сказал мой собеседник терпеливо, страдальческим голосом, – мы не смотрим на вещи с этой точки зрения и нам нет нужды рассуждать и сомневаться.
– Но как же вы все-таки примиряете с духом христианского учения такие браки, как тот, о котором я говорил? Могу я узнать это или нет?
– Да, разумеется, – отвечал он, – примирение идей через страдание. Страдания этой несчастной женщины ведут к спасению ее души. Это – духовное величие, и в нем оправдание закона.
– Получается, значит, – сказал я, – что жертва или страдание – связующая нить христианской философии?
– Страдание, которое приемлется с радостью, – ответил он.
– А не думаешь ли ты, – спросил я, – что в этом есть что-то нелепое? Скажешь ли ты, к примеру, что несчастливый брак более угоден Богу, чем счастливый, где нет страданий, а одна только любовь?
Он сдвинул брови.
– Хорошо! – сказал он наконец. – Я тебе отвечу. По-моему, женщина, с готовностью умерщвляющая плоть свою в угоду Богу, стоит в его глазах выше той, что не приносит такой жертвы в своей брачной жизни.
У меня было такое чувство, словно его пристальный взгляд направлен сквозь меня к некой невидимой цели.
– Значит, сам ты принял бы страдание как величайшее благо?
– Да, – ответил он, – я смиренно старался бы так его принимать.
– И, конечно, желал бы страданий другим?
– Боже избави!
– Но это же непоследовательно.
Он пробормотал:
– Понимаешь, я страдал.
Мы помолчали. Потом я сказал:
– Ну, теперь многое неясное стало для меня ясным.
– Вот как?
– Знаешь, немногие – даже среди людей твоей профессии – страдали по-настоящему. Вот почему им не так трудно, как тебе, требовать, чтобы страдали другие.
Он вскинул голову, как будто я ударил его в подбородок.
– Это слабость моя, я знаю, – сказал он.
– Скорее, это их слабость. Но допустим, что прав ты и не желать несчастий другим – это слабость. Тогда почему бы не пойти дальше и не сказать, что люди, не испытавшие тех или иных страданий, поступают по-христиански, навязывая их другим?
Он помолчал с минуту, очевидно стараясь до конца продумать сказанное мною.
– Конечно, нет, – сказал он наконец. – Это миссия только служителей Божьих.
– Значит, ты считаешь, что это не по-христиански, когда муж такой женщины заставляет ее страдать, если, конечно, он не служитель Божий?
– Я… я… – Он запнулся. – Да, я думаю, что это… это не по-христиански. Конечно, нет.
– Тогда такой брак, если он продолжается, делает жену истинной христианкой, а мужа – наоборот.
– Ответить на это просто, – спокойно сказал он. – Муж должен воздерживаться.
– Да, по твоей теории это, вероятно, будет последовательно и по-христиански: пусть страдают оба. Но брак-то, конечно, перестанет быть браком. Они больше не будут единой плотью.
Он посмотрел на меня почти раздраженно, будто хотел сказать: «Не заставляй меня зря тратить на тебя слова, замолчи!»
– Но, как ты знаешь, – продолжал я, – гораздо чаще муж отказывается от воздержания. Можешь ли ты утверждать, что это по-христиански – позволять ему с каждым днем все больше отходить от христианства из-за его нехристианского поведения? Не лучше ли избавить бедную женщину от страданий, пожертвовав тем духовным благом, которое она могла бы обрести? Почему же, в самом деле, вы предпочитаете то, а не это?
– Вопросы избавления, – отвечал он, – меня не касаются. Ибо сказано: «Отдайте кесарю кесарево»{49}49
«Отдайте кесарю кесарево» – цитата из Евангелия (Мф. 22, 21).
[Закрыть].
Лицо его окаменело – похоже было, что я могу атаковать его вопросами, пока у меня язык не устанет, а лицо его останется таким же неподвижным, как скамья, на которой мы сидели.
– Еще один, последний вопрос, – сказал я. – Так как христианское учение придает значение духу, а не плоти, и нить связующая все воедино и делающая все последовательным, – это страдание…
– Искупление страданием, – прервал он.
– Если ты хочешь… Короче говоря, самоистязание… Я должен спросить тебя – и не принимай этого на свой счет, потому что я помню твои слова, – в жизни обычно люди не верят тому, кто не познал на собственном опыте провозглашаемых им истин. Веришь ли ты, что ваше христианское учение не теряет ценности, когда его проповедуют те, кто никогда не страдал сам и не шел на самопожертвование?
Минуту-другую он помолчал. Потом с тягостной медлительностью произнес:
– Христос благословил своих апостолов и разослал их по свету; те послали следующих, и так это бывает по сей день.
– Значит, ты считаешь это ручательством за то, что они страдали сами и, стало быть, душой верны своему учению?
Он храбро ответил:
– Нет… Не могу сказать, что это действительно так.
– В таком случае не выходит ли, что их учение возникло не от духа, что это только форма?
Он встал и, видимо глубоко скорбя о моем закоснелом упорстве, промолвил:
– Нам не дано это знать. Так предопределено, и мы должны верить.
Он стоял, отвернувшись от меня, без шляпы, и я видел, как шея его залилась краской под крутым изгибом темноволосой головы. Чувство жалости всколыхнулось во мне. Может быть, не следовало добиваться победы в этом споре?
– Разум – логика – философия, – сказал он неожиданно. – Ты не понимаешь. Все это для меня ничто, ничто и ничто!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































