Текст книги "Рассказы (сборник)"
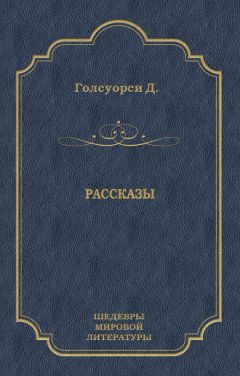
Автор книги: Джон Голсуорси
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 20 страниц)
– В тысяча девятьсот десятом году, – сказал Ангел, – я заметил, что пруссаки уже довели эту систему до совершенства. А между тем ведь ваша страна, сколько помнится, воевала именно против пруссаков?
– Совершенно верно, – отвечал гид, – и многие пытались привлечь внимание к этому обстоятельству. А в конце Великой Заварухи реакция была так сильна, что даже авторы передовиц некоторое время не решались проповедовать свою доктрину самоотречения и нарушенная было традиция снова утвердилась лишь тогда, когда партия Трудяг прочно уселась в седло. С тех пор принцип держится крепко, но практика держится еще крепче, так что общественная нравственность уже никогда не достигает превосходной степени. Перейдем теперь к общественной нравственности сравнительной. В дни Великой Заварухи ее исповедовали люди с именем, которые учили жить других. В эту большую и деятельную группу входили все проповедники, журналисты и политики, и многое указывает на то, что в ряде случаев они даже сами последовали бы своим наставлениям, если бы возраст их был не столь почтенным, а руководство – не столь бесценным.
– Без-ценным, – повторил Ангел вполголоса. – Это слово имеет отрицательное значение?
– Не всегда, – улыбнулся гид. – Среди них попадались, хоть и редко, люди просто незаменимые, и, пожалуй, они как раз были наименее сравнительно нравственны. К этой же группе, несомненно, нужно причислить людей, известных под названием мягкотелых пацифистов.
– Это что же, вид моллюсков? – спросил Ангел.
– Не совсем, – отвечал гид. – А впрочем, вы попали в точку, сэр: они действительно уползали в свои раковины, заявляя, что не желают иметь ничего общего с нашим испорченным миром. С них хватало голоса собственной совести. Бесчувственная толпа обращалась с ними очень дурно.
– Это интересно, – сказал Ангел. – Против чего же они возражали?
– Против войны, – отвечал гид. – «Какое нам дело до того, – говорили они, – что на свете есть варвары, вроде этих пруссаков, которые плюют на законы справедливости и гуманности?» Эти слова, сэр, были тогда в большой моде. «Как это может повлиять на наши принципы, если грубые чужестранцы не разделяют наших взглядов и задумали путем блокады нашего острова уморить нас голодом и тем подчинить своей власти? Мы не можем не прислушиваться к голосу своей совести – лучше пусть все голодают; готовы ли мы голодать сами, этого мы, конечно, не можем сказать, пока не попробовали. Но мы надеемся на лучшее и верим, что вытерпим до конца в нежелательном обществе тех, кто с нами не согласен». И надо сказать, сэр, некоторые из них, несомненно, были на это способны; ибо есть, знаете ли, особый тип людей, которые скорее умрут, чем признают, что при столь крайних взглядах ни у них самих, ни у их ближних нет никаких шансов остаться в живых.
– Как любопытно! – воскликнул Ангел. – Такие люди есть и сейчас?
– О да, – отвечал гид, – и всегда будут. И мне сдается, что для человечества в целом это не так уж плохо – ведь они являют собой некое предостережение: по ним мы видим, как опасно уходить от действительности и гасить без времени пламя человеческой жизни. А теперь рассмотрим нравственность положительную. Во времена Великой Заварухи ее представляли люди, которые нарочно пили чай без сахара и все свои деньги вкладывали в пятипроцентный военный заем, не дожидаясь выпуска выигрышных облигаций, как они тогда назывались. Это тоже была большая группа, очень здравомыслящая; ее интересовала не столько война, сколько торговля. Но шире всего была распространена нравственность отрицательная. Она охватывала тех, кто, грубо говоря, «тянул лямку». И могу вам сказать по опыту, сэр, не всегда это было легкое занятие. Сам я в то время был судовым стюардом и не один раз глотнул соленой воды – из-за подводных лодок. Но я не отступался и, едва ее успевали выкачать из меня, снова нанимался на корабль. Нравственность наша была чисто отрицательного, чтобы не сказать низкого свойства. Мы действовали как бы инстинктивно и часто восхищались теми благородными жертвами, которые приносили люди выше нас стоящие. Большинство из нас были убиты либо так или иначе искалечены, но какая-то слепая сила владела нами и помогала держаться. Простодушный мы были народ. – Гид умолк и устремил взгляд в пустой камин. – Не скрою от вас, – добавил он, помолчав, – что почти все время нам было до крайности противно; и все-таки мы не могли остановиться. Чудно, правда?
– Я жалею, что меня не было с вами, – сказал Ангел, – потому что… употреблю слово, без которого вы, англичане, кажется, ничего не способны выразить, – потому что вы были герои.
– Сэр, – сказал гид, – вы нам льстите. Боюсь, мы отнюдь не были воодушевлены духом коммерции, мы были самые обыкновенные мужчины и женщины, и не было у нас ни времени, ни охоты вдумываться в свои мотивы и поступки, а также обсуждать или направлять поведение других. Чисто отрицательные создания, сэр, но в каждом, вероятно, было немножко человеческого мужества и немножко человеческой доброты. Да что говорить, все это давно миновало. Теперь, сэр, прежде чем я перейду к нравственности личной, можете задать мне любые вопросы.
– Вы упомянули о мужестве и доброте, – сказал Ангел. – Как эти качества котируются в настоящее время?
– Мужество сильно упало в цене во время Великой Заварухи и с тех пор так до конца и не реабилитировано. Ибо тогда впервые было замечено, что физическое мужество – качество донельзя банальное; по всей вероятности, это просто результат торчащего подбородка, особенно распространенного среди народов, говорящих на английском языке. Что же касается мужества морального, то его так затравили, что оно по сей день где-то скрывается. Доброта, как вам известно, бывает двух видов: та, которую люди проявляют по отношению к себе и своей собственности, и та, которой они, как правило, не проявляют по отношению к другим.
– После того как мы побывали на бракоразводном процессе, – сказал Ангел глубокомысленно, – я много думал. И мне кажется, что по-настоящему добрым может быть только тот, кто прошел через семейные неурядицы, в особенности же если он при этом столкнулся с законом.
– Это для меня новая мысль, – заметил гид, внимательно его выслушав. – Очень возможно, что вы правы, – ведь только оказавшись отщепенцем можно как следует почувствовать чужую нетерпимость. Однако вот мы и подошли к вопросу о личной нравственности.
– Верно! – сказал Ангел с облегчением. – Я утром забыл вас спросить, как теперь рассматривается древний обычай брака.
– Только не как таинство, – отвечал гид. – Такая точка зрения почти исчезла уже ко времени Великой Заварухи. А между тем она могла бы сохраниться, если бы высшее духовенство в те дни не так противилось реформе закона о разводе. Когда принцип слишком долго противится здравому смыслу, неизбежна перегруппировка сил.
– Так что же теперь представляет собою брак?
– Чисто гражданскую сделку. Давно отошло в прошлое и дозволенное законом раздельное жительство супругов.
– Ах да, – сказал Ангел, – это, кажется, был такой обычай, согласно которому мужчина становился монахом, а женщина – монахиней?
– В теории так, сэр, на практике же, как вы можете догадаться, ничего подобного. Но представители высшего духовенства и женщины, старые и не старые, которые их поддерживали, могли опереться лишь на очень ограниченный жизненный опыт и искренне полагали, будто наказывают все еще женатых, но согрешивших лиц, которым закон разрешал разъехаться. Лица же эти, напротив, в большинстве случаев исходили из того, что их случайные связи отныне оправданы, и даже не старались от них воздерживаться. Так всегда бывает, когда великие законы природы нарушаются в угоду высшей доктрине.
– А дети еще рождаются вне брака?
– Да, но на них уже не возлагают вину за поведение родителей.
– Значит, общество стало более гуманным?
– Как вам сказать, сэр, до идеала в этом смысле еще далеко. Зоологические сады все еще не под запретом, и не далее как вчера я читал письмо одного шотландца, в котором он с гневом обрушивается на гуманное предложение, чтобы заключенным раз в месяц разрешали видеться со своими женами не через решетку и без свидетелей, – можно подумать, что мы все еще живем в дни Великой Заварухи. Скажите, почему такие письма всегда пишут именно шотландцы?
– Это что, загадка? – спросил Ангел.
– Действительно, загадка, сэр.
– Я их не люблю. Ну а вообще-то вы довольны состоянием добродетели в вашей стране теперь, когда, как вы мне вчера говорили, она стала чисто государственным делом?
– Сказать вам по правде, сэр, я не берусь судить моих ближних – мне хватает собственных пороков. Но одно я заметил: чем менее добродетельными выставляют себя люди, тем они обычно добродетельнее. Цветы расцветают там, куда не достает свет рампы. Вы, вероятно, и сами замечали, что те, кто изо дня в день бодро переносит самые серьезные неприятности и притом помогает своим ближним, поступаясь и своим временем и деньгами, бывают готовы плакать от умиления, получив соверен от богача, и в мыслях возводят его на престол как милостивейшего из монархов? Истинную добродетель, сэр, нужно искать среди низов. Сахар и снег видны на поверхности, но соль земли скрыта на дне.
– Я вам верю, – сказал Ангел. – Должно быть, тому, на кого падает свет рампы, труднее приобщиться к добродетели, чем добродетельному выйти на свет рампы. Ха-ха! А сохранился ли добрый старый обычай покупать ордена и титулы?
– Нет, сэр. Ордена дают теперь только тем, кто шумит уже совсем невыносимо, и награжденный обязуется воздержаться от публичных выступлений на срок не свыше трех лет. Этот приговор, самый строгий, дается за герцогский титул. Считается, что мало кто способен молчать так долго и все же остаться в живых.
– Что-то мне сомнительно, такой ли уж нравственный этот новый обычай, – сказал Ангел. – По-моему, это похоже на капитуляцию перед грубостью и бахвальством.
– Скорее, перед докучливостью, сэр, а это не всегда одно и то же. Но давать ли награды за принесенную пользу или за доставленное беспокойство – в обоих случаях достигается относительное бездействие, что и требуется: вы ведь, вероятно, замечали, как достоинство отягощает человека.
– А женщин тоже награждают таким образом?
– Да, очень часто; ибо, хотя достоинства у них и без того хоть отбавляй, языки у них длинные и, выступая публично, они почти не испытывают стыда и не знают, что такое нервы.
– А что вы скажете о их добродетели?
– Тут со времени Великой Заварухи кое-что изменилось. Теперь они не так легко продают ее, разве что за обручальное кольцо, а многие даже выходят замуж по любви. Женщины вообще нередко проявляют прискорбный недостаток коммерческого духа, и, хотя многие из них теперь занимаются коммерцией, так до сих пор и не сумели перестроиться. Некоторые мужчины даже считают, что их участие в деловой жизни вредит торговле и тормозит развитие страны.
– Женщины – очень занятный пол, – сказал Ангел. – Они мне нравятся, только уж очень большое значение придают младенцам!
– Да, сэр, это их главный изъян. Материнский инстинкт – как это опрометчиво, как вредит коммерции! Впору подумать, что они любят этих малявок ради них самих.
– Да, – сказал Ангел, – это дело без будущего. Дайте мне сигару.
VIII
– Так как же определяется теперь добро? – спросил Ангел Эфира, взлетая с Уотчестерского собородрома в направлении Столичной Скинии.
– На это существует множество разноречивых взглядов, сэр, – просипел гид, у которого от встречной струи воздуха заложило нос. – Положение не более оригинальное в наше время, чем когда вы были здесь в девятьсот десятом году. Крайней правой позиции придерживаются экстремисты, полагающие, что добро осталось тем, чем было, – что оно всесильно, однако по какой-то еще не выясненной причине терпит присутствие зла; что оно вездесуще, хотя, надо полагать, отсутствует там, где присутствует зло; таинственно, хотя полностью открыто людям; грозно, однако исполнено любви; вечно, однако ограничено началом и концом. Таких людей немного, но все они на виду и главная их особенность – полная нетерпимость по отношению к тем, кто не разделяет их взглядов; и они не допускают даже попыток проанализировать природу «добра», считая, что она установлена на все времена, в том виде, как я вам сказал, лицами, давно умершими. Как вы легко можете себе представить, люди эти оказались весьма далеки от науки (какая она ни на есть) и в обществе вызывают любопытство, но не более того.
– Этот тип хорошо известен на небе, – сказал Ангел. – Но скажите, они пытают тех, кто с ними не согласен?
– Физически – нет. Этот обычай вывелся еще до Великой Заварухи, хотя трудно сказать, как повернулось бы дело, если бы Патриотической, то есть Прусской, партии удалось подольше продержаться у власти. А так они применяют лишь пытки духовного свойства: презрительно взирают на всех инакомыслящих и обзывают их еретиками. Однако было бы большой ошибкой недооценивать их силу, ибо человеческая природа любит авторитеты и многие готовы следовать хоть на смерть за всяким, кто на него презрительно взирает и говорит: «Я-то знаю!» К тому же, сэр, примите во внимание, как утомляет это самое «добро», когда начинаешь над ним размышлять, и как отдохновительна вера, избавляющая от таких размышлений.
– Это верно, – протянул Ангел задумчиво.
– Правое крыло центра, – продолжал гид, – это небольшая, но шумная Пятая партия. Члены ее играют на кларнете и тамбурине, на барабане и аккордеоне, это – потомки Древнего Пророка, а также последние из тех, кто, следуя за пророком более молодым, примкнул к ним в дни Великой Заварухи. Меняя свои формулировки с каждым новым открытием в науке, они утверждают, что «добро» – это сверхчеловек, бесплотный, но телесный, с началом, но без конца. Это очень привлекательная теория, она позволяет им говорить Природе: «Je m’en fiche de tout cela![28]28
Плевать мне на все! (фр.)
[Закрыть] Обо мне позаботится мой старший брат – во как!!!» Ее можно назвать антропоморфином, ибо она особенно успокаивающе действует на сильную личность. Каждому, как говорится, свое; и я меньше всего склонен расхолаживать тех, кто пытается найти «добро», закрывая один глаз, а не оба, как крайние правые.
– Вы очень терпимы, – заметил Ангел.
– Сэр, – сказал гид, – к старости все яснее видишь, что человек просто не может не мыслить себя как суть вселенной, а отдельные люди – не считать себя средоточием этой сути. Для таких основывать новые верования – биологическая потребность, и неразумно было бы им мешать. Это предохранительный клапан, та форма страсти, в которую выливается пламень молодости у людей, переваливших за пятьдесят лет, как мы видим на примере пророка Толстого и других знаменитостей. Но вернемся к нашей теме. В центре, разумеется, расположено подавляющее большинство – те, кто придерживаются взгляда, что никаких взглядов на природу «добра» у них нет.
– Никаких? – переспросил Ангел озадаченно.
– Ни малейших. Это – единственные подлинные мистики; ибо что такое мистик, если не человек, твердо убежденный в необъяснимости собственного существования? К этой группе принадлежит основная масса Трудяг. Многие из них, правда, ничтоже сумняшеся повторяют то, что им говорят о «добре» другие, как будто сами до этого додумались, но ведь так поступает большинство людей спокон века.
– Верно, – согласился Ангел. – Мне приходилось это наблюдать во время моих странствий. Не будем тратить на них лишних слов.
– Не говорите, сэр, – возразил гид. – Такие люди разумнее, чем кажется с первого взгляда. Вы только подумайте, что сталось бы с их мозгами, если бы они попытались мыслить самостоятельно. К тому же, как вам известно, всякое определенное мнение относительно «добра» очень утомительно, и большинство людей полагают, что лучше «не тревожить спящих собак», чем допускать, чтобы они лаяли у тебя в голове. Но я скажу вам кое-что еще, – добавил гид. – У бесчисленных этих людей есть своя тайная вера, древняя как мир: для них единственно важное на свете – это чувство товарищества. И сдается мне, что, если брать «добро» в узком смысле, это превосходная вера.
– А, бросьте, – сказал Ангел.
– Прошу прощения, сэр. На левом крыле центра группируются все более многочисленные сторонники того взгляда, что, поскольку все на свете очень плохо, «добро» есть конечный переход в небытие. «Покой, последний покой»{133}133
«Покой, последний покой» – цитата из христианского песнопения на слова (1875) викария Э. Г. Байкерстета (1825–1906), положенного в 1877 г. на музыку Г. Т. Колдбеком (1852–1918).
[Закрыть], как сказал поэт. Вспомните избитую цитату «Быть иль не быть». Сейчас я говорю о тех, кто отвечает на этот вопрос отрицательно, – о пессимистах, притворяющихся оптимистами для обмана простодушной публики. Произошли они, несомненно, от тех, кого некогда называли «теософами»{134}134
Теософ – последователь теософии, религиозно-мистического учения о единении человеческой души с Богом и возможности непосредственного общения с потусторонним миром.
[Закрыть] – была такая секта, которая предугадала все, а затем возжаждала уничтожения; или же от последователей Христианской науки{135}135
Христианская наука – протестантская секта, созданная в Америке в 70-х гг. XIX в. Доктрина разработана основательницей М. Бекер-Эдди (1821–1910) в книге «Наука и здоровье с Ключом к Писанию» (1875).
[Закрыть] – для тех вещи как они есть были просто невыносимы, поэтому они внушали себе, что ничего нет, и, помнится, даже достигали в этом некоторых успехов. Мне вспоминается случай с одной дамой, которая потеряла свою добродетель, а затем снова обрела ее, вспомнив, что у нее нет тела.
– Очень любопытно, – сказал Ангел. – Я хотел бы ее расспросить, после лекции запишите мне ее адрес. А теорию перевоплощения кто-нибудь еще исповедует?
– Понятно, что вас это интересует, сэр, поскольку адепты этого учения, связанные старым, нелепым земным правилом «дважды два четыре», вынуждены для перевоплощения своего духа обращаться к иным сферам.
– Не понимаю, – сказал Ангел.
– А между тем это очень просто, – сказал гид. – Ведь всеми признано, что когда-то на земле не было жизни. Значит, первое воплощение – нас учили, что то была амеба, – уже заключало в себе дух, явившийся, возможно, свыше. Может быть, даже ваш, сэр. Далее, всеми также признано, что когда-нибудь на земле снова не будет жизни; а значит, последний дух ускользнет в какое-то воплощение уже не на земле, а, возможно, ниже; и опять-таки, кто знает, сэр, может быть, это будет ваш дух.
– Я не могу шутить на такие темы, – сказал Ангел и чихнул.
– Тут не на что обижаться, – сказал гид. – Последняя группа, крайняя левая, к которой я и сам в некотором роде принадлежу, состоит из небольшого числа экстремистов, полагающих, что «добро» – это вещи как они есть. Они считают, что все сущее было всегда и всегда будет; что оно лишь расширяется, и сжимается, и расширяется вновь, и так без конца; и что, поскольку оно не могло бы расшириться, если бы не сжималось, поскольку без черного не могло бы быть белого и не может быть ни удовольствия без боли, ни добродетели без порока, ни преступников без судей, постольку сжимание, и черное, и боль, и порок, и судьи – не «зло», но всего лишь отрицательные величины; и что все к лучшему в этом лучшем из миров. Это – оптимисты вольтерианского толка, притворяющиеся пессимистами для обмана простодушной публики. Их девиз – «Вечное изменение».
– И они, вероятно, считают, что у жизни нет цели?
– Вернее, сэр, что сама жизнь и есть цель. Ибо, согласитесь, при всяком ином толковании цели мы должны предположить свершение, то есть конец; а конца они не признают, как не признают и начала.
– До чего логично! – сказал Ангел. – У меня даже голова закружилась. Стало быть, вы отказались от идеи движения ввысь?
– Отнюдь нет. Мы взбираемся на шест до самого верха, но потом незаметно соскальзываем вниз и снова лезем вверх; а поскольку мы никогда не знаем наверняка, лезем ли мы вверх или скользим вниз, это нас не тревожит.
– Полагать, что так будет продолжаться вечно, – бессмыслица.
– Это нам часто говорят, – отвечал гид, нимало не смутившись. – А мы все же полагаем, что истина у нас в руках, несмотря на шуточки Пилата{136}136
Шуточки Пилата – речь идет о евангельском рассказе о том, как римский наместник в Иудее Понтий Пилат в ответ на слова Христа, что он пришел в мир свидетельствовать об истине, спросил: «Что есть истина?».
[Закрыть].
– Не мне спорить с моим гидом, – надменно сказал Ангел.
– Разумеется, сэр, ведь широты взглядов всегда следует остерегаться. Мне вот нелегко верить в одно и то же два дня подряд. А главное, во что бы ни верить, едва ли это подействует на истину: она, как видно, обладает некой загадочной непреложностью, если вспомнить, сколько усилий люди периодически прилагают к тому, чтобы ее изменить. Однако смотрите, мы как раз пролетаем над Столичной Скинией, и, если вы будете так любезны сложить крылья, мы проникнем туда через люк-говорлюк, который позволяет здешним проповедникам время от времени возноситься в высшие сферы.
– Погодите! – сказал Ангел. – Я сначала сделаю несколько кругов, пососу мятную конфетку: в таких местах у публики часто бывает насморк.
Распространяя вокруг себя соблазнительный запах мяты, они нырнули вниз через узкие врата в крыше и уселись в первом ряду, пониже высокого пророка в очках, который держал речь о звездах. Ангел тут же уснул крепким сном.
– Вы лишили себя большого удовольствия, сэр, – сказал гид с укором, когда они покидали Скинию.
– Зато я славно вздремнул, – весело отозвался Ангел. – Ну что может смертный знать о звездах?
– Поверьте, обычно для таких речей выбирают еще более замысловатые темы.
– Вот если бы он говорил о религии, я бы охотно послушал, – сказал Ангел.
– О, сэр, но таких тем в храмах больше не касаются. Религия теперь – чисто государственное дело. Перемена эта началась в девятьсот восемнадцатом году, когда была введена дисциплина и новый билль о просвещении, а потом постепенно кристаллизовалась. Правда, отдельные правые экстремисты пытаются присвоить себе функции государства, но их никто не слушает.
– А Бог? – спросил Ангел. – Вы о нем ни разу не упомянули. Это меня удивляет.
– Вера в Бога, – отвечал гид, – умерла вскоре после Великой Заварухи, во время которой прилагались слишком энергичные и разнообразные усилия к тому, чтобы ее оживить. Как вы знаете, сэр, всякое действие вызывает противодействие, и, нужно сказать, религиозная пропаганда тех дней так отдавала коммерцией, что была сопричислена к спекулятивным сделкам и заслужила известное омерзение. Ибо люди, едва оправившись от страхов и горя, вызванных Великой Заварухой, поняли, что их новый порыв к Богу был не более как поисками защиты, облегчения, утешения и награды, а вовсе не стремлением к «добру» как таковому. Вот эта-то истина, да еще присвоение самого титула императорами и рост наших городов (этот процесс всегда губит традиции) привели к тому, что вера в его существование угасла.
– Трудное это было дело, – сказал Ангел.
– Скорее, это было изменение терминологии, – пояснил гид. – В основе веры в «добро» тоже лежит надежда что-нибудь на этом заработать – дух коммерции неистребим.
– Разве? – отозвался Ангел рассеянно. – Может, позавтракаем еще раз? Я бы не отказался от куска ростбифа.
– Превосходная мысль, сэр. Мы закажем его в Белом городе.
IX
– В чем, по-вашему, состоит счастье? – спросил Ангел Эфира, допивая вторую бутылку пива в одном из кабачков Белого города.
Гид недоверчиво покосился на своего Ангела.
– Тема трудная, сэр, хотя наиболее интеллигентные из наших журналов часто печатают ответы читателей на этот вопрос. Даже сейчас, в середине двадцатого века, кое-кто по-прежнему считает, что счастье – побочный продукт свежего воздуха и доброго вина. В старой веселой Англии его, несомненно, добывали именно таким путем. По мнению других, оно проистекает из высоких мыслей и низкого уровня жизни, а третьи, и таких довольно много, связывают его с женщинами.
– С наличием их или отсутствием? – живо поинтересовался Ангел.
– Когда как. Но сам я не присоединяюсь целиком ни к одному из этих мнений.
– Страна ваша теперь счастлива?
– Сэр, – возразил гид, – все земное познается в сравнении.
– Объясните.
– Объясню, – строго сказал гид, – если вы сперва разрешите мне откупорить третью бутылку. И замечу кстати, что даже вы сейчас счастливы лишь в сравнительной, а может, и в превосходной степени – это вы узнаете, когда допьете последнюю бутылку до дна. Может, счастье ваше от сего увеличится, может, нет – посмотрим.
– Посмотрим, – решительно подтвердил Ангел.
– Вы спросили меня, счастлива ли наша страна; но не следует ли сначала установить, что такое счастье? А как это трудно, вы скоро и сами убедитесь. Вот, например, в первые месяцы Великой Заварухи считалось, что счастья вообще нет: каждая семья была повергнута в тревогу за живых или в скорбь о погибших; а остальные тоже считали своим долгом притворяться скорбящими. И, однако, сколь это ни странно, в те дни внимательный наблюдатель не мог уловить никаких признаков усилившейся мрачности. Кое-какие материальные лишения мы, конечно, испытывали, но зато не было недостатка в душевном подъеме, который люди возвышенной души всегда связывают со счастьем; причем я отнюдь не имею в виду душевный подъем, вызываемый алкоголем. Вы спросите, что же вызывало этот подъем? Я вам отвечу в восьми словах: люди забывали о себе и помнили о других. До того времени никто и не представлял себе, скольких врачей можно оторвать от забот о гражданском населении; без скольких священников, юристов, биржевых маклеров, художников, писателей, политиков и прочих лиц, считавших делом своей жизни заставлять других копаться в собственной душе, свободно можно обойтись. Больные старухи вязали носки и забывали о своих немощах; пожилые джентльмены читали газеты и забывали ворчать по поводу невкусного обеда; люди ездили в поездах и забывали, что неприлично вступать в разговоры с посторонними; торговцы записывались в добровольную полицию и забывали спорить о своем имуществе; палата лордов вспомнила о своем былом достоинстве и забыла о своей наглости; палата общин почти забыла свою привычку пустословить. Поразительнее всего случай с рабочими: они забыли, что они рабочие. Даже собаки забыли о себе, хотя это, впрочем, не ново, как то засвидетельствовал ирландский писатель в своем потрясающем обличении «На моем пороге». Но время шло, и куры со своей стороны стали забывать нести яйца, корабли – возвращаться в порт, коровы – давать молоко, а правительства – смотреть дальше своего носа, и вскоре забвение себя, охватившее было всех людей в стране…
– Было предано забвению, – закончил Ангел со спокойной улыбкой.
– Моя мысль, сэр, хотя я не сумел бы выразить ее столь изящно. Но так или иначе, поворот наметился, люди стали думать: «Война не так страшна, как мне казалось, ведь я еще никогда не наживал столько денег, и, чем дольше она продлится, тем больше я наживу, а ради этого можно многое перенести». Все классы общества взяли себе одинаковый девиз: «Ешь, пей – все равно скоро крышка». «Если завтра меня застрелят, утопят, разбомбят, разорят или уморят с голоду, – так рассуждали люди, – лучше уж я сегодня буду есть, пить, жениться и покупать бриллианты». И они так и поступали, несмотря на отчаянные усилия одного епископа и двух джентльменов, ведавших немаловажным вопросом питания. Правда, они, как и раньше, делали все возможное, чтобы разбить врага или «выиграть войну», как это тогда не совсем точно называли, но работали только их руки, а души, за немногими исключениями, уснули. Ибо душа, сэр, так же как и тело, требует время от времени отдыха, и я даже замечал, что обычно она первая начинает храпеть. Еще до того как Великая Заваруха пришла к предначертанному ей концу, души в нашей стране храпели так, что на луне и то было слышно. Люди только и думали что о деньгах, о мести и о том, как бы добыть еды, хотя слово «жертва» так пристало к их губам, что стереть его было не легче, чем иные сорта губной помады, которая тогда все больше входила в моду. Многие очень повеселели. И вот я хочу вас спросить: какой из этих критериев следует приложить к понятию «счастье»? Когда эти люди были счастливы – тогда ли, когда скорбели и не думали о себе или когда веселились и только о себе и думали?
– Конечно, первое, – сказал Ангел, и глаза его загорелись. – Счастье неотделимо от благородства.
– Не торопитесь с выводами, сэр. Я часто встречал благородство в сочетании с горем; более того, часто бывает, что чем возвышеннее и тоньше душа, тем несчастнее ее обладатель – ведь он видит тысячи проявлений жестокости и подлой несправедливости, которых более низкие натуры не замечают.
– А вот я замечаю, – сказал Ангел, бросив на него проницательный взгляд, – что вы чего-то не договариваете. Ну-ка, признавайтесь!
– Вывод мой таков, сэр, – сказал гид, очень довольный собой. – Человек счастлив только тогда, когда живет под определенным жизненным давлением на квадратный дюйм; иными словами, когда он так увлечен своими делами, словами, мыслями, работой или мечтами, что забывает думать о себе. Если нападет на него какая-нибудь хворь – зубная боль или меланхолия – столь острая, что не дает ему раствориться в том, чем он в данную минуту занят, – тогда он уже не счастлив. И недостаточно только воображать себя увлеченным – нет, человек должен быть увлечен по-настоящему: как двое влюбленных, сидящих под одним зонтом, или поэт, подыскивающий рифму для двустишия.
– Вы хотите сказать, – заметил Ангел не без ехидства, – что человек счастлив, когда встречает на узкой дорожке бешеного быка? Ведь в таком случае давление на квадратный дюйм должно быть немалое.
– Вовсе не обязательно, – возразил гид. – В таких случаях принято отходить в сторонку, жалеть себя и размышлять о превратностях судьбы. Но если человек не растеряется и проявит мужество, это доставит ему радость – пусть даже в следующую минуту, перелетая через изгородь, он уже снова начнет размышлять. Для меня совершенно ясно, – продолжал гид, – что плод с древа познания в старинной басне не был всего лишь познанием пола, как до сих пор предполагали пуритане, но, скорее, символизирует познание себя и мира вообще; ибо я не сомневаюсь, что Адам и Ева не раз сидели под одним зонтом еще задолго до того, как обнаружили, что они не одеты. А счастливыми они перестали быть только тогда, когда задумались о мироздании в целом.
– Кто называет ключами к счастью любовь, кто власть, – проговорил Ангел.
– Не верьте, – перебил его гид. – Любовь и власть – это лишь два из многих путей к увлеченности, то есть к забвению себя; не более как методы, с помощью которых людям различного склада удается от себя избавиться. Ибо тем, кто, подобно святому Франциску Ассизскому{137}137
Франциск Ассизский (1181–1226) – итальянский проповедник, автор религиозных поэтических произведений; основатель (1207) ордена францисканцев.
[Закрыть], любит все живое, некогда сознательно любить себя; а тем, кто бряцает оружием и властвует, как кайзер Билл, некогда осознать, что они не властны над самими собой. Да, именно потому, что они любят или властвуют так энергично, они и забывают в это время о себе.
– Это не глупо, – сказал Ангел задумчиво. – А как вы примените это к нынешним временам и к вашей стране?
– Сэр, – отвечал гид, – англичанин никогда не бывает так несчастен, как кажется, ибо если вы видите, что он хмурит брови или приоткрыл рот, то причиной тому скорее увлеченность, нежели задумчивость (об аденоидах я не говорю), а это признак натуры, склонной забывать о себе. Не следует также предполагать, будто бедность и грязь, которой, как вы могли убедиться, сколько угодно и при правлении Трудяг, уменьшают способность жить минутой; возможно даже, что они суть симптомы этой привычки. Несчастными чаще бывают те, у кого чистое тело и много досуга, особенно в мирное время, когда им нечего делать, кроме как сидеть под шелковицей, помещать деньги, платить налоги, мыться, совершать полеты и думать о себе. Впрочем, многие Трудяги тоже живут в напряжении и страхе и отнюдь не отрешились от копания в собственной душе.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































