Текст книги "Что-то случилось"
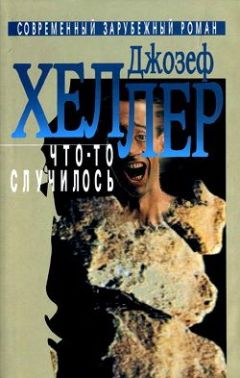
Автор книги: Джозеф Хеллер
Жанр: Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Он стоял, притаясь за дверью, и слышал каждое слово.
– Порядок! – задохнувшись, успокаивает он меня.
На одной ножке, ухватясь за другую, он неловко отпрыгнул, прислонился к дверному косяку, словно я отдавил ему ногу нарочно и сейчас опять наступлю.
– Больно? – спрашиваю.
– Порядок.
– Но тебе больно? Извини, пожалуйста.
– Говорю тебе, порядок. Ничего мне не больно!
– Я нечаянно. А чего ж тогда трешь лодыжку?
– Ты меня немного ушиб. Раньше. А сейчас порядок. Честно. Правда, порядок.
(Он тревожно умоляет меня поверить, что с ним ничего не случилось, заклинает не обрушивать на него сокрушительный груз моей чрезмерной заботы. «Отстань… пожалуйста!» – вот что на самом деле отчаянно кричит он мне, вот что хлещет меня по сердцу. Я делаю шаг назад.)
– Видишь? – робко спрашивает он и показывает.
Он ставит ногу на пол, осторожно ступает на нее – мол, видишь, стою – и ничего. Красное пятнышко, пустячная царапина, едва заметная ссадинка там, где я задел краем подошвы, чуть содрана кожа на лодыжке – ничего страшного. (Наверно, он единственный человек на свете, для которого я, кажется, готов почти на все, лишь бы оберечь его от всех мучений и страданий. И однако, никогда мне это не удается; видно, совсем я ему не помогаю, наоборот, только мучаю. Что-то с ним случается, над чем я не властен и о чем нередко даже не подозреваю, а когда узнаю, все уже произошло, зло свершилось. Мне иногда снится, что ему грозит смертельная опасность, а я не могу поспеть на помощь. Тело мое налито свинцом. Ноги вросли в землю. Он погибает, но во сне это оборачивается трагедией для меня. А на самом деле его уже терзают тайные муки, и об одних он никому не хочет поведать, а многие другие не в силах ни понять, ни описать. Он боится войны и преступлений. Его пугает любой человек в форменной одежде. Он боится воровства, боится – вдруг сам украдет или у него что-то украдут.) Сейчас, глядя, как я гляжу на него (под глазами у него нездоровые темные круги), он тяжело дышит, пожелтел от страха, он не знает, чего от меня ждать, и охвачен таким ужасом, так трепещет, что, кажется, если я не протяну руки и не обхвачу его, он рассыплется на кусочки. (Я не протягиваю рук. С тоской нутром чувствую: протяни я к нему руки, и он в ужасе отпрянет – подумает, я хочу его ударить. Не понимаю, почему ему так часто кажется, будто я хочу его ударить, ведь я никогда, ни разу не поднял на него руку, не понимаю, почему и он, и дочь думают, будто, когда они были маленькие, я частенько их поколачивал, по-моему, я в жизни их пальцем не тронул. У моего мальчика столько возможностей причинить мне боль, от которых я не в силах себя защитить, а он и не подозревает об этом. А может, и подозревает. И ранит меня намеренно. Думая о нем, я думаю о себе.) И я знаю, почему он сейчас дрожит, и смущенно ежится, и, сам того не замечая, беспокойно теребит ширинку, будто хочет помочиться. Конечно же, когда, резко повернувшись и точно ослепнув от ярости, я ринулся вон из кабинета и налетел на него, я показался ему огромным. Наверно, я кажусь ему великаном, не человеком, а чудовищем, вроде того темнолицого, волосатого, косолапого тирана на безобразной карточке из тестов Роршаха…
– Но если тебе не больно, почему ж тогда у тебя такой несчастный вид? – робко осведомляюсь я.
– Потому что ты кричишь.
– Я не кричу.
– Кричал. Раньше.
– Но ведь теперь не кричу. И кричал вовсе не на тебя, – горячо, но с усмешкой возражаю я, стараясь его умиротворить. Хоть бы он тоже улыбнулся! (Мне невыносимо видеть его огорченным, особенно когда я сам же и виноват. Мне хотелось бы, чтоб он был вполне доволен жизнью и мной, а когда у него это не получается, меня зло берет и немалого труда стоит подавить эту злость.) – Ведь так?
– Так, – с готовностью отвечает он, и опять крутится на одном месте (словно рад бы оторвать ноги от пола и улететь), и дрожащими ладонями судорожно похлопывает по коленкам. – Но тебе охота на меня накричать, – хитроумно догадывается он, и глаза его понимающе поблескивают. – Точно?
– Нет, нет, нет, – уверяю я. – Вовсе мне неохота на тебя кричать.
– Будешь кричать. Я знаю, будешь.
– Ничего подобного. С чего мне на тебя кричать?
– Вот видишь? Я же говорил.
– Я не кричу.
– Нет, уже кричишь.
– Да не кричу я!
– Ну разве он не кричит?
– По-моему, он вообще не понимает, что он творит.
– Отлично, – ехидно хвалю я жену. – Такими словами ты как раз охладишь страсти.
– Ну, знаешь, когда на тебя вот так накатывает, ты становишься просто несносный, – говорит она в ответ.
– Я сносный.
– Он сносный, – уныло подтягивает дочь.
– Сейчас будешь на меня кричать? – спрашивает мой мальчик.
– Вовсе я не собираюсь на тебя кричать, – говорю. – Просто я говорил громко, потому что с чувством, – чуть ли не шепотом объясняю я, стараясь, чтобы это звучало умиротворяюще спокойно, и заставляю себя улыбнуться. Присаживаюсь перед ним на корточки, так что наши лица теперь почти на одном уровне, и проникновенно смотрю ему прямо в глаза. Он позволяет мне взять его руки в свои. Жилки трепещут, в них беспокойно бьется пульс, точно рыбешка в сетях. (Все мои домашние, кроме меня самого, вечно дрожат, хотя мне этого совсем не хочется. Я постоянно пребываю в мрачной задумчивости, и дуюсь, и недоволен всем и вся, и мечтаю оказаться где угодно, только не дома. А вне дома уже дрожу я сам. Дрожу на работе. Во сне. В аэропортах, когда в одиночестве жду самолета. В незнакомых гостиничных номерах немилых мне городов, если только не напьюсь до отупения и не прихвачу с собой в постель какую-нибудь красотку, которая мне не противна и может пробыть со мной хоть до утра. Не люблю быть ночью один, а уж если приходится, непременно оставляю гореть ночник. Смертельная усталость ничуть тут не помогает; наоборот, это еще хуже: ведь когда переутомишься, сон некрепок, а силы самозащиты ненадежней и неповоротливей. Мерзкие мысли роятся у меня в голове, точно вши или какие-то иные темные кусачие насекомые или мелкие твари, и я не успеваю ни задушить их, ни сбросить туда, откуда они нахлынули. Да, порой мне видится некая тварь – она подкрадывается на мягких лапах, когда глаза у меня закрыты, и гложет мое лицо, – но это уже сказка, ребячество. Сны лишают меня всякого мужества. Я никому не могу в них признаться. У меня непристойные страхи. Непристойные сны. Однажды мне приснилась моя мать, и на ногах у нее росли черные двустворчатые ракушки – теперь-то мне известно, что это значит.) – Ну пожалуйста, не бойся меня, – ласково уговариваю, почти умоляю я сына. – Мне совсем неохота как-то там тебя пугать или делать больно. Ни сейчас, ни после.
– Порядок, – говорит он, старается меня утешить.
– Ты можешь мне довериться. Ведь я не кричу на тебя сейчас, правда? Я разговариваю тихонько. Разве нет?
Он неуверенно кивает (а мне хочется повысить голос и снова на него накричать, чтобы он поверил, что я никогда на него не кричу. Но нет. Не хочу опять его испугать. Мне и на других-то своих домочадцев вовсе не хочется нагонять страх, и, когда все-таки не сдержусь, потом всегда чувствую себя виноватым и становлюсь себе противен.
Почти всегда. Но лишь после того, как здорово их застращаю; а если мне это не удается, прихожу в смятение. И пугаюсь. Сейчас я уже раскаиваюсь, что напугал их, и, говоря с мальчиком, на самом деле пытаюсь извиниться заодно перед женой и дочерью. Хочу, чтобы они поняли, что я раскаиваюсь, но сказать это вслух не хочу. Хочу, чтобы меня простили).
– Почему у тебя такой вид? – с беспокойством, чуть ворчливо спрашиваю я сына (пытаюсь ему внушить, чтобы он вздохнул свободнее, пусть ему будет со мной легко, надежно и радостно). – Почему у тебя такой встревоженный вид?
– Все в порядке.
– Ты можешь мне довериться, – уговариваю я.
– Ну, просто такой у меня вид.
– И ведь прежде я тоже на тебя не кричал, – продолжаю я, не в силах остановиться. – Бывает, человек повысил голос и говорит громко, но это еще не значит, что он на тебя кричит или даже рассердился, просто он хочет убедить тебя. Просто говорит… с чувством. Понимаешь, с чувством. Вот что это означает. – С досадой умолкаю, увидав, что мой мальчик на миг встретился глазами с дочерью и тут же театрально воздел очи горе с видом невыразимой скуки (с таким вот наигрышем дети обычно принимают наши слова, когда мы отчитываем их за что-то, что кажется нам рискованным, или засыпаем их излишними наставлениями и без конца задаем одни и те же вопросы. Но пусть уж он потешается надо мной, пусть уж я нагоняю на него тоску, только бы не страх. И потому, хотя в первое мгновенье гордость моя и уязвлена, я не шпыняю его, а продолжаю мирно, вразумительно выговаривать). – Вот почему я раньше немного повысил голос. Я старался, чтобы меня лучше поняли. Хотел, чтобы до тебя дошло, что я вовсе не собираюсь на тебя кричать и нисколько не сержусь. И то же самое, когда разговаривал с ними, – лгу я. – На них я тоже не кричал.
– Ясно, – говорит он. – Теперь ясно.
– И сейчас я тоже на тебя не кричу, верно?
– Верно.
– Значит, я был прав, да?
– Да. Порядок.
– Вот и хорошо. Я рад, что ты понимаешь. И вот почему. – заключаю я, хитро улыбаясь, и чувствую, он уже разгадал, как я собираюсь сострить, и сейчас перебьет меня, перехватит мои слова. Смолкаю, даю ему время.
– …вот почему ты на меня кричал! – выпаливает он.
– Именно! – хохочу я.
(У нас с ним ход мыслей очень похожий – мы одинаково склонны к юмору и к дурным предчувствиям.)
– А я тоже у тебя как гвоздь в заднице? – дерзко взмывает он на волне успеха и озорно косится на мать.
– Вот тебе и на! – восклицаю я. (Меня подмывает расхохотаться, но тут же спохватываюсь: надо защитить его от ханжеского упрека, который может ему бросить жена за слово «задница».) И, не дав жене опомниться, дурашливо, со смехом, прикидываясь, будто ужасно встревожен, я выкрикиваю: – А теперь уж она хочет на тебя накричать!
– Нет, не хочет!
– Не хочет?
– Правда, не хочешь?
Но жена развеселилась (не разозлилась) и радостно, с облегчением смеется (она видит, что я теперь тоже веселюсь и уже не злюсь ни на нее, ни на дочь).
– Правда, но ты чертенок и шельмец, – нежно упрекает она его. – Ты ведь знал, что на этот раз я не стану на тебя кричать за это слово.
– За какое слово? – с невиннейшим видом спрашивает мой мальчик. – Задница?
– Не смей его повторять!
– Задница?
– Меня ты не заставишь это повторить, не надейся!
– Какое слово? Задница? – живо подхватывает дочь.
– Сдаюсь. – Жена с веселой досадой разводит руками. – Ну что будешь с ними делать?
– Скажи «задница», – советую я.
– Задница! – послушно провозглашает жена и, точно слон хобот, вытягивает к детям шею. Они заливаются смехом. – Задница! Задница! Задница! Задница!
Теперь все трое истерически хохочут.
Дочь просто не помнит себя от радости: ее коварная затея выяснять отношения, так быстро и так жестоко обернувшаяся против нее, неожиданно сошла ей с рук. Ликуя, она кинулась к братишке, в восторге они обнялись и, раскачиваясь из стороны в сторону, пошли кружить по кабинету, наталкиваясь на нас, друг на друга и на никому не нужные стулья, которые жена потихоньку сносит в мой злополучный кабинет, когда их больше некуда девать. Мой мальчик безмерно доволен собой, несказанно счастлив от того, что так ловко и хитроумно ввернул неприличное словцо и ему не досталось за это, и вот благодаря ему звериная злоба, с какой мы набрасывались друг на друга, сменилась сердечностью и теплом. Мы все четверо сейчас ощущаем, что мы – близкие, прекрасно понимаем и уважаем друг друга, вместе нам просто и хорошо. Дети тычутся друг в дружку, обнимаются, весело хохочут. Смотрю на них с нежностью (я полон снисходительного благодушия). Мне приятно, что это мои дети.
– Какие они славные, наши ребятишки, – задумчиво шепчет мне на ухо жена, чтоб они не услыхали.
Согласно киваю (я им чуточку завидую и доволен ими – собой тоже, и ею). Обвиваю ее рукой за талию, притягиваю к себе. Она охотно идет мне навстречу, податливо льнет ко мне. (Были бы одни, сразу бы ее повалил. Ох, и трахнулись бы мы). Моя рука скользит по ее заду, ниже, ниже… Она отстраняется.
– Не сейчас, – остерегает она.
– Нет, сейчас, – поддразниваю я.
– С ума сошел.
– А вдруг я потом не захочу.
– Захочешь. Только попробуй не захотеть, – смеется жена. – Я уж позабочусь.
Смеюсь и я.
Эту службу мой мальчик, наш ангел-хранитель, сослужил нам не впервые, он делает это постоянно и бесхитростно. («Он какой-то не такой, таких не бывает, – с завистью жалуется дочь. – Никогда не подличает. Никогда не злится».) А ведь его положение ничуть не лучше нашего (пожалуй, куда хуже, потому что ему только девять, а он уже боится всего на свете: высоты и похитителей детей, акул, крабов, пьяных, взрослых, которые смотрят слишком пристально, шерифов, патлатых парней, войны, итальянцев и меня. Его не слишком страшат лишь чудища и призраки, оттого что они глупы. Его страшат люди. Он обходит стороной калек. Он радуется полицейским в смутной надежде, что они защитят его от всего прочего, даже от меня), он пробуждает в каждом из нас огромную потребность и способность любить, что таится у нас глубоко внутри, точно зияющая рана, способность любить его, а быть может, и друг друга, и таким образом снова сближает нас, заставляя вспомнить, кто мы друг другу и что друг о друге знаем, останавливает нас как раз вовремя, не дает умышленно, со злобой и радостью, упрямо, грубо и непоправимо калечить друг друга, если мы пока еще не вконец друг друга изувечили. Он, безусловно, помогает нам находить общий язык и оставаться семьей. (Мне нередко хочется сбежать из дому, и я никогда себе в этом не отказываю. Дочь ждет не дождется часа, когда покинет семью, во всяком случае так она говорит.) Вероятно, когда он вырастет и заживет самостоятельно, наша семья развалится. (Я так его люблю, и я знаю – он не жилец на этом свете.)
– Его ты любишь больше меня, – сказала однажды дочь.
– Нет, – солгал я: мне далеко не всегда хочется брать над ней верх, и мне кажется, она иногда ничего уже не ждет от жизни, и в такие минуты я ловлю себя на том, что молча горюю подле нее, как подле открытого гроба или могилы, в которой уже похоронено ее будущее. (Ей еще нет шестнадцати – прелестный возраст, – но нам обоим иногда кажется, что для нее уже все потеряно. Когда же это случилось?) – Но ты должна согласиться, детка, во многих отношениях он куда милее.
– Знаю.
Эти разъедающие душу семейные ссоры, которые так злонамеренно затевает дочь, вовсе не забавны и далеко не всегда кончаются для нас с женой любовными утехами, а для детей взрывами веселья и хохотом. Эти ссоры мучительны, особенно для нее самой. Хоть бы она записывала свои впечатления о прочитанных книгах или решала хитроумные головоломки, когда ей некуда девать время и нет занятия поинтереснее. (Хоть бы влюбилась, что ли.)
Но она ничего не может с собой поделать.
(Это у нее выходит против воли.)
Точно некое коварное, порочное и недоброе существо, которое так и норовит подо все подкопаться, все разрушить, она не может не разжигать страсти. Мне (нам) неведомо, что из того, о чем она мечтает, мы, по ее мнению, можем ей дать (она мечтает быть красивой, тонкой и гибкой, как тростинка, блестящей, знаменитой, богатой и талантливой – и кто бросит в нее за это камень? Мы бы тоже были рады, окажись все это при ней. Возможно, она это знает. Но мы можем обойтись и так), и она ничего нам не говорит. Она сама не знает. Иногда она попросту, безо всякой воинственности делится с нами, исповедуется. Стоит перед нами вялая, пристыженно повесив голову, и из самой глубины души выдавливает слова – негромко, уныло и скучно тянет:
– Мне нечем заняться.
Когда жена слышит, что дочери нечем заняться, у нее разрывается сердце.
У меня – нет, я себе этого не позволяю.
Дочь грызет ногти, и, вероятно, это тоже моя вина. (Все-таки занятие. Мой мальчик сутулится – как я.) Она стала грызть ногти лет с пяти. Мой мальчик во сне сосал большой палец руки, и на суставе вздувалась белая шишка (цвета плесени или омертвелой кожи), она мешала ему участвовать в играх и, напоминая днем, откуда она взялась, заставляла чувствовать себя заклейменным. Отучить его от этой привычки никак не удавалось. На ночь мы завязывали палец бинтами, пропитанными какой-нибудь вонючей дрянью, но он все равно сосал. Мы даже пускали в ход мерзкую на вкус жидкость, с помощью которой прежде безуспешно пытались помешать дочери грызть ногти. Толку из этого не вышло, она и по сей день грызет ногти. Как ему все-таки удалось перестать, не понимаю: попробуй пойми, как можно заставить себя перестать что-либо делать во сне. (Нередко мне удается прервать неприятный сон: при первых же зловещих аккордах я разом просыпаюсь, точно по хорошо знакомому сигналу тревоги, – подобно опытному цензору или кинопродюсеру, я при первых же признаках перекоса в моем сновиденье могу скомандовать: «Вырезать!» – и сон пойдет крутиться совсем в другом направлении. «Нет уж! Только не это», – обычно говорю я себе и до тех пор не даю спуску дремлющим силам ума, пока сон не развернет передо мной картины, которые мне больше по вкусу. Тогда уже можно расслабиться, без опаски дать им волю и снова заснуть. Оборвать эти непрошеные сновидения удается лишь в том случае, если они начинаются, когда я только еще засыпаю и не успел окончательно забыться. Удается это не всегда, и, точно беспомощный младенец, я лежу во тьме, а сны безжалостно свирепствуют во мне, словно мой мозг так же беззащитен, как у этого крохотного, безрукого, безногого младенца, который еще скованно, недвижимо покоится в люльке или во чреве матери. Я терпеть их не могу. Я их забываю. Они оставляют следы. Они посещают меня слишком часто. Стоит мне захотеть, и они тут как тут.)
(Столько есть такого, о чем я боюсь узнать.)
Дочь моя плохо спит, и, если не считать коротких, беспричинных вспышек, когда она блаженно, безудержно весела и с упоением строит воздушные замки (вспышки эти столь внезапны и сумасбродны, что кажутся болезненными), она склонна видеть себя и свое будущее в самом мрачном свете. Ее легко встревожить, и она нередко впадает в панику. Она, вероятно, девственница. (Если бы она лишилась девственности, она бы мне сказала. Когда это случится, она, уж конечно, мне доложит – чему быть, того не миновать, все чаще себе это представляю и безрадостно жду того дня или вечера, когда она заявится с этим сообщением, чтобы лишний раз надо мной поиздеваться. Что мне тогда сказать? Я, разумеется, отшучусь, преуменьшу значение совершившегося, чтобы не толкнуть ее либо на неразборчивость и развращенность, либо на холодность и воздержание. Ну и задача.
– Что ж, дорогая, среди своих сверстниц ты, я думаю, не единственная себе это позволила, – явственно слышу, как я произнесу вежливо-небрежным тоном, стряхивая пепел с незажженной сигары. – Не ты первая, не ты последняя. Ведь не единственная, верно?
А как я на самом деле к этому отнесусь?) Ей недостает уверенности в себе, и, так же как мой мальчик (и я сам), она побаивается чужих и чувствует себя не в своей тарелке с новыми знакомыми. (Я же, наоборот, временами сплю отлично – хотя люблю делать вид, будто страдаю бессонницей, – особенно когда сплю дома, с женой, хотя обычно стараюсь как можно дольше не поддаться сну. Ха-ха. Когда я сплю не дома с женой, в первую же или во вторую ночь мне снится страшный сон, как правило, один и тот же: через дверь, которую я наверняка запер, входит незнакомец – вор, насильник, похититель людей или убийца – и приближается ко мне; похоже, что он черный, но не всегда; и, кажется, у него нож; я хочу закричать, но не могу издать ни звука. Этот дурной сон часто снится мне и дома, хотя на ночь я старательно запираю все двери. Он снился мне десятки и сотни раз. Снился всегда. Должно быть, пока он мне снится и я тщетно пытаюсь закричать, какой-то звук или стон у меня все же вырывается – эти усилия будят жену, она окликает меня по имени, возвращает к действительности, объясняет, точно я сам этого не знаю, что меня душил кошмар. Порой в самый разгар моих мучений, когда истязатель, кто бы он ни был, уже подступил вплотную к моей постели, другая, всеведущая часть моего «я» настраивается на волну происходящего, знает и успокаивает меня, что это всего лишь дурной сон, и спокойно, самодовольно смотрит его со стороны, и радостно предвкушает, что вот сейчас шум и метания разбудят жену, она окликнет меня по имени, станет трясти за плечо, пока я не проснусь, и скажет – это, мол, всего лишь кошмар. По-моему, человеческое сознание не едино. Мне нравится пугать жену моими ночными кошмарами. Иной раз, когда кошмар мучит ее, я мщу ей – не бужу, пусть тяжелый сон терзает ее – и, опершись на локоть, праздно и самодовольно гляжу на нее со стороны. Бывает еще, мне снится, что я намочил постель, но это забавные сны. Право, забавные. Если я сплю не дома и без жены, мне нередко бывает тревожно: а вдруг опять приснится тот же дурной сон или другой, такой же страшный. Кто ж меня разбудит? А если никто не разбудит, выдержу ли я? Когда я один, тот сон мне не снится. А если меня разбудит кто-то, кто спит со мной или в соседней комнате, буду ли я смущен, стану ли извиняться? Теперь зачастую, едва голова моя коснется подушки, на меня исступленно набрасывается бессонница, и я всю ночь напролет ворочаюсь с боку на бок. Тело мое – особенно ноги, плечи и локти – становится тяжелым, непослушным, я не нахожу ему места; дух же мой хрупок, душа как тонкая ткань, и ее пронизывают чувства и образы. А я совсем беспомощен. Голова гудит от суматохи несвязных мыслей. Теперь я с первых же мгновений распознаю эту буйную бессонницу; я уже не стараюсь ее одолеть. Это бесполезно. Я тоскливо поддаюсь ей. Лежу и безропотно, покорно, закрыв глаза – так легче – жду утра, которое меня спасет, или сна, который через несколько часов подкрадется незаметно и вырвет меня из этих буйных, противоборствующих потоков воображения, неистовства, воспоминаний и мыслей, что так стремительно мчатся и плещут у меня в голове. Бедняга я. Да, наверно, не так уж я, в конце концов, отлично сплю, хотя после обеда или позабавившись в постели обычно тут же задремываю. Проснувшись утром после приступа бессонницы, я удивляюсь, что все-таки спал, нередко после крепкого сна без сновидений с ужасом убеждаюсь, как далек я был от жизни и как беззащитен. Это почти все равно, что всерьез бояться темноты. Так боится моя дочь. И мой мальчик. Так боялся в детстве я сам. Да и после. Ведь можно и не вернуться. Не люблю, когда сознание полностью выключается. Когда я сплю, только сны, пусть даже дурные, страшные, и связывают меня с действительностью, они мне необходимы, ночью меня даже головная боль радует; иначе я перестаю существовать. Где же я, когда не существую? Сдан в архив? Последнее время эти вопросы меня тревожат, и в детстве тревожили. Все, что тревожит меня теперь, еще сильней тревожило в детстве. По той же причине я тревожусь, что рано или поздно мне может потребоваться какая-нибудь операция; достаточно противно уже то, что меня будут резать, долбить, пилить, зашивать, но еще отвратительней самая мысль о наркозе, ведь это – полная утрата сознания. Где я буду в пугающе беспросветный, неизмеримый провал между тем мгновеньем, когда на лицо мне надвинут маску и велят глубоко дышать, как было в детстве, когда мне вырезали миндалины, и потом, уже после женитьбы, когда вырывали зубы мудрости, – и мгновеньем, когда в мозгу у меня вновь шевельнется мысль и я, подобно Христу во гробе или Лазарю в могиле, буду чудесным образом воскрешен? По-моему, точно такое же чудо происходит на свете всякий раз, как я пробуждаюсь от сна. Что со мной происходит, когда я перестаю себя сознавать? Куда я деваюсь? Где пребываю? Кто отвечает за то, чтобы, погрузившись в небытие, я вновь вынырнул на свет? Если под наркозом я умру, я и не узнаю, что меня не стало. Если я чувствую, что никак не могу уснуть, я принимаю какие-нибудь успокоительные таблетки, которыми пользуется жена, – вдруг все же помогут. Принимать снотворные не хочется: тогда мне мерещатся образы и запахи старинных погребальных церемоний, зубоврачебных кабинетов и восковых фруктов. Давным-давно, когда дочь была маленькая, она в глухие ночные часы возникала у нас в спальне или на пороге общей комнаты, просто вдруг оказывалась там, и издавала негромкие, едва слышные странные, шелестящие звуки – мы не столько слышали их, как чуяли, – и не успокаивалась до тех пор, пока мы не поднимали глаза и не замечали ее. Она не могла произнести ни слова, казалось, губы у нее одеревенели, мы набрасывались на нее с вопросами – а ответом была лишь какая-то сонная невнятица, – и, когда, заставив ее вернуться к себе в комнату, спрашивали наутро о ночном происшествии, она ничего не помнила. А может, только говорила, будто не помнит. Мы наугад пытались объяснить это недавней операцией – ей вырезали миндалины, – но все это началось раньше, а операция прошла нормально, и ни в больнице, ни дома, ни до нее, ни после в поведении дочери не было ничего настораживавшего. Только разочарование. Она ждала чего-то другого. Вскоре это кончилось. Похоже, она с этим справилась, и мы перестали беспокоиться. Когда миндалины вырезали у моего мальчика, он тоже не хотел оставаться у себя в комнате. Все прошло нормально, сказали нам. Но немного спустя после операции он стал среди ночи потихоньку забираться к нам в спальню – свернется клубочком на ковре у изножья нашей кровати и спит. Он не хотел оставаться один. Если он приходил слишком скоро, пока мы еще не уснули, мы заставляли его вернуться в его комнату и позволяли не гасить свет; иногда мы его ругали; но, сколько бы ни ругали, он все равно тихонько, крадучись опять старался пробраться к нам, точно новорожденный, стремящийся вырваться на свет Божий, и сворачивался клубком на полу у изножья нашей кровати. Мы проснемся, а он лежит на боку, будто зародыш во чреве матери, и сосет большой палец. Всякий раз, как утром, едва очнувшись от сна, мы замечали, что кроме нас в комнате есть еще живое существо, мы холодели от ужаса, этот удар, которым встречал нас новый день, бросал нас в дрожь, приводил в отчаянье. Когда мы запирались, он спал, свернувшись, на полу за дверью, у самого порога. Бывало, ночью одному из нас понадобится выйти, и мы, ничего подобного не ожидая, ударим его дверью и чуть не закричим от страха. Вставая ночью с постели, мы боялись впотьмах на него наступить. Можно было, конечно, взять его к себе в постель, мы бы с радостью. Но доктор запретил. Нам было больно за него. Мы не хотели его выставлять. И напрасно мы это делали. Я думаю, доктор был неправ. А что еще мы могли?) Дочь очень обидчива, всегда готова ощетиниться и даже самое мягкое замечание принимает точно жестокую несправедливость. Она совсем напрасно недооценивает себя и, когда мы защищаем ее от нее самой или хвалим, горячо с нами спорит. Иногда она вдруг расплачется, словно это мы преуменьшаем ее достоинства. У нее особый дар ставить меня в самое затруднительное и неприятное положение. Она вовсе не такая толстая громадина, как ей кажется, кожа у нее не такая жирная, как она со страхом думает, и лицо гораздо, гораздо милее, чем она себя уверяет. В сущности, она совсем недурна. Но она не верит своим глазам и не в силах поверить нашим уверениям.
Она завидует всем знакомым девочкам – кому из-за чего (фигуре одной, волосам другой, богатству третьей, уму или талантам четвертой) – и сама не знает, на кого из них хотела бы походить. (Высокая для своих лет, она чувствует себя сейчас неуклюжей великаншей. Пока она была меньше большинства подружек, она была убеждена, что красивыми считаются только высокие девушки. Пока она была тоненькая, она считала себя плоской как доска и неженственной. Теперь, когда она стала чуть полней, чем следует, и обзавелась пышной грудью, она считает себя нескладной и убеждена, что мальчики влюбляются только в тоненьких девочек с плоскими животиками.) Это было бы забавно, не будь это так важно для нее. Она не может решить, например, чего она хочет – чтобы грудь (буфера) у нее стала больше или меньше. (Это тоже было бы забавно, не будь это для нее предметом долгих мрачных, молчаливых размышлений, когда она наглухо замыкается в себе. Сидит иной раз с нами, а вид отсутствующий. – О чем задумалась? – спрашиваю в таких случаях. На этот мой ход она отвечает лишь взглядом, исполненным презрения.)
Она чувствует, что ничем не взяла, и это правда. Но кому до этого дело! Кому какое дело, что ей не дано особых способностей, талантов, красоты или дара привлекать сердца? Однако ей это не все равно (и мне, пожалуй. И моей жене. И пожалуй, мы дали ей почувствовать, что нам это не все равно. Скажи мы ей, что нам это все равно, она сказала бы – значит, нам нет до нее никакого дела. Ее не проведешь. Ну как я могу ей сказать, что она самая чудесная, самая красивая девочка на свете, когда оба мы знаем, что это неправда? Что я могу ей ответить, когда она спрашивает, какова она по сравнению с другими девочками, которые в чем-нибудь да превосходят ее?). Ей самой далеко не все равно. (И пожалуй, мне тоже.)
– Ты во мне очень разочарован? – время от времени спрашивает она.
– Ну конечно, нет, – отвечаю я. – С чего ты взяла?
У нее много знакомых, но она одинока, редко когда повеселится. (Ее упрямое нежелание чувствовать себя счастливой и получать от жизни удовольствие нас бесит, хотя мы стараемся смотреть на это иначе. Не раз, когда я видел, что она не знает, куда себя девать, меня охватывала дикая ярость, я готов был схватить мою милую дочурку за плечи и свирепо ее трясти, кулаками лупить ее по лицу, по плечам и орать:
– Будь счастлива, черт тебя подери! Сучка, эгоистка! Ты что, не понимаешь, ведь от этого зависит вся наша жизнь?
Я ни разу, конечно, ничего такого себе не позволил и даже не сказал жене, что на меня такое накатывает, столь грубые и мерзкие порывы ей были бы отвратительны, она сочла бы их противоестественными и порочными, хотя я знаю, у нее и у самой бывают столь же грубые и противоестественные порывы. А насчет бесконечных мелких придирок жены к дочери я однажды заметил:
– Надеюсь, ты понимаешь, что на самом деле заботишься не о ее счастье, а о своем.
– Неправда. – Тут жена была непреклонна. – Ты что ж, думаешь, я не желаю ей счастья? Я думаю именно о ней.
– Ври больше, – ответил я или только хотел ответить.
Ведь именно жена вызвала у дочери приступ бурных рыданий: посреди разговора совсем о другом некстати предложила весело отпраздновать ее шестнадцатилетие, пригласить друзей – хотя для нас давно уже не секрет, что не набралось бы столько девочек и мальчиков, которые ей милы и которым мила она, чтобы хоть раз можно было по-настоящему отпраздновать день рожденья, и это вечно мучит ее и терзает.) Она уверена, что сверстники не любят ее. Она легко заводит подруг и равнодушно с ними расходится. Она все еще робеет перед мальчиками. (Вероятно, она уже хоть раз в какой-то мере приобщилась к сексу, и это не принесло ей радости, и теперь она с опаской ожидает следующего случая.) Если мальчики приходят к ней, когда я дома, она чувствует себя с ними связанно. Вправду ли, как могло показаться, жена предложила это без всякой задней мысли или ею руководила затаенная, быть может, даже неосознанная жестокость? Не знаю. Возможно, она предложила это от чистого сердца: она часто с тоской возвращается мыслями к событиям своей юности, от которых остались у нее приятные воспоминания. Когда ей исполнилось шестнадцать, мать устроила для нее такой праздник, что и принцесса была бы довольна, и она веселилась вовсю, или так ей сейчас кажется. (Возможно, тогда ей в последний раз дано было почувствовать себя центром Вселенной.) Жена моя из тех чувствительных добрых душ, которые склонны в каждом человеке находить хорошее (когда я ей позволяю) и смотреть в прошлое сквозь самые что ни на есть розовые очки – потому-то ее воспоминания отнюдь не всегда точны. Ей приятно думать, что она любила свою мать, хотя она и сама знает, что терпеть ее не могла. Юность ее проходила не счастливо, а мучительно. Она терпеть не может свою младшую сестру, и так было всегда. (Я по крайней мере возненавидел свою мать лишь тогда, когда она стала мне в тягость. Я и по сей день с тоской и печалью вижу во сне мать – я еще мальчишка, а она от меня уходит. И когда просыпаюсь, глаза у меня влажные.)
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































