Текст книги "Что-то случилось"
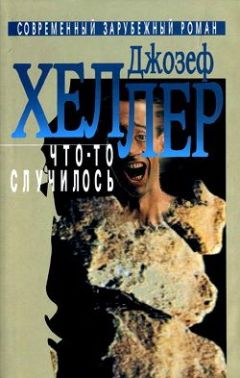
Автор книги: Джозеф Хеллер
Жанр: Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Мне больно вспоминать, какой жена была прежде, знать, какой она была и хотела бы остаться, и видеть, что происходит с ней теперь, – так бывает больно смотреть, когда разрушается всякий человек, который был мне когда-то дорог (или хоть приятен), и даже случайный знакомый, и даже кто-то чужой. (Вид чьих-то судорог меня угнетает – и если у кого-нибудь лицевой паралич или парализована нога, мне до того противно, что я цепенею. Мне хочется отвернуться. Меня возмущают слепцы – когда встречаю их на улице, я злюсь на них за их слепоту и за то, что им опасно ходить по улице, и отчаянно озираюсь по сторонам: может быть, кто-то другой подоспеет им на помощь, и мне не придется вести их через перекресток или мимо неожиданного препятствия, что возникло на тротуаре и повергло их в столь жалкую растерянность. Я не позволяю себе приобщиться к такому человеческому несчастью, отказываюсь его признавать, заталкиваю его в подсознание и изо всех сил захлопываю крышку. Если уж иначе нельзя, пускай врывается в ночные кошмары. Все равно, проснувшись, я их тотчас забываю.) Марта, машинистка, та молоденькая некрасивая девушка из нашего отдела, у которой нечистая кожа и которая сходит с ума, она совсем мне чужая, и она была уже порядком не в себе, когда Управление персоналом прислало ее к нам (чтобы она окончательно сошла с ума), я за нее не в ответе, я ее не знаю, не знаю ни ее мать, которая снова вышла замуж, и не хочет брать ее к себе в Айову, ни отца (если у нее еще жив отец), ни кого другого среди множества людей, живущих на свете, кто был бы ей близок; и однако, дай только я себе волю, то, что она сходит с ума, разобьет мне сердце. Я не говорю ей, каково мне это (или каково могло бы быть). Но разговариваю с ней всегда тепло. По моему поведению не разобрать, что я на самом деле чувствую.
Я стараюсь не показать ей, что ее состояние меня хоть сколько-нибудь волнует (понимай она, что я понимаю, она еще, пожалуй, обратится ко мне за помощью), и стараюсь не позволять себе волноваться. Стараюсь не дать ей заметить, что я понимаю. (Возможно, она еще и сама не понимает, что с ней происходит.) Наверно, расстроилась бы, если бы знала: все вокруг понимают, что она сходит с ума.
Итак, движимый все той же грубой смесью сочувствия и эгоизма, я ничего не говорю Марте – и ничего не говорю жене о том, что она выпивает, и флиртует, и пересыпает свою речь ругательствами, как ничего не говорил матери, когда у нее случился первый удар, как ничего не говорю никому из тех, кого знаю, когда замечаю в них первые признаки необратимого увядания, надвигающейся дряхлости и смерти. (Этих людей я тут же сбрасываю со счетов. Я списываю их в свой архив задолго до того, как они умрут, при первых признаках приближающегося конца.) Я никому не говорю ничего неприятного, если понимаю, что тут уже ничем не поможешь. Я ничего не сказал матери, когда у нее случился инсульт, хотя был при этом и в конце концов именно мне пришлось вызывать врача. Я не хотел, чтобы она понимала, что у нее удар; а когда она поняла, не хотел, чтобы понимала, что я понимаю.
Я притворялся, будто ничего не заметил, когда навестил ее (она жила одна в квартире), как навещал каждую неделю, и вдруг язык перестал ей повиноваться, у нее вырывались лишь все одни и те же спотыкающиеся, гортанные, расщепленные слоги. Я не выдал своего удивления. скрыл тревогу. В тот первый раз она замолчала с видом озадаченным, даже, пожалуй, капризным, виновато улыбнулась и снова попробовала закончить начатую фразу. Опять у нее ничего не получилось. И опять не получилось. И опять. А потом она уже и не очень старалась, словно наперед знала, что это напрасно, что уже слишком поздно. В остальном она чувствовала себя неплохо. Но когда я предложил вызвать врача, кивнула; я стал звонить, и бедняжка вяло покорилась – глаза ее увлажнились, и она смиренно, растерянно пожала плечами. (Ей было страшно. И стыдно.)
Доктор потом терпеливо объяснял, что это, возможно, был не тромб, а всего лишь спазм очень мелкого сосуда мозга (ударов вообще не бывает, сказал он; бывают только кровоизлияния, тромбы и спазмы). Если бы пострадал более крупный сосуд, у нее вдобавок был бы паралич одной стороны, а пожалуй, и потеря памяти. Но говорить она уже так никогда и не смогла, хотя, забывшись, пыталась (скорее по привычке, а не в надежде, что ей это наконец удастся), а затем случился второй, но далеко не последний спазм (или удар), и потом она уже и не пыталась. Я навещал ее в доме для престарелых (ей там было тошно); я разговаривал, а она слушала и жестами показывала, когда хотела, чтобы я ей что-то подал, или вставала со стула или с постели и брала сама (пока еще могла вставать). Иногда она коротко писала на клочке бумаги, чего хочет. Сидя у ее постели во время своих посещений, я рассказывал все, что мог, о жене, детях и службе, а потом и всякую всячину, которая, на мой взгляд, должна была быть ей приятна, и никогда не поминал ни об ударе, ни о других немощах, которые неотвратимо подкрадывались к ней и одолевали ее (особенно артрит, и все усиливалась физическая и умственная вялость, которая в конце концов перешла в болезненную апатию). Она так и не узнала, что Дерек родился неполноценным, хотя о его рождении знала. Я всегда говорил ей, что он вполне здоров. (Я всегда и про всех говорил ей, что они вполне здоровы.) Мы и сами узнали про болезнь Дерека только через несколько лет, а тогда было уже слишком поздно: он уже существовал, все уже произошло. (Теперь я рад бы избавиться от него, хотя сказать об этом вслух не решусь. Подозреваю, что мои чувства разделяет вся наша семья. Вероятно, только мой мальчик чувствует себя иначе: он, пожалуй, рассудил, что если бы мы отделались от Дерека, так можем отделаться и от него, и уже тревожится – вдруг мы втайне это замышляем. Мой мальчик следит за всем, что касается нашего отношения к Дереку, и все мотает на ус, словно хочет понять, как мы в конце концов от Дерека отделаемся; он чувствует, рано или поздно нам, вероятно, этого не миновать.)
От моих бесед с матерью, как и от моих посещений, ей было мало толку. О том, что она серьезно больна и находится в доме для престарелых, где ей тошно, что она инвалид и с каждым днем дряхлеет и становится все беспомощней, я не заговаривал – и ради себя самого, и ради нее (больше ради себя), делал вид, будто ничего этого нет. Я не хотел, чтобы она понимала (и понимал, что она понимает), а она поняла еще прежде меня, что она умирает, медленно, постепенно, и органы ее сдают и один за другим отказывают. Я приносил ей еду (ближе к концу, когда она уже мало что соображала и с трудом, лишь на минуту-другую, вспоминала, кто я такой, она хватала эту еду своими высохшими пальцами и жадно ела прямо с бумаги, точно некое голодное, посаженное в клетку, исхудавшее, сморщенное и седое животное – моя мать). До самой ее смерти я делал вид, будто она в полном порядке, и ни слова не говорил ей о ее истинном состоянии. Я ничем ей не помогал (разве что приносил еду), как нет от меня толку нашей машинистке, которая у меня на глазах сходит с ума, как нет от меня толку ни моей жене с ее пристрастием к выпивке, с флиртом и прочими довольно неловкими попытками быть живой и веселой. (Когда я лежу теперь один в незнакомых постелях в отелях и мотелях и пытаюсь заставить себя уснуть, мне чудится, будто меня осаждают мерзкие полчища кусачих мух или клопов, с которыми я совершенно не способен совладать, потому что я чересчур брезглив, чтобы их терпеть, а уйти мне некуда.) Я ни в коем случае не хочу, чтобы жена поняла, что на вечерах она выпивает лишнее и порой ведет себя с другими недопустимо и производит прескверное впечатление, когда воображает, будто произвела наилучшее! Если бы она узнала (если бы только могла заподозрить, какой неуклюжей и несносной она порой становится), это бы ее сокрушило (доконало), а она и так достаточно удручена.
Дома, днем, она пьет только вино; вечерами, до или после ужина, может вместе со мной выпить виски. Часто мы по вечерам совсем не пьем. Виски ей, в сущности, не нравится, и смешивать коктейли она не мастерица (впрочем, мартини начинает доставлять ей удовольствие, и ей приятно то оцепенело-блаженное состояние, которое, к счастью, наступает так быстро). В гостях, едва мы входим, она теперь выпивает первое, что предложат, и старается побыстрее набраться. Потом весь вечер она уже только это и пьет. Если у нас с ней день прошел мирно и на душе у нее легко, пока не опьянеет (если опьянеет) и ее не затошнит, не закружится голова, она хорошо проведет время, будет держаться со мной и со всеми шумно, оживленно, приветливо, и ничего худого не случится, а вот прежде она была тихая, скромная, чуть застенчивая и утонченная, почти робкая, и всегда отличалась тактом и хорошими манерами.
Если день прошел не слишком гладко, если она недовольна мной, дочерью или самой собой, она кидается заигрывать с мужчинами. Того (или тех), с кем она заигрывает, она обычно отпугивает, потому что не умеет этого, и мужчины почти никогда не задерживаются около нее и не успевают ответить ей тем же; в ее заигрывании есть что-то опасное, она слишком явно стремится соблазнить, ведет себя вызывающе, и, если я вовремя не вмешаюсь, дело может кончиться сценой. Выбирает она обычно кого-нибудь из знакомых, с кем чувствует себя в полной безопасности (всерьез-то заигрывать ей, по-моему, вовсе не хочется), – того, кто в эту минуту знай себе получает удовольствие и никому не мешает. (Быть может, он кажется ей самодовольным.) Мне грустно все это видеть, я не хочу, чтобы к ней относились плохо.
Она бросает мужчине вызов открыто, иногда прямо при его жене – отпускает какое-то откровенно двусмысленное замечание или прямо соблазняет: поглаживает по плечу, если он стоит, или, если сидит, сжимает ляжку; и тотчас, не дав ему опомниться, начинает говорить колкости, мстительно, свысока, словно он уже отверг ее. И пока она еще не успела наломать дров, я быстро и ловко прихожу ей на помощь и с улыбкой и какой-нибудь шуточкой благополучно увожу. Я никогда ее не попрекаю (хотя нередко меня жгут ярость и стыд); я ублажаю ее, хвалю, льщу ей. Мне хочется, чтобы она была довольна собой (сам не знаю почему).
– Ты просто ревнуешь, – бросает она мне, когда я ее уже увел.
– Еще бы! – с вымученным смешком отвечаю я и иногда нежно ее обнимаю, пусть ей будет легче поверить, что я и вправду ревную.
– То-то, – торжествует она.
У нас были лучшие времена, у меня с женой, не то что теперь, но, думаю, их уже не вернуть.
Скоро будем ужинать, говорит жена. Настроение у меня хорошее (а ведь так часто, сидя дома, с семьей, я предпочел бы очутиться подальше), и я великодушно решаю всячески постараться, чтоб сегодня (хотя бы сегодня) всем им было хорошо.
– Добрый вечер, – говорю я, когда входят дети.
– Привет, – говорит дочь.
– Привет, – говорит сын.
– Что с тобой? – спрашиваю я у дочери.
– Ничего, – говорит она.
– Ты чем-то недовольна?
– Нет.
– Но я же вижу – недовольна.
– Я же поздоровалась, верно? – намеренно тихо, тоном беспечного простодушия возражает она. – Чего ты от меня хочешь?
(А, будь оно все неладно, мрачно размышляю я, настроение у меня портится, – что с ней, черт возьми, такое?)
– Если у тебя что-то не так, – сдержанно настаиваю я, а сам уже начинаю распаляться, – я бы хотел знать, в чем дело.
– Все нормально. – Она стискивает зубы.
– Ужин готов, – объявляет жена.
– А мне он не понравится, – говорит мой мальчик.
– Что с ней? – громко спрашиваю я жену, когда мы рядом идем в столовую.
– Ничего. Не знаю. Я никогда не знаю. Давай сядем. И не будем сегодня воевать. Постараемся хоть раз поесть без крика, ругани и обид. Ведь это не так уж трудно, согласны?
– Меня это вполне устраивает, – говорит дочь с нажимом на слове «меня»: дает понять, что кого-то (меня, отца) это, наверно, не устраивает. (Она еще ни разу на меня не взглянула.)
– Я не против, – говорю.
– А мне ужин все равно не понравится, – говорит мой мальчик.
– Это еще почему? – спрашиваю.
– Хочу две сосиски.
– Ты бы хоть попробовал, – уговаривает жена.
– А что? – спрашивает дочь.
– Нельзя же всю жизнь питаться сосисками.
– Если тебе уж так хочется, будут тебе сосиски, – обещаю я сыну. – Идет?
– Идет.
– Идет? – спрашиваю жену. – И не будем воевать?
– Ладно.
– Аминь, – с облегчением произношу я.
– Что это значит? – спрашивает мой мальчик.
– Ole, – шутливо отвечаю я.
– Что это значит?
– Идет. Понятно?
– С каких это пор? – вмешивается дочь.
– Ole, – отвечает мой мальчик.
– Нет, это не то, – негромко, усталым, невыразительным ровным голосом говорит дочь, не поднимая глаз (я знаю, ей хочется продолжать пререканья). – Ole вовсе не значит «идет».
– Будь ты лучше настроена, я бы погрозился свернуть тебе шею, – поддразниваю я ее.
– А я настроена обыкновенно, – говорит она. – И вообще, почему это ты не грозишься свернуть мне шею?
– Потому что ты сейчас не поймешь шутки и, пожалуй, подумаешь, будто я вправду хочу тебе сделать больно.
– Ха.
– Неужели мы не можем поесть мирно? – молит жена. – Неужели это так трудно – мирно поесть всем вместе? Неужели нельзя?
Теперь уже я стискиваю зубы.
– Было бы много легче, – любезно говорю я ей, – если бы ты перестала это повторять.
– Прости, – говорит жена. – Прости, что я дышу.
– О черт!
– Правильно, – говорит жена, – чертыхайся.
– Ты не так меня поняла, – резко говорю я (это, разумеется, неправда: она поняла именно так). – Поверь мне. Послушай, мы ведь все решили сегодня обойтись без споров, верно?
– Я-то решила, – говорит дочь.
– Вот и давайте не спорить. Идет?
– Тогда не кричи, – говорит дочь.
– Ole, – говорит мой мальчик, и мы все улыбаемся.
(В кои-то веки мы пришли к общему согласию.) Теперь, когда решено тихо и мирно посидеть за столом, мы все как на иголках. (Сейчас мне жаль, что я дома, хотя побыть с моим мальчиком всегда приятно. Хорошо бы оказаться сейчас с одной из трех девушек, которые очень мне нравятся и которых я давно знаю – с Пенни, с Джил или Розмари, – или с новой молоденькой сотрудницей Группы оформления, Джейн, с ней наверняка можно бы поужинать и выпить, если б только я потрудился ее пригласить.) Никто за нашим семейным столом не решается произнести хоть слово.
– Может, помолимся? – предлагаю я, пытаясь разрядить атмосферу.
– Помолимся! – подхватывает мой мальчик.
Это старая семейная шутка, которая, в сущности, доставляет удовольствие только ему: дочь презрительно кривит губы. Пренебрежительная гримаса надолго задерживается у нее на лице – это нарочно, чтобы я заметил. Я притворяюсь, будто не замечаю. Стараюсь, чтоб меня это не задело. (Я знаю, дочери я часто кажусь ребячливым, и вот это вправду меня задевает. Меня так и подмывает попрекнуть ее, накричать, наподдать, больно лягнуть ее под столом. Когда члены моей семьи, даже дети, оскорбляют или обманывают меня, мне зачастую хочется дать сдачи. Иной раз, видя, что они ведут себя предосудительно, неправильно, за что я по праву могу их винить, я не вмешиваюсь, не стараюсь помочь или направить, но с радостью держусь в стороне, наблюдаю и жду, точно смотрю издалека на какую-то гадкую сцену, которая разворачивается передо мной в дурном сне, и подстерегаю, и предвкушаю: скоро можно будет отчитать их, отругать, потребовать объяснений и извинений. И сам ужасаюсь: ведь это все равно что видеть – вот-вот они упадут из окна или оступятся и сорвутся в пропасть, покалечатся или разобьются насмерть – и не остеречь, не спасти. Это противоестественно, и я стараюсь в себе это побороть. Где-то во мне поднимает голову некое пресмыкающееся, я стараюсь затолкать его поглубже, а оно рвется наружу, и я не знаю, что это за зверь и кого он хочет уничтожить. Он весь в бородавках. Может, это я и есть, а может, как раз меня он и хочет уничтожить.) И, скрывая гнев за безмятежной улыбкой, я говорю:
– Передай мне, пожалуйста, хлеб, детка.
Дочь передает хлеб.
Жена сидит напротив меня во главе (или в конце) стола, мой мальчик – по левую руку от меня, дочь – по правую. Служанка молча, неслышно снует в кухню и обратно и приносит кушанья. Жена накладывает на тарелки большие порции и передает нам. Мы молчим. Мы теперь уже не рискуем свободно разговаривать при наших цветных служанках. (Я даже не помню, как зовут ту, которая у нас сейчас: они теперь не задерживаются у нас подолгу.)
– Салат очень хорош, Сара, – говорит жена.
– Я готовила, как вы велели.
Мне неловко, чтоб служанка подавала каждому из нас кушанья, детям тоже неловко, и я этого не позволяю (хотя жена, я думаю, предпочла бы такой порядок, так было принято когда-то в доме ее родителей, так и сейчас еще делается в солидных буржуазных домах, она видит это по телевизору и в кино и воображает, будто так делается в Букингемском дворце и в Белом доме). Мне всегда и везде неловко, когда служанки подают мне кушанья, особенно в гостях (там я никогда толком не знаю, сколько чего надо брать, с трудом справляюсь с вилками и ложками – ведь брать все приходится сбоку – и вечно боюсь задеть плечом или локтем и опрокинуть на пол блюда с мясом и овощами. Разумеется, такого со мной не случалось… пока.) Я чувствую себя столь же неуютно, даже когда они белые (я имею в виду прислугу, не друзей. Цветных друзей у меня нет и, вероятно, никогда не будет, хотя я, безусловно, все чаще встречаю очень аппетитных цветных девушек, которых не прочь бы отведать. Но теперь они мне, наверно, уже недоступны, кроме разве кубинок или пуэрториканок).
– По-моему, вкусно, – говорит жена. – Надеюсь, что вкусно.
– А я не хочу, – говорит мой мальчик.
– Прекрати, – приказываю я.
– Ладно. – Он тут же отступает. Ему невмоготу, когда я им недоволен.
– А это что? – спрашивает дочь.
– Куриная печенка с лапшой в том винном соусе, который ты любишь к мясу. По-моему, тебе понравится.
– Не хочу, – бормочет мой мальчик.
– Но может, хоть попробуешь?
– Не люблю печенку.
– Это не печенка. Это курица.
– Это куриная печенка.
– Прошу тебя, попробуй.
– Попробую, – говорит он, – а потом пускай мне дадут сосиски.
– А мне можно печенки?
Затаив дыхание, мы с женой смотрим, как дочь мрачно, чуть ли не скорбно тыкает вилкой в куриную печенку и подносит ко рту маленький кусочек.
– Вкусно, – равнодушно говорит она и начинает есть.
У нас обоих гора с плеч.
Дочь у нас довольно высокая и полная, ей надо бы сидеть на диете, но жена, хоть и напоминает ей без конца о диете, тем не менее стряпает, к примеру, лапшу и накладывает на тарелки помногу, а дочь еще того гляди попросит добавки.
– Объедение, – говорю я.
– А сосиски мне дадут?
– Сара, сварите две сосиски.
– Передай мне, пожалуйста, хлеб.
Я пододвигаю дочери хлеб.
– У меня хорошая новость, – начинаю я, и все поворачиваются ко мне. Беседа с Артуром Бэроном все еще переполняет меня радостным волнением (и тщеславием); меня внезапно захлестывает волна великодушия и любви к ним, ко всем троим (ведь они моя семья, я и вправду к ним привязан), я решаю разделить с ними свою радость. – Да, похоже, у меня очень для всех нас важная новость.
Все трое глядят на меня с таким требовательным любопытством, что я просто не в силах продолжать.
– Какая? – спрашивает кто-то.
– Поразмыслив, я думаю, может, и не так уж это важно, – увиливаю я. – Да, в сущности говоря, совсем не важно. Даже неинтересно.
– Тогда почему ж ты так сказал? – спрашивает дочь.
– Чтоб помучить вас, – отшучиваюсь я.
– Что за черт? – говорит мой мальчик.
– Тебе в самом деле есть что сказать? – спрашивает жена.
– Может, да, – весело поддразниваю я, – а может, и нет.
– Он нас дразнит! – насмешливо и неприязненно поясняет моя дочь, обращаясь к брату.
(Опять она заставляет меня почувствовать себя дураком. И опять на меня вдруг накатывает властное, злое желание сделать ей больно, глубоко ранить резкой отповедью, перегнуться через обеденный стол и влепить пощечину, или дать подзатыльник, или побольней лягнуть в лодыжку или в голень. Но я могу лишь пропустить ее слова мимо ушей и сохранить видимость отеческого благодушия.)
– Тогда почему ж ты нам не говоришь? – интересуется жена. – Особенно если новость хорошая.
– Скажу, – говорю я. – Я вот что хотел сказать, – провозглашаю я, замолкаю, намазываю хлеб маслом и откусываю кусочек, мной снова овладела игривость, желание помучить. – Мне, вероятно, опять надо будет заняться гольфом.
Наступает задумчивая, озадаченная, чуть ли не возмущенная тишина – каждый пытается первым догадаться, что же такое я шутки ради утаиваю от них и вот-вот открою.
– Гольфом? – спрашивает мой девятилетний сын; он еще толком не знает, что это за игра – хорошая или дурная.
– Да.
– При чем тут гольф? – удивляется жена. (Она знает, я эту игру терпеть не могу.)
– При том, – говорю.
– Ты же его совсем не любишь.
– Терпеть не могу. Но скорее всего, придется.
– Почему?
– Спорим, его переводят на новую должность! – догадывается дочь. Она у нас во многих отношениях самая сообразительная и самая толковая.
– Это верно? – спрашивает жена.
– Возможно.
– Что за работа? – подозрительно, почти угрюмо спрашивает жена. Она уже несколько лет втайне уверена, что я жажду перейти на такую работу, которая позволит мне чаще уезжать из дому.
– Торговля.
– А чем торговать? – спрашивает мой мальчик.
– Торговать торговлей.
На миг он приходит в замешательство, мой загадочный ответ его ошеломил. Потом понимает, что я шучу, и хохочет. Глаза у него блестят, лицо радостно сияет. (Мой мальчик – прелесть, он всем нравится.)
– Ты это серьезно? – допытывается жена, в упор глядя на меня. Она все еще не знает, радоваться или нет.
– Надо думать.
– Придется разъезжать больше, чем теперь?
– Нет. Наверно, меньше.
– Будешь больше получать? – спрашивает дочь.
– Да. Вероятно, много больше.
– Мы разбогатеем?
– Нет.
– А когда-нибудь разбогатеем?
– Нет.
– Не хочу, чтоб ты разъезжал больше прежнего, – жалобно говорит мой мальчик.
– А я и не собираюсь разъезжать больше прежнего, – не без досады повторяю я. – Я буду разъезжать меньше. (Уже жалею, что вообще затеял этот разговор. Вопросы так и сыплются; самодовольство мое убывает, армия раздражителей наступает слишком стремительно – я не успеваю ни уследить за ними, ни сдержать. Я отвечаю, уже слегка запинаясь.)
– Опять начнешь сам с собой разговаривать? – с озорной улыбкой спрашивает сын: не удержался от искушения поддеть меня.
– Вовсе я не разговаривал сам с собой, – решительно заявляю я.
– Нет, разговаривал, – тихонько, словно про себя, говорит дочь.
– Как в прошлом году? – не унимается мой мальчик.
– Вовсе я не разговаривал сам с собой, – громко повторяю я. – Я репетировал речь.
– Ты репетировал ее сам с собой, – настаивает он.
– А в этом году тебе дадут произнести речь на конференции? – спрашивает дочь.
– О да, – с улыбкой отвечаю я.
– Длинную?
– О да, конечно. В этом году на конференции мне, наверно, дадут столько времени, сколько я захочу.
– Ты будешь работать у Энди Кейгла? – спрашивает жена.
И тут я спохватываюсь.
– Что-то в этом роде, – отвечаю уклончиво, с запинкой. (Семейная «отгадайка» перестает быть забавной, и я уже по-настоящему жалею, что ее затеял.) – Это еще не наверняка, – с беспокойным смешком говорю я. – И еще очень нескоро. Пожалуй, зря я вам сказал, поторопился.
– Я рада, что ты будешь работать у Энди Кейгла, – заявляет жена. – Не люблю Грина.
– Я не говорил, что буду работать у Кейгла.
– Не доверяю я Грину.
– Ты что, не слышишь?
– Не рявкай на меня.
– Не хочу, чтоб ты был торговцем! – с неожиданным жаром, чуть не со слезами восклицает дочь. – Не хочу, чтоб тебе надо было ходить по чужим отцам и упрашивать их что-то там у тебя купить.
– Не собираюсь я быть торговцем, – нетерпеливо возражаю я. – Послушайте, что вы все как разболтались? Я еще пока на старом месте. Я еще даже не уверен, что соглашусь на новую должность.
– Нечего на нее кричать, – говорит жена.
– Я не кричу.
– Нет, кричишь, – говорит она. – Ты что, не слышишь себя?
– Ну извини, если кричал.
– И нечего на всех рявкать.
– Ну извини, если рявкал.
На этот раз жена права. Я и не заметил, как на смену жизнерадостному самодовольству пришло дурное настроение и, сам того не сознавая, сердито повысил голос и опять на всех накричал. Теперь за столом молчание. Дети сидят, опустив глаза. Похоже, они боятся шевельнуться. Чувствую себя виноватым. У меня разламывается голова (от напряжения. Когда она болит по-другому – это плохой знак). Я онемел от стыда. Чувствую себя таким беспомощным, таким неуверенным. Хоть бы кто-нибудь что-нибудь сказал, как-то помог бы мне найти возможность попросить прощения. (Чувствую себя потерянным.) Но они будут молчать как проклятые.
И вдруг меня осеняет. Круто поворачиваюсь к сыну, уставляю на него указательный палец, спрашиваю:
– Злишься или веселишься?
– Веселюсь! – радостно, со смехом кричит он, поняв, что я снова шучу и уже не сержусь.
Поворот в другую сторону, уставляю указательный палец на дочь.
– Злишься или веселишься? – спрашиваю ухмыляясь.
– Ох, папа, вечно одно и то же: кого-нибудь из нас обидишь, а потом стараешься выкрутиться и ведешь себя как малый ребенок, – говорит она в ответ.
– Всё дерьмо, – цежу я сквозь зубы, уязвленный Упреком.
– Зачем так выражаться при детях? – говорит жена.
– Они-то при нас выражаются, – огрызаюсь я. И поворачиваюсь к дочери: – Скажи «дерьмо».
– Дерьмо, – говорит она.
– Скажи «дерьмо», – говорю я сыну.
Он готов заплакать.
(Хорошо бы протянуть руку, утешить и ободрить его, потрепать по мягким рыжим волосам. Я всем сердцем люблю моего мальчика, а вот в своих чувствах к дочери уже не уверен.)
– Ну виноват, – торопливо говорю я ему. (У меня ужасное, постыдное ощущение: вдруг я протяну руку, чтобы успокоить его, а он невольно съежится, словно испугается, ожидая, что я его ударю. С болью шарахаюсь от этой мысли.) Поворачиваюсь к дочери. – Извини, – говорю и ей, говорю проникновенно. – Ты права, извини меня. Я и вправду веду себя как ребенок. – Теперь уже я опускаю глаза. – Я, пожалуй, еще выпью, – виновато говорю я и встаю. – Есть больше не хочу. А вы продолжайте. Я подожду в гостиной. Извините.
И ухожу, а они продолжают есть, и до меня доносятся их приглушенные голоса.
Вот всегда я так, а ведь и в мыслях не было их обижать. Но признаться в этом жене или детям я не могу. Жена не поймет. Не могу я просто взять и сказать ей «извини». Она подумает, я и правда прошу прощения. Мы с женой утратили способность понимать друг друга, но я порой об этом забываю и пытаюсь с ней поговорить. Мы уже недостаточно близки, чтобы разговаривать откровенно (хотя достаточно близки, чтобы часто спать друг с другом). Она скажет в ответ что-нибудь бессмысленное, огорчительное и обидное, что-нибудь вроде: «Тебе и следует чувствовать себя виноватым», или «Нечего рявкать на всех», или «Нечего на меня огрызаться». Словно беда наша в том, что я рявкаю или она на меня рявкает (так тоже бывает). Она непременно скажет что-нибудь в этом роде; и опять я замолчу, словно от пощечины; слова ее оглушат меня; опять я почувствую себя заброшенным, отвергнутым и опять в поисках спасения с головой нырну в темную и мрачную волну неодолимой печали, почувствую себя одиноким и снова окажусь лицом к лицу с той истиной, что мне не на кого положиться в этом мире, не у кого искать помощи; опять затоскую по матери (и по отцу?) и по умершему старшему брату и опять размечтаюсь о новой работе в какой-нибудь другой фирме, чтобы можно было почаще уезжать из дому. Однажды, в недалеком будущем, кто-нибудь, возможно, сбросит на нас бомбы. Я закричу:
– Небо рушится! Нас бомбят! Горим! Конец света! Мир гибнет!
А жена в ответ скажет:
– Нечего повышать на меня голос.
Что с нами случилось? Что-нибудь да случилось. Когда-то я был мальчиком, а она девочкой, и все нам было внове. Теперь мы мужчина и женщина, и нам уже ничто не внове, и кажется, все изведано. Когда-то, наверно, мы любили друг друга. Наверно, мы получали удовольствие друг от друга; по крайней мере так кажется теперь, хотя мы всегда воевали – не из-за одного, так из-за другого.
Я всегда старался раздеть ее, а она не давалась. Это я хорошо помню. Сколько раз приходилось раздевать ее силком – ей не нравилось заниматься любовью под открытым небом и даже в комнате, если поблизости кто-то был: в том же доме, или в той же квартире, или в соседней комнате (даже в гостиницах! Стоило ей заслышать, что в комнате рядом кто-то шевельнулся, и она цепенела), даже в соседней квартире, в соседнем доме! Помню, я где ни попадя расстегивал на ней блузку, чтоб дорваться до лифчика, до груди. (Бледно-голубые лифчики по сей день сводят меня с ума больше даже, чем черные: она носила тогда бледно-голубые.) Она всегда боялась, как бы нас не застукали. А я плевать хотел (впрочем, если бы нас и правда застукали, мне, наверно, было бы не наплевать). Я накидывался на нее при каждом удобном и неудобном случае, сдирал с нее брюки или юбку, или срывал купальник или теннисные шорты и закидывал куда-нибудь себе за спину. Парнишка я был горячий. Мне все равно было, хорошо ей или нет, мне важно было получить свое. Я вечно старался ее оседлать. Мы тогда часто гостили у ее родителей, и, стоило им выйти, тут же хватал ее и старался повалить, пока никто не вернулся. Летом за городом или на берегу моря я старался выманить ее из дома, когда уже стемнело, и заниматься любовью на веранде или прямо на земле или на песке (хотя мне не нравилось, что в одежде и в волосах у меня было после полно песку, а ей не нравилось на земле: больно и синяки остаются). Я вечно вырывал у нее пуговицы, молнии, выдергивал и растягивал застежки и резинки на белье. В молодости я был прямо помешан на ней, неистовое желание сводило меня с ума. Я хотел кончать, кончать, кончать. Я набрасывался на нее без предупреждения, не давал ей опомниться, поговорить, подготовиться, найти предлог помешкать, и нередко она толком не понимала, что происходит, пока не оказывалась полураздетой, а я уже ринулся на нее и, раскаленный до предела, не слушал ее возражений и предостережений, и остановить меня она уже не могла: слишком поздно. (Случалось, сидя за семейным обедом, я строил планы, как и где кинусь на нее, едва представится возможность, и каким способом овладею ей на этот раз.) Где бы я ее ни подстерег, схватил и в конце концов одолел (если только это случалось не в нашей спальне, а иногда даже и в нашей спальне, при закрытых дверях), она откидывалась назад и покорно оседала подо мной, а открытые, сверкающие от страха глаза ее недоверчиво бегали по сторонам, – ей необходимо было убедиться, что никто нас не видит, не слышит, никто не приближается. (Наверно, я вдвойне наслаждался оттого, что она была в ужасе, а я брал ее силой.) И пусть глаза у нее открыты, и взгляд мечется из стороны в сторону, пусть в эту минуту в ней сильнее всего не страсть и она отнюдь не поглощена мною – неважно! – лишь бы заполучить ее, когда меня взяла охота, и овладеть ею. Это пряное, ликующее ощущение безумного риска, эта способность не просто уговорить ее, скорее подчинить, что-то еще прибавляли к наслаждению, и теперь временами я дорого бы дал, чтобы меня била та же лихорадка слепого пыла, спешки и взвинченности. (Да, это прибавляло немало.) Может, именно этого мне сейчас и недостает. Я схожусь теперь с девушками, такими же молоденькими, как была она в ту пору, и они куда живей, распутней и податливей, но нет в этом былого порыва и взволнованности, и после не испытываешь былого удовлетворения. (Уж больно все податливы.) Я теперь лучше владею собой, стал более опытным, но удовольствия получаю куда меньше, чем получал когда-то с молодой женой, и, когда вспоминаю, какие мы с ней были, отчаянно тоскую по ней и думаю о нас тогдашних с бесконечной нежностью. Теперь к моим услугам просторные комнаты с широкими постелями, и полнейшее уединение, и сколько угодно времени: у девушек свои квартиры, и в моем распоряжении квартира Рэда Паркера в Нью-Йорке и номера и апартаменты в отелях во время деловых поездок; но все это слишком однообразно, слишком известно заранее и прозаично, даже когда я впервые остаюсь наедине с новой девушкой (и нередко, уже занимаясь любовью, я сам не понимаю, зачем мне это понадобилось. И, едва начав, мечтаю поскорей кончить. Едва придя, мечтаю уйти).









































