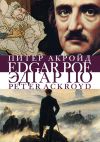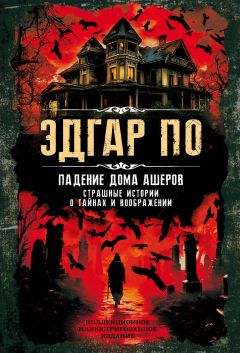
Автор книги: Эдгар По
Жанр: Ужасы и Мистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
Сам, самим собою, вечно один-единственный.
Платон*. «Пир»
С чувством глубокой и самой необыкновенной привязанности смотрел я на мою подругу Мореллу. Когда случай столкнул меня с нею много лет тому назад, душа моя с первой нашей встречи зажглась огнем, которого до тех пор она никогда не знала; но то не был огонь Эроса, и горестно и мучительно было для меня, когда мне постепенно пришлось убедиться, что я никак не могу определить необычайный характер этого чувства или овладеть его смутной напряженностью. Однако мы встретились; и судьба связала нас перед алтарем; и никогда я не говорил о страсти и не думал о любви. Тем не менее она избегала общества и, привязавшись всецело ко мне, сделала меня счастливым. Удивляться – это счастье; мечтать – это счастье.
Морелла обладала глубокой ученостью.* Я твердо убежден, что ее таланты были незаурядными – что силы ее ума были гигантскими. Я чувствовал это, и во многих отношениях сделался ее учеником. Однако вскоре я заметил, что она, быть может, в силу своего пресбургского образования*, нагромоздила передо мной целый ряд тех мистических произведений, которые обыкновенно рассматривались как накипь первичной немецкой литературы. Они, не могу себе представить почему, были предметом ее излюбленных и постоянных занятий – и если с течением времени они сделались тем же и для меня, это нужно приписать самому простому, но очень действительному влиянию привычки и примера.
Во всем этом, если я не ошибаюсь, для моего разума представлялось малое поле действия. Мои убеждения, если я не утратил верного о себе представления, отнюдь не были основаны на идеале, и, если только я не делаю большой ошибки, ни в моих поступках, ни в моих мыслях нельзя было бы найти какой-либо окраски мистицизма, отличавшего книги, которые я читал. Будучи убежден в этом, я слепо отдался влиянию жены и без колебаний вступил в запутанную сферу ее занятий. И тогда – когда склонившись в раздумье над отверженными страницами, я чувствовал, что отверженный дух загорается во мне, – Морелла клала на мою руку свою холодную руку и собирала в потухшей золе мертвой философии несколько глубоких загадочных слов, которые своим многозначительным смыслом, как огненными буквами, запечатлевались в моей памяти. И часы уходили за часами, я томился рядом с ней и впивал музыку ее голоса, пока, наконец, эта мелодия не окрашивалась чувством страха, и тогда на мою душу падала тень, и я бледнел и внутренне содрогался, внимая таким слишком неземным звукам. И восторг внезапно превращался в ужас, и самое прекрасное делалось самым отвратительным, подобно тому, как Гинном превратился в Геенну.*
Было бы бесполезно устанавливать точный характер тех изысканий, которые, будучи навеяны этими старинными томами, являлись в течение такого долгого времени почти единственным предметом моих бесед с Мореллой. Люди, сведущие в том, что может быть названо богословской нравственностью, понимают меня, а люди несведующие все равно поняли бы очень мало. Безумный пантеизм Фихте*; видоизмененная Палингенезия пифагорейцев*; и, прежде всего, учение о Тождестве, в том виде, как его развивает Шеллинг*, – таковы были главные исходные точки рассуждений, представлявшие наибольшую заманчивость для богатой фантазии Мореллы. Как мне кажется, Локк* делает верное определение личного тождества, говоря, что оно состоит в самости разумного существа. То обстоятельство, что мы понимаем под личностью мыслящее существо, одаренное разумом, и что мышление постоянно сопровождается сознанием, именно и делает нас нами самими, отличая нас этим от других существ, которые мыслят, и давая нам наше личное тождество. Но principium individuationis[16]16
Индивидуальное начало (греч.).
[Закрыть], т. е. представление о том тождестве, которое в самой смерти остается или утрачивается не навсегда, было для меня постоянно вопросом высокого интереса, не столько в силу волнующей и сложной природы его последствий, сколько в силу той особенной возбужденности, с которой Морелла упоминала о нем.
Однако настало время, когда таинственность, отличавшая нрав моей жены, стала угнетать меня, как чары колдовства. Я не мог более выносить прикосновения ее бледных пальцев, не мог слышать грудных звуков ее музыкального голоса, видеть блеск ее печальных глаз. И она знала все это, но не упрекала меня; она как будто сознавала мою слабость или мое безумие, и, улыбаясь, говорила, что это судьба. Она, по-видимому, знала также причину моего постепенного отчуждения от нее, причину, которая для меня самого осталась неизвестной; но она не давала никакого объяснения, никакого намека. И все же она была женщиной, и потому увядала с каждым днем. Наконец, ярко-красные пятна навсегда остановились на ее щеках, и голубые вены выступили на чистой белизне ее лба. И иногда существо мое размягчилось, и вот на мгновение прониклось жалостью, но тотчас же я встречал ее блестящий взгляд, исполненный глубокого значения, и вот уже душа моя смутилась, и меня охватило неопределенное волнение, подобное тому, которое испытывает человек, когда, охваченный головокружением, он смотрит вниз, в какую-нибудь угрюмую и неизмеримую пропасть.
Нужно ли говорить, что я жадно, со страстным нетерпением, ждал того мгновения, когда Морелла умрет? Я ждал; но хрупкий дух цеплялся за свою земную оболочку долгие дни, долгие недели, долгие нестерпимые месяцы, и, наконец, мои истерзанные нервы получили полную власть над моим рассудком, и я приходил в ярость при мысли об отсрочке и, затаив в своем сердце демона, проклинал дни и часы и горькие мгновенья, которые как будто все удлинялись и удлинялись, по мере того как нежная жизнь Мореллы все тускнела, точно тени умирающего дня.
Но в один из осенних вечеров, когда ветры безмолвно спят в небесах, Морелла подозвала меня к своему изголовью. Над землей лежал густой туман, над водой блистало теплое сиянье, а в лесу среди пышной октябрьской листвы как будто рассыпалась упавшая с небесного свода многоцветная радуга.
– Вот настал день дней, – сказала она, когда я приблизился, – день всех дней – и для жизни и для смерти. Чудесный день для сыновей земли и жизни – и насколько более чудесный для дочерей небес и смерти!
Наклонившись к ее лбу, я поцеловал ее, и она продолжала:
– Я умираю, но я буду жить.
– Морелла!
– Не было дня, когда бы ты мог любить меня – но ту, кем ты в жизни гнушался, ты в смерти будешь обожать.
– Морелла!
– Я говорю тебе, я умираю. Но во мне таится залог той привязанности – о, как она ничтожна! – которую ты чувствовал по отношению ко мне, Морелле. И когда мой дух отойдет, начнет дышать ребенок – твой ребенок и мой, Мореллы. Но дни твои будут днями скорби, которая среди ощущений длится более всех, как среди деревьев дольше, чем все, живет кипарис. Ибо часы твоего блаженства миновали. И нельзя дважды собирать в жизни радость, как розы Пестума* дважды в году. Ты не будешь больше, уподобляясь теосцу, наслаждаться временем, как игрой, но, позабыв о миртах и виноградниках, ты всюду на земле будешь влачить свой саван, как это делают мусульмане в Мекке.
– Морелла! – вскричал я, – Морелла! откуда знаешь ты это? – но она отвернулась от меня, и легкий трепет прошел по ее членам, и так она умерла, и я не слышал ее голоса больше никогда.
Но как она и предсказала, начал жить ее ребенок, ее дочь, которой она дала рождение, умирая, и которая стала дышать лишь тогда, когда мать перестала дышать. И странно росла она, как внешним образом, так и в качествах своего ума, и велико было сходство ее с усопшей, и я любил ее любовью более пламенной, чем та любовь, которую, как думал я, возможно, чувствовал к кому-либо из обитателей земли.
Но лазурное небо этой чистой привязанности быстро омрачилось, и печаль, и ужас, и тоска окутали его как туча. Я сказал, что ребенок странно вырастал как внешним образом, так и в качествах своего ума. О, поистине, странным было быстрое развитие тела, но страшными, – о, страшными! – были взволнованные мысли, которые овладевали мной, когда я наблюдал за ее духовным расцветом. Могло ли это быть иначе, когда я каждый день открывал в представлениях ребенка зрелые силы и способности женщины? Когда слова, исполненные опыта, нисходили с младенческих уст? И когда каждый час я видел, как в ее больших глазах блистала мудрость, и горели страсти, достигшие срока? Когда, говорю я, все это сделалось очевидным для моих устрашенных чувств, когда я не мог более утаивать этого от собственной души, когда я не мог отбросить от себя представлений, приводивших меня в трепет, нужно ли удивляться, что в мой ум прокрались страшные и беспокойные подозрения, что мысли мои вновь обратились с ужасом к зачарованным сказкам и волнующим помыслам моей погребенной Мореллы? Я утаил от людского любопытства существо, которое судьба мне велела обожать, и в строгом уединении моего жилища со смертельной тоскою следил за всем, что касалось возлюбленной.
И по мере того, как уходили годы, и я глядел день за днем на это святое, и кроткое, и исполненное красноречия лицо, смотрел на эти созревающие формы, день за днем я открывал новые черты сходства между ребенком и матерью, между печальной и умершей. И с каждым часом эти тени сходства все темнели, становились все полнее и определеннее, все более смущали и ужасали своим видом. Если улыбка дочери была похожа на улыбку матери, это я еще мог выносить, но я трепетал, видя, что это сходство было слишком полным тождеством. Я не в силах был видеть, что ее глаза были глазами Мореллы, и, кроме того, они нередко смотрели в глубину моей души с той же странной напряженностью мысли, которой были зачарованы глаза Мореллы. И в очертаниях высокого лба, и в локонах ее шелковистых волос, и в бледных пальцах, которые она в них прятала, и в печальной напевности ее речей, и более всего, – о, более всего, – в словах и в выражениях умершей, возрожденных на устах любимой и живущей, я видел много того, что наполняло меня снедающей мыслью и ужасом, – давало пищу для червя, который не хотел умереть.

Все земные обрат проходили близ меня как улетающие тени, и среди них я видел лишь одну – Мореллу
Так минули два пятилетия ее жизни, и дочь моя еще оставалась безымянной на земле. «Дитя мое» и «любовь моя» – таковы были обычные наименования, внушенные чувством отеческой привязанности, а строгая уединенность ее дней устраняла все другие отношения. Имя Мореллы умерло вместе с ней. Я никогда не говорил с дочерью о ее матери, невозможно было говорить. И действительно, в продолжение короткого периода своего существования она не получила никаких впечатлений от внешнего мира, исключая тех немногих, которые были обусловлены тесными границами ее уединенности. Но наконец при моем нервном и возбужденном состоянии обряд крещения представился мне как счастливое освобождение от ужасов моей судьбы. И у купели я колебался, какое выбрать ей имя. И целое множество имен, обозначающих мудрость и красоту, имен древних и новых эпох, моей родной страны и стран чужих, пришло мне на память вместе с многими-многими прекрасными именами, указывающими на благородство, и на счастье, и на благо. Что же подтолкнуло меня тогда возмущать память погребенной покойницы? Какой демон заставил меня произнести тот звук, который в самом воспоминании всегда отгонял пурпурную кровь от висков к сердцу? Какой злой дух заговорил из потаенных глубин моей души, когда под этими мрачными сводами, среди молчания ночи я прошептал святому человеку это слово – Морелла? Кто, как не демон, исказил черты лица моей дочери и покрыл их красками смерти, когда, дрогнув при этом едва уловимом звуке, она обратила свои блестящие глаза от земли к небу, и, упав распростерлась на черных плитах нашего фамильного склепа, ответив «я здесь!».
Явственно, холодно, со спокойной отчетливостью, упали в мою душу эти звуки и, словно расплавленный свинец, понеслись со свистом в пределах моего мозга. Уйдут года – года! – но память об этой эпохе останется навеки! И не был я лишен цветов и виноградных лоз – но цикута и кипарис* затемняли меня своею тенью в часы ночи и дня. И я не помнил ни времени, ни места, и звезды моей судьбы поблекли на небесах, и потому земля потемнела, и все земные образы проходили близ меня как улетающие тени, и среди них я видел лишь одну – Мореллу. Ветры, прилетая с небесного свода, наполняли мой слух одним звуком, и рокочущие волны подернутого рябью моря неизменно шептали мне – Морелла. Но она умерла; и собственными руками я снес ее в могилу, и засмеялся долгим и горестным смехом, когда увидал, что не осталось ни малейших следов от первой в том склепе, где я схоронил вторую – Мореллу.
ЗнаменитостьВсе встали на цыпочки от изумления.
Сатиры епископа Холла*
Я великий человек (точнее, был великим человеком), хотя я не автор писем Юниуса и не Железная Маска*: мое имя, если не ошибаюсь, Роберт Джонс, а родился я где-то в городе Ври Больше*.
Появившись на свет Божий, я первым делом схватил себя за нос обеими руками. Моя матушка, увидев это, объявила, что я гений; мой отец прослезился от радости и подарил мне курс носологии. Я изучил его прежде, чем надел штаны.
Я рано почувствовал призвание к науке и скоро сообразил, что если только у человека имеется достаточно солидный нос, го, следуя его указаниям, нетрудно достигнуть славы. Но я не ограничивался теорией. Каждое утро я давал себе два щелчка по носу и пропускал рюмок шесть горячительного.
Когда я вырос, мой отец пригласил меня однажды в свой кабинет.
– Сын мой, – сказал он, – какая цель твоего существования?
– Отец мой, – отвечал я, – изучение носологии.
– А что такое носология, Роберт? – спросил он.
– Сэр, – отвечал я, – это наука о носах.
– А можешь ты объяснить мне, – продолжал отец, – что такое нос?
– Нос, отец мой, – ответил я с увлечением, – весьма различно определяется различными авторами. (Тут я посмотрел на часы.) Теперь полдень или около того; до полуночи я успею изложить вам все мнения по этому вопросу. Начнем с Бартолина*; по его определению, нос – это та выпуклость, тот желвак, тот нарост, тот…
– Будет, Роберт, – перебил добрый старик. – Я поражен твоими громадными знаниями, ей-Богу, поражен. (Тут он зажмурился и приложил руку к сердцу.) Поди ко мне! (Он взял меня за руку.) Твое воспитание можно считать законченным, пора тебе встать на ноги, и самое лучшее, если ты последуешь за своим носом – итак… (Отец спустил меня с лестницы и вытолкал за дверь.) – Итак, убирайся вон из моего дома и да благословит тебя Бог.
Чувствуя в себе божественное предопределение, я посчитал это происшествие скорее благоприятным, чем плачевным. Я намеревался исполнить отеческое наставление. Я решил последовать за своим носом. Я тут же дал ему два-три щелчка, а затем, написал памфлет о носологии.
Весь наш народ Ври Больше пришел в волнение.
– Изумительный гений! – сказал Quarterly*.
– Превосходный физиолог! – сказал Westminster*.
– Тонкий ум! – сказал Foreign*.
– Прекрасный писатель! – сказал Edinburgh*.
– Глубокий мыслитель! – сказал Dublin*.
– Великий человек! – сказал Bentley*.
– Божественный дух! – сказал Frazer*.
– Из наших! – сказал Blackwood*.
– Кто бы это мог быть? – сказала миссис Синий Чулок.
– Кто бы это мог быть? – сказала толстая мисс Синий Чулок.
– Кто бы это мог быть? – сказала тоненькая мисс Синий Чулок.
Но я знать не хотел этих господ, – я прямо направился в мастерскую художника.
Герцогиня Ах-Боже-Мой позировала, маркиз Так-И-Так держал ее пуделя, граф И-То-И-Се подносил ей флакончик с солью, а его королевское высочество Не-Тронь-Меня прислонился к спинке ее стула.
Я подошел к художнику и вздернул нос.
– О, какая прелесть! – вздохнула ее светлость.
– О, Господи! – прошептал маркиз.
– О, безобразие! – простонал граф.
– О, чудовище! – проворчал его королевское высочество.
– Сколько вы за него возьмете? – спросил художник.
– За его нос! – воскликнула ее светлость.
– Тысячу фунтов, – сказал я, садясь.
– Тысячу фунтов! – повторил художник задумчиво.
– Тысячу фунтов! – подтвердил я.
– С ручательством? – спросил он, поворачивая нос к свету.
– Да, – отвечал я, высморкавшись.
– Это настоящий оригинал? – спросил художник, почтительно прикасаясь к моему носу.
– Хе! – отвечал я, скрутив нос набок.
– Не было ни одного снимка? – продолжал художник, рассматривая его в лупу.
– Ни одного, – отвечал я, задрав нос еще выше.
– Удивительно! – воскликнул он, пораженный изяществом этого маневра.
– Тысячу фунтов! – сказал я.
– Тысячу фунтов! – повторил он.
– Именно! – сказал я.
– Тысячу фунтов! – опять повторил он.
– Ни более, ни менее! – сказал я.
– Вы их получите! – сказал он. – Хороший экземпляр.
И тут же выдал мне чек и срисовал мой нос. Я нанял квартиру на Джермин-стрит* и послал ее величеству девяносто девятое издание «Носологии» с портретом обонятельного органа. Повеса принц Уэльский пригласил меня на обед. Мы собрались – все львы, все recherches[17]17
Изысканные (фр.).
[Закрыть].
Был тут современный Платоник*. Он цитировал Порфирия*, Ямвлиха*, Плотина*, Прокла*, Гиерокла*, Максима Тирского* и Сириана*.

Не было ни одного снимка? – продолжал художник, рассматривая его в лупу
Был тут сторонник идеи человеческого прогресса. Он цитировал Тюрго*, Прайса*, Пристли*, Кондорсе*, Сталь* и «Честолюбивого студента со слабым здоровьем».
Был тут сэр Положительный Парадокс. Он объявил, что все дураки были философами и все философы дураками.
Был тут Эстетикус Этике. Он говорил об огне, единстве и атомах; о двойственной и предсуществовавшей душе*; о сродстве и разъединении; о первичном уме и гомеомерии*.
Был тут Теологос Теолог. Он толковал о Евсевии и Арии*; о ересях и Никейском соборе*; о пьюзеизме* и субстанциализме*; о гомузиос и гомойузиос*.
Был тут Фрикасе из Rocher de Cancale[18]18
«Роше де Канкаль» (фр.) – ресторан в Париже.
[Закрыть]. Он рассказывал о цветной капусте с соусом veloute; о телятине a la St. Menehoult; о маринаде a la St. Florentin; об апельсинном желе en mozai’ques.
Был тут Бибулюс О’Полштоф. Он распространялся о латуре и маркобруннене, о мюссе и шамбертене, о ришбуре и сен-жорже, о гобрионе, лионвилле и медоке; о бараке и преньяке; о граве, о сотерне, о лафите, о сен-перэ. Он покачивал головой, смакуя клодвужо, и отличал с закрытыми глазами херес от амонтильядо.*
Был тут синьор Тинтонтинтино из Флоренции. Он рассуждал о Чимабуэ*, Арпино*, Карпаччо* и Агостино*; о сумрачном тоне Караваджо*, о грации Альбано*, о колорите Тициана*, о женщинах Рубенса* и о шалостях Яна Стена*.
Был тут ректор местного университета. Он высказал мнение, будто луна называлась Бендис* во Фракии, Бубастис* в Египте, Дианой в Риме и Артемидой в Греции.
Был тут турецкий паша из Стамбула. Он не мог себе представить ангелов иначе, как в виде лошадей, петухов и быков, и полагал, что на шестом небе есть некто с семью тысячами голов; земля покоится на корове небесно-голубого цвета с бесчисленными рогами.
Был тут Дельфинус Полиглот. Он рассказал нам, какая судьба постигла восемьдесят три потерянные трагедии Эсхила*; пятьдесят четыре речи Исея*; триста девяносто один спич Лисия*; сто восемьдесят трактатов Теофраста*; восемь книг о конических сeчениях Аполлония*; гимны и дифирамбы Пиндара* и сорок пять трагедий Гомера Младшего*.
Был тут Фердинанд Фиц-Фоссилиус Полевой Шпат. Он сообщил нам об огненно-жидком ядре и третичной формации; газообразном, жидком и твердом; о кварце и мергеле; о шифере и шерле; о гипсе и трапе; об извести и тальке; о порфире и мелафире; о слюдяном сланце и пуддинговом камне; о цианите и лепидолите; о гематите и тремолите; об антимонии и халцедоне; о марганце и обо всем остальном.
Был тут я. Я говорил о себе, – о себе, о себе, о себе, – о носологии, о моем памфлете и о себе. Я задрал нос кверху и говорил о себе.
– Поразительно умный человек! – сказал принц.
– Удивительно! – подхватили гости.
А на другое утро ее светлость Ах-Боже-Мой явилась ко мне с визитом.
– Будете вы у Альмака*, милое создание? – сказала она, ущипнув меня за подбородок.
– Честное слово, – сказал я.
– С носом? – спросила она.
– Непременно, – отвечал я.
– Так вот карточка, жизнь моя. Могу я сказать, что вы будете?
– Дорогая герцогиня – с радостью.
– Э, нет! Лучше с носом.
– И его захвачу, радость моя, – сказал я, повел им туда-сюда и очутился у Альмака.
Комнаты были битком набиты.
– Он идет! – крикнул кто-то на лестнице.
– Он идет! – крикнул другой.
– Он идет! – крикнул третий.
– Он пришел! – воскликнула графиня. – Он пришел, мой ненаглядный!
И схватив меня крепко обеими руками, она трижды чмокнула меня в нос.
Это вызвало сенсацию.
– Diavolo![19]19
Дьявол! (ит.)
[Закрыть] – воскликнул граф Каприкорнутти.
– Dios guarda![20]20
Боже сохрани! (исп.)
[Закрыть]– проворчал дон Стилетто.
– Mille tonnerres![21]21
Гром и молния! (фр.)
[Закрыть] – крикнул принц де-Гренуйль.
– Tousand Teufel![22]22
Тысяча чертей! (нем.)
[Закрыть] – пробурчал электор Блудденнуфф.
Этого я не мог вынести. Я рассердился. Я обратился к Блудденнуффу:
– Милостивый государь! – сказал я. – Вы павиан!
– Милостивый государь! – возразил он после некоторого размышления – Dormer und Blitzen![23]23
Гром и молния! (нем.)
[Закрыть]
Больше ничего не требовалось. Мы обменялись карточками. На другое утро я отстрелил ему нос, а затем отправился к своим друзьям.
– Bete![24]24
Животное, скотина! (фр.)
[Закрыть] – сказал первый.
– Дурак! – сказал второй.
– Олух! – сказал третий.
– Осел! – сказал четвертый.
– Простофиля! – сказал пятый.
– Болван! – сказал шестой.
– Убирайся! – сказал седьмой.
Я огорчился и пошел к отцу.
– Отец, – сказал я, – какая цель моего существования?
– Сын мой, – отвечал он, – изучение носологии, как и раньше; но, попав электору в нос, ты промахнулся. Конечно, у тебя прекрасный нос, но у Блудденнуффа теперь совсем нет носа. Ты провалился, а он стал героем дня. Бесспорно, знаменитость льва пропорциональна длине его носа, но, бог мой! возможно ли соперничать с львом совершенно безносым?
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?