Читать книгу "Записки княгини Дашковой"
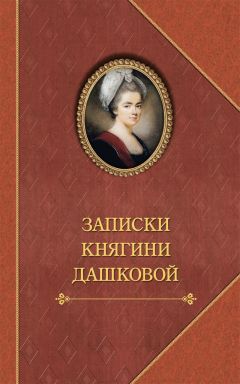
Автор книги: Екатерина Дашкова
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Александр Герцен
Княгиня Екатерина Романовна Дашкова
«Очень бы мне хотелось, – пишет мисс Кэтрин Уилмот своим родным в Ирландию из деревни Дашковой, – чтобы вы могли взглянуть на самую княгиню. В ней всё, язык и платье, – всё оригинально; что б она ни делала, она решительно ни на кого не похожа. Я не только не видывала никогда такого существа, но и не слыхивала о таком. Она учит каменщиков класть стены, помогает делать дорожки, ходит кормить коров, сочиняет музыку, пишет статьи для печати, знает до конца церковный чин и поправляет священника, если он не так молится, знает до конца театр и поправляет своих домашних актеров, когда они сбиваются с роли; она доктор, аптекарь, фельдшер, кузнец, плотник, судья, законник; она всякий день делает самые противоположные вещи на свете – ведет переписку с братом, занимающим одно из первых мест в империи, с учеными, с литераторами, с жидами, со своим сыном, со всеми родственниками. Ее разговор, увлекательный по своей простоте, доходит иногда до детской наивности. Она, нисколько не думая, говорит разом по-французски, по-итальянски, по-русски, по-английски, путая все языки вместе. Она родилась быть министром или полководцем, ее место во главе государства».
Всё это верно, но мисс Уилмот забывает, что, сверх того, Дашкова родилась женщиной и женщиной осталась всю жизнь. Сторона сердца, нежности, преданности была в ней необыкновенно развита. Для нас это особенно важно. Дашковою русская женская личность, разбуженная петровским разгромом, выходит из своего затворничества, заявляет свою способность и требует участия в деле государственном, в науке, в преобразовании России – и смело становится рядом с Екатериной.
В Дашковой чувствуется та самая сила, не совсем устроенная, которая рвалась к просторной жизни из-под плесени московского застоя, что-то сильное, многостороннее, деятельное, петровское, ломоносовское, но смягченное аристократическим воспитанием и женственностью.
Екатерина II, делая ее президентом академии, признала политическое равенство обоих полов, совершенно последовательное в стране, принимавшей гражданскую правомерность женщин, остающихся на Западе прикрепленными к мужьям или в вечном несовершеннолетии.
В русской истории, бедной личностями, записки женщины, участвовавшей на первом плане в перевороте 1762 года и видевшей возле все события от смерти Елизаветы до Тильзитского мира, чрезвычайно важны, тем более что мы очень мало знаем наше XVIII столетие. Мы любим в истории восходить гораздо дальше. Мы из-за варягов, новгородцев, киевлян не видим вчерашнего дня; зубчатые кремлевские стены заслоняют нам плоские линии Петропавловской крепости. Разбирая отчетливо царские грамоты, мы мало знаем, что писалось на ломаном русском языке в петербургских канцеляриях, в то время как под окнами Зимнего дворца ревела дикая крамола и мятеж, угрожая Сибирью и смертью его жителям, и трон не получил еще ту силу и прочность, которую он приобрел не больше как семьдесят пять лет тому назад. Протверживать историю этих времен очень полезно и для правительства, чтоб оно не забывалось, и для нас, чтоб мы не отчаивались.
Я желал бы хоть вкратце объяснить мою мысль.
Вся Европа и, что гораздо хуже, все русские принимают императорскую власть в ее современной форме за такую несокрушимую всегдашность русского быта, которая смеется по праву над всеми дерзновенными попытками и смело выдерживает всякий натиск, мощно и прочно уцепившись далеко разветвившимися корнями в землю.
Императорская власть, совсем напротив, устоялась и окрепла совсем недавно. Она и теперь носит на себе следы своего революционного начала; в ней и до сих пор перепутаны без всякого порядка, как в промежуточных слоях земного шара, гранит старины, наносные пески, осколки, случайно захваченные сверху, всплывшие снизу, местами крепко слежавшиеся, но не соединенные химически.
Нас вводят в заблуждение бармы Мономаха, трон царя Иоанна Васильевича, Успенский собор – но разве Наполеон не рядился в мантию Карла Великого и не надевал на свою голову Железной короны в Милане? Всё это подделки вроде Чаттертона[65]65
Чаттертон Томас (1752–1770) – английский поэт; напечатал сборник стихотворений, автором которых якобы был монах XV века. – Прим. ред.
[Закрыть], почтенные черты старости и минувшего берутся взаймы для того, чтобы окружить новое уважением и уверить в его прочности, так сказать, в его вековечности.
Русское императорство развилось из царской власти ответом на сильную потребность иной жизни. Это военная и гражданская диктатура, гораздо больше сходная с римским цезаризмом, нежели с феодальной монархией. Диктатура может быть очень сильна, поглощать в себя все власти, но прочна она быть не может. Она существует до тех пор, пока обстоятельства, ее вызвавшие, останутся те же и пока она сама верна своему призванию.
Разумеется, встречая при выходе с парохода вычищенную и выбеленную лейб-гвардию, безмолвную бюрократию, несущихся курьеров, неподвижных часовых, казаков с нагайками, полицейских с кулаками, полгорода в мундирах, полгорода делающих фрунт, и целый город, торопливо снимающий шляпу, и подумав, что всё это лишено всякой самобытности и служит пальцами, хвостом, ногтями и когтями одного человека, совмещающего в себе все виды власти – помещика, папы, палача, родной матери и сержанта, – может закружиться в голове, сделаться страшно, может прийти желание самому снять шляпу и поклониться, пока голова цела, и вдвое того – может захотеться сесть опять на пароход и плыть куда-нибудь. Всё это так, и всё это чувствовал (кроме последнего) достопочтенный вестфальский барон Гакстгаузен[66]66
Барон Гакстгаузен (1792–1866) – автор работ об аграрных отношениях в России и Пруссии. – Прим. ред.
[Закрыть].
Этот сурово-мрачный, подавляющий вид грубой силы императорство приняло особенно в тридцатилетие николаевского царствования; стращать было у него в принципе. Но тут невольно является вопрос: отчего же Николай не мог в эти тридцать лет забыть «дурные четверть часа», проведенные им при защите Зимнего дворца 14 декабря 1825 года? Отчего, умирая, вспомнил он этот день и за него благодарил гвардию? Оттого что понял с начала своего воцарения, что его трон только силой силен. Он ею одной и держался, но чувствовал, что в штыках, в материальном гнете нет ничего прочного, и искал иных опор. Опоры, на которые он обратил внимание, были верны: рядом с самодержавием он поставил православие и народность. Но это был протест против петровского направления, которого весь смысл состоял в секуляризации царской власти и общеевропейском образовании.
Николай становился в прямое противоречие с живым началом петровского императорства, а потому ничего нет удивительного, что прямой результат его царствования – глухой разрыв между ним и Россией. Если б он прожил еще десять лет, его трон развалился бы сам собою; всё перестало идти, всё повяло, стало сохнуть, от всего отлетал дух, беспорядки администрации достигли чудовищных размеров. Его царствование было нелепость. Он понял, что, идя по направлению Александра, должен был неминуемо изменить – более человеческими формами – самодержавную власть, но не хотел этого, а воображал, что настолько независим от петровских начал, что может стать Петром и без них. Ему бы удалось, может быть, если б, как думают московские староверы, переворот Петра был следствием личной воли, гениального каприза; но переворот этот вовсе не был случайностью, а служил ответом на инстинктивную потребность Руси развернуть свои силы. Как иначе можно объяснить успех его?
Государственное развитие России шло медленно и было очень позднее, Русь жила нараспашку и кой-как собралась, подгоняемая татарами, в иконописное, то есть суздальско-византийское Московское царство; формы его были неуклюжи и грубы, всё шло неловко, апатично. Царская власть не годна была даже на защиту государства, и в 1612 году Россия была спасена без царя. А между тем что-то говорило, что-то, говорящее до сих пор в сердце каждого из нас, что под обветшалыми и тяжелыми платьями – бездна сил и мощи. Это что-то и есть молодость, вера в себя, сознание силы.
Крутой разрыв со стариной оскорблял, но нравился; народ любил Петра I, он его перенес в легенды и сказки, будто русский человек догадался, что, чего бы ни стоило, надо переломить лень и крепким государственным строем стянуть нашу распущенность. Бесчеловечная дрессировка Петра I и таких преемников его, как Бирон, разумеется, поселяла ужас и отвращение, но всё это переносили за открывавшуюся ширь новой жизни – так, как во Франции переносили террор.
Петровский период сразу стал народнее периода царей московских. Он глубоко вошел в нашу историю, в наши нравы, в нашу плоть и кровь; в нем есть что-то необычайно родное нам, юное; отвратительная примесь казарменной дерзости и австрийского канцелярства не составляют его главной характеристики. С этим периодом связаны дорогие нам воспоминания нашего могучего роста, нашей славы и наших бедствий; он сдержал свое слово и создал сильное государство. Народ любит успех и силу.
Когда Александр диктовал в Париже законы всей Европе, одна сторона петровской идеи восторжествовала. Что же потом? Воротиться опять за 1700 год и сочетать военный деспотизм с отчуждающейся от всего человеческого царской властью. Этого хотел Николай, десяток поврежденных славянофилов – и больше никто. Если народ и ненавидит чуждое ему немецкое правительство, вполне заслужившее это, то из этого не следует, чтоб он любил Московское царство, он его забыл через одно поколение и совершенно не знает.
Что мешало после Петра I возвратиться к едва протекшим временам? Все петербургское устройство висело на нитке. Пьяные и развратные женщины, тупоумные принцы, едва умевшие говорить по-русски, немки и дети садились на престол, сходили с престола, дворцом шла самая близкая дорога в Сибирь и на каторжную работу; горсть интриганов и кондотьеров заведовала государством. В продолжение всей этой сумятицы мы не видим особенного желания воротиться к допетровским временам. Напротив, то, что постоянно остается во всех этих судорожных переменах, то, что развивается вопреки им и дает им резкое единство, – это именно петровская идея. Одна партия сбрасывает другую, пользуясь тем, что новый порядок не обжился, но кто бы ни одолевал, до петровских оснований никто не касался, а все принимали их – Меншиков и Бирон, Миних и даже Долгорукие, хотевшие ограничить императорскую власть не в самом же деле прежней боярской думой[67]67
О которой Кошихин так живописно отзывался, говоря, что бояре в ней молчат, уставя глаза свои в браду для того, чтобы показать глубокомыслие. – Прим. Герцена.
[Закрыть]. Елизавета и Екатерина II льстят православию, льстят народности для того, чтоб овладеть троном, но, усевшись на нем, продолжают его путь. Екатерина II – больше, нежели кто-нибудь.
Противодействие новому порядку дел после его жестокого водворения мы видим в одних неправославных раскольниках и в страдательном неучастии крестьян. Ворчливое упорство нескольких стариков ничего не значит. Подавленная покорность всех «староверов» была признанием своего бессилия. Если б оставалось что-нибудь живое в их воззрении, непременно были бы попытки, положим, неудачные, невозможные, но были бы. Всякие Анны Леопольдовны, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны и Екатерины Алексеевны находили людей отважных и преданных, подвергавшихся из-за них плахе и каторге; погибающее казачество и смятое под ноги дворянства крепостное состояние имело своего Пугачева, а Пугачев – свои двести тысяч войска; киргиз-кайсаки откочевали к Китаю; крымские татары соединились с турками; Малороссия громко роптала, всё оскорбленное или придавленное императорством заявляло свой протест, – старорусская партия в России – никогда. У ней не было ни языка, ни преданных людей, ни Полуботки, ни Мазепы.
И только через полтораста лет после Петра она находит себе представителя и вождя, и этот представитель и вождь – Николай. Если б ему церковной нетерпимостью и народной исключительностью удалось пересоздать императорскую власть и заменить ее диктаториальный характер чисто монархическим или царским, это было бы несчастье, но оно было невозможно. Едва Николай умер, Россия рвется снова на петровскую дорогу – и вовсе не в завоевательном, не в солдатском направлении его, а в развитии внутренних материальных и нравственных сил.
Петр I был один из ранних деятелей великого XVIII столетия и действовал в его духе, он был проникнут им, как Фридрих II, как Иосиф II. Его революционный реализм берет верх над его царским достоинством – он деспот, а не монарх. Мы все знаем, как Петр ломал старое и как устраивал новое. Тяжелому, неподвижному византийскому чину он противопоставил трактирные нравы; скучная Грановитая палата превратилась при нем в разгульный дворец; вместо законного престолонаследия он раз предоставил императору право назначать кого хочет, другой – писал Сенату, чтоб он сам избрал достойнейшего, если он погибнет в турецком плену, и затем отнятую у родного сына корону отдал горничной, которая дошла до него, переходя из рук в руки. Он упразднил место святейшего патриарха, запретил мощам являться и утер досуха слезы всех скорбящих чудотворных икон. В стране упрямого местничества он посадил выше всех плебея Меншикова, водился с иностранцами, даже с арапами, напивался пьян с матросами и шкиперами, буянил на улицах, словом, оскорблял все стороны прежней чопорной русской жизни и важный царский формализм.
Он задал тон, наследники продолжали его, преувеличивая и искажая; полвека после него длится одна непрерывная оргия вина, крови, разврата; L'ultimo atto, – как выразился один итальянский писатель, – d'una tragedia representato nel un lupanar[68]68
Последний акт трагедии, разыгрываемой в публичном доме (итал.). – Прим. ред.
[Закрыть]. Какое тут православие, какой тут монархически-рыцарский принцип?
Если во второй половине царствования Екатерины трагический характер бледнеет, то локаль остается тот же: историю Екатерины II нельзя читать при дамах. Монархически растленный Версаль с удивлением смотрел на беспутство русского двора – так, как на философский либерализм Екатерины II, потому что Версаль не понимал, что основания императорской власти в России совсем не те, на которых зиждется французская королевская власть.
Когда Александр сказал в Тильзите Наполеону, что вовсе не согласен со значением, которое он приписывает наследственности царской власти, Наполеон думал, что Александр его обманывает. Когда он говорил мадам де Сталь, что он – только «счастливая случайность»[69]69
Александр I сказал мадам де Сталь, что в России необходимо укрепить законность, так как он не хочет быть «счастливой случайностью». – Прим. ред.
[Закрыть], она это приняла за красивую фразу. А это была глубочайшая правда его.
Сердясь на трусость немецких государей, император Александр говорил в своей прокламации 22 февраля 1813 года их подданным: «Страх удерживает ваши правительства, не останавливайтесь на этом. Если ваши государи под влиянием малодушия и подобострастия ничего не сделают, тогда должен раздаться голос подданных и заставить государей, которые влекут свои народы в рабство и несчастье, – вести их к свободе и чести». Дело в том, что Александр еще понимал петровскую традицию своей власти, он был слишком близок к первой эпохе императорства, чтоб представлять из себя гвардейского папу всех реакций. Он даже с явным сомнением и нерешительностью прочел доносы Шервуда и Майбороды[70]70
Доносчики на декабристов. – Прим. ред.
[Закрыть].
Без сомнений и мыслей сел на его место Николай и сделал из своей власти машину, которая должна была вести Россию вспять. Но императорство не сильно, как только оно делается консервативным. Россия отреклась от всего человеческого, от покоя и воли, она шла в немецкую кабалу только для того, чтоб выйти из душного и тесного состояния, которое ей было не под лета. Вести ее назад теми же средствами невозможно. Только идучи вперед к целям действительным, только способствуя больше и больше развитию народных сил при общечеловеческом образовании, и может держаться императорство. Масло, которым будут смазывать паровозы на новых железных дорогах, прочнее венчает на царство, нежели елей Успенского собора.
Верно ли понята нами императорская власть, ярко и живо показывают превосходные «Записки» Дашковой. Цель наша будет вполне достигнута, если беглый отчет наш об их содержании заставит читателей взять в руки самую книгу.
В 1744 году императрица Елизавета и великий князь Петр Федорович крестили дочь Екатерину, родившуюся у графа Романа Воронцова, брата великого канцлера. Семья Воронцова принадлежала к тому небольшому числу олигархического барства, которые вместе с наложниками императриц управляли тогда как хотели Россией, круто переходившей из одного государственного быта в другой. Они хозяйничали в царстве точно так, как теперь у богатых помещиков дворовые управляют дальними и ближними волостями.
Помещицу Елизавету Петровну любили вовсе не потому, что она заслуживала этого, ее любили за то, что покойница Анна Иоанновна держала немца Бирона управляющим, а у нас немцев-управляющих терпеть не могут. Она была народнее Анны Иоанновны и Анны Леопольдовны; сверх петровской крови, она имела все недостатки русского характера, то есть пила иногда запоем и всегда до того, что вечером не могла дождаться, пока горничные ее разденут, а разрезала шнурки и платья. Она ездила на богомолья, ела постное, была суеверна и страстно любила рядиться – после нее осталось пятнадцать тысяч платьев, любила пуще всего драгоценные камни, как наши богатые купчихи, и, вероятно, имела столько же вкусу, как они, о чем можно судить по тому, что она убрала себе целую комнату янтарем.
Господа жили тогда со своим двором совсем на другой ноге, нежели теперь, между ними была какая-то близость и фамильярность, и, несмотря на взрывы самовластья, они чувствовали новость своей власти и необходимость в опоре.
Вдруг, например, берет императрица Елизавета Шувалова из оперы и едет с ним пить чай к графу Воронцову, попробовать его венгерского, посплетничать, а если очень заврутся, то «урезать» или «отрезать» язык кому-нибудь, смотря по вине; и всё это отечески, без шума, по-домашнему и не подписывая из человеколюбия ни одного смертного приговора.
Когда императрицыной крестнице минуло четырнадцать лет, у нее сделалась корь. Корь и оспа были не шуткой в те времена, а чуть не государственным преступлением: корь и оспа могли пристать к Павлу Петровичу, к этой будущей надежде всея России! Особый указ воспрещал всякое сношение с двором семьям, в которых была страшная болезнь. Нашу больную графиню поскорее уложили и отправили в деревню за семьдесят верст; полагать надобно, что воздух тогда не был вреден для кори. С графиней послали старуху немку и чопорную вдову русского майора. Умная, бойкая и живая девочка, выздоровевшая от кори, чуть не умерла от скуки со своими собеседницами; по счастью, она нашла в деревне довольно значительную библиотеку. Четырнадцатилетняя графиня знала четыре языка, кроме русского, которого она не знала и которому порядком выучилась, будучи замужем, в угождение своей свекрови. Принялась она вовсе не за романы, а за Вольтера, Бейля и пр. Чтение у нее превратилось в страсть, тем не меньше книги не разогнали ее тоски, она грустит и возвращается в Петербург томной, нездоровой. Императрица посылает к ней своего доктора, и этот доктор – Бургав; он говорит, что это ничего, что тело здорово, но воображение больно… Словом, ей четырнадцать лет.
После Бургава родные со всех сторон бросаются на бедную девушку и с неутомимой жестокостью принимаются ее рассеивать, утешать, кормить; мучат ее расспросами, советами. А она просит об одном – чтоб ее оставили в покое, она тогда читала «De l'Entendement» Гельвеция.
Лекарство вскоре нашлось само. Раз вечером графиня, довольно свободно располагавшая собой, отправляется к Самариной, остается у нее ужинать, приказав прислать за собой карету. В одиннадцать часов вечера она выходит, карета подана; но ночь так хороша, на улицах никого нет, и она идет пешком, сопровождаемая сестрой Самариной. На углу встречается высокий, стройный мужчина, он знаком с ее провожатой, начинает с ней говорить и обращает несколько слов к графине. Графиня приходит домой и мечтает о прекрасном офицере. Офицер приезжает к себе, влюбленный в прекрасную графиню.
Зачем терять золотое время, графиня уже не ребенок, это было в 1759 году, ей пятнадцать лет; офицер молод, богат, блестящ, очень высок, служит в Преображенском полку, принадлежит к старинной фамилии. Родные благословляют, помещица позволяет. и наша графиня делается княгиней Дашковой.
Через полтора года после их свадьбы Дашкова, будучи во второй раз беременна, оставалась одна в Москве, в то время как муж ее ездил в Петербург. Его отпуск окончился, и он просил отсрочки. Преображенским полком тогда начальствовал великий князь, он тотчас бы отсрочил Дашкову отпуск, но дела становились серьезны и он хотел сблизиться с офицерами. Императрица дышала на ладан, Шуваловы, Разумовские, Панины интриговали с великой княгиней и без нее в пользу Павла, даже в пользу несчастного Иоанна – и всего больше в свою собственную пользу.
Великого князя не любили, он был не злой человек, но в нем было всё то, что русская натура ненавидит в немце, – gaucherie[71]71
Неуклюжесть (франц.). – Прим. ред.
[Закрыть], грубое простодушие, вульгарный тон, педантизм и высокомерное самодовольство, доходящее до презрения всего русского. Елизавета, бывшая вечно навеселе, не могла ему простить, что он всякий вечер был пьян; Разумовский – что он хотел Гудовича сделать гетманом; Панин – за его фельдфебельские манеры; гвардия – за то, что он ей предпочитал своих голштинских солдат; дамы – за то, что он вместе с ними приглашал на свои пиры актрис, всяких немок; духовенство ненавидело его за его явное презрение к восточной церкви. Видя приближающуюся кончину Елизаветы и боясь быть оставленным всеми, неуклюжий Петр Федорович принялся угощать и ласкать офицеров и делал это с чрезвычайной неловкостью. Между прочим ему хотелось также увериться и в Дашкове, который командовал ротой, поэтому он, не отказывая ему в отпуске, призвал его в Ораниенбаум.
Князь, повидавшись с Петром Федоровичем, отправился обратно в Москву, в дороге у него заболело горло, сделалась лихорадка; не желая обеспокоить жены, он велел везти себя к своей тетке Новосильцевой, думая, что боль в горле утишится и голос несколько возвратится; вместо того у него сделалась жаба и сильный жар.
В это самое время мать князя Дашкова и ее сестра княгиня Гагарина сидели в спальне нашей княгини вместе с повивальной бабкой, ожидая через несколько часов ее разрешения. Дашкова еще была на ногах и вышла зачем-то в другую комнату, там ее давно поджидала горничная и сообщила ей по секрету о приезде больного мужа, говоря, что он у тетки, и умоляя не выдавать ее, потому что всем строго-настрого запрещено было сообщать ей эту новость. Княгиня вскрикнула при этой неожиданной вести; по счастью, старухи ничего не слыхали. Оправившись, она взошла как ни в чем не бывало в спальню, уверила их, что все ошиблись, что роды еще не скоро, и уговорила идти отдохнуть, священнейшим образом обещая послать за ними, если что случится.
Лишь только старухи ушли, княгиня бросилась со всей горячностью своего характера умолять повивальную бабку проводить ее к мужу. Добрая немка думала, что та сошла с ума, и начала на своем силезском наречии уговаривать ее, прибавляя беспрерывно: «Нет, нет, я после должна буду дать Богу ответ за убиение невинных». Княгиня объявила ей решительно, что если бабушка не хочет ее провожать, то она пойдет одна и никакая сила в мире ее не остановит. Страх подействовал на старушку; но когда Дашкова ей сказала, что им надобно идти пешком, чтоб княгиня не услыхала скрипа саней, она снова уперлась и стояла неподвижно, будто ноги ее пустили корни в пол. Наконец уладилось и это; на лестнице у Дашковой возвратились боли, и притом сильнее, снова бабушка стала ее уговаривать, но она, уцепившись руками за поручни лестницы, была непреклонна.
Они вышли за ворота и, несмотря на боли, добрались до дому Новосильцевой. Из свиданья с мужем Дашкова помнит одно – она увидела его бледного, больного, лежавшего в забытьи, только успела бросить один взгляд и без памяти упала на пол. В этом положении люди Новосильцевой снесли ее на носилках домой, где, впрочем, никто не подозревал ее отсутствия. Новые, еще более напряженные боли привели ее в память, она послала за свекровью и теткой, а через час родила сына Михаила.
В шесть часов утра перевезли больного мужа; мать положила его в другой комнате, запретив им иметь всякие сношения в предупреждение того, чтоб жаба не пристала к родильнице, а в сущности из маленькой ревности. Молодые супруги тотчас начинают чувствительную переписку, что, конечно, для состояния родильницы было опаснее жабы, которая совсем не заразительна; они пишут записочки днем и ночью, до тех пор пока старуха их находит, бранит горничных и обещает отобрать перья, карандаши и бумагу.
Женщина, которая умела так любить и так выполнять волю свою вопреки опасности, страху и боли, должна была играть большую роль в то время, в которое она жила, и в той среде, к которой принадлежала.
Двадцать восьмого июня 1761 года Дашковы переехали в Петербург. «День, – говорит она, – который двенадцать месяцев спустя сделался так памятен и так достославен для моего отечества». В Петербурге ее ждало приглашение великого князя переехать в Ораниенбаум. Ей не хотелось ехать, и отец насилу уговорил ее занять его дачу недалеко от Ораниенбаума. Дело в том, что она уже тогда терпеть не могла великого князя, а была предана всем сердцем его жене. Еще в родительском доме она была представлена великой княгине; Екатерина ее приласкала, умная и образованная девушка ей понравилась. Екатерина сумела той улыбкой, тем abandon[72]72
Непринужденность (франц.). – Прим. ред.
[Закрыть], которым она очаровывала потом тридцать лет всю Россию, дипломатов и ученых всей Европы, привязать к себе Дашкову навеки. С первого свидания Дашкова любит Екатерину страстно, «обожает ее», как пансионерки обожают своих старших совоспитанниц; она влюблена в нее, как мальчики бывают влюблены в тридцатилетних женщин. Зато она чувствует такое же искреннее отвращение к своему крестному отцу Петру Федоровичу. Но хорош и он был, нечего сказать, мы это сейчас увидим.
Родная сестра Дашковой, Елизавета Романовна, была открытой любовницей великого князя. Он думал, что Салтыков и Понятовский, эти счастливые предшественники Орловых, Васильчиковых, Новосильцевых, Потемкиных, Ланских, Ермоловых, Корсаковых, Зоричей, Завадовских, Мамоновых, Зубовых и целой шеренги плечистых virorum obscurorum[73]73
Темных людей (лат.) – так называли гуманисты XVI века своих противников – схоластов, полных амбиций и злобы против свободной мысли. – Прим. ред.
[Закрыть], дали ему право не слишком скупиться на свое сердце и вовсе не скрывать своих предпочтений. Отношение его к великой княгине было уже таково, что при первом представлении Дашковой он ей сказал: «Позвольте надеяться, что вы нам подарите не меньше времени, чем великой княгине».
Со своей стороны, порывистая Дашкова и не думала скрывать своего предпочтения. Великий князь заметил это и, спустя несколько дней, отвел раз Дашкову в сторону и сказал ей «с простотой своей головы и с добротой своего сердца», как она выразился: «Помните, что безопаснее иметь дело с честными простаками, как ваша сестра и я, чем с большими умами, которые выжмут из вас сок до капли, а потом, как апельсинную корку, выбросят за окно». Дашкова, отклоняя речь, заметила ему, что императрица настоятельно изъявляла свое желание, чтоб они одинаковым образом оказывали уважение как его высочеству, так и великой княгине.
Тем не менее ей было необходимо являться иногда на великокняжеские куртажные попойки. Характер этих праздников был немецко-казарменный, грубый и пьяный. Петр Федорович, окруженный своими голштинскими генералами (то есть, по словам Дашковой, капралами и сержантами прусской службы, детьми немецких мастеровых, которых родители не знали, куда деть за беспутство, и отдали в солдаты), не выпуская трубки изо рта, напивался иногда до того, что лакеи его выносили на руках.
Раз за ужином, при великой княгине и многочисленных гостях, зашла речь о сержанте гвардии Челищеве и о предполагаемой связи, которую он имел с графиней Гендриковой, племянницей императрицы; великий князь, уже сильно опьяневший, заметил, что Челищеву следовало бы отрубить голову для примера другим офицерам, чтоб они не заводили шашней с царскими родственницами. Голштинские сикофанты[74]74
Доносчики, клеветники (греч.). – Прим. ред.
[Закрыть] изъявляли всевозможными знаками свое одобрение и сочувствие. Дашкова не могла выдержать, чтоб не заметить, что ей кажется очень бесчеловечным казнить за такое неважное преступление.
– Вы еще ребенок, – отвечал великий князь, – ваши слова доказывают это лучше всего, иначе вы бы знали, что скупиться на казни – значит поощрять неподчиненность.
– Ваше высочество, – отвечала Дашкова, – вы пугаете нас нарочно; за исключением старых генералов, мы все, имеющие честь сидеть за вашим столом, принадлежим к поколению, никогда не видавшему смертной казни в России.
– Это ничего не значит, – возразил великий князь, – хорош зато был и порядок во всем. Говорю вам, что вы еще дитя и ничего не смыслите в этих делах.
Все до одного молчали.
– Я готова, – отвечала Дашкова, – сознаться, что не в состоянии понять их; но не могу не радоваться при мысли, что ваша тетушка еще здравствует и занимает престол.
Глаза всех обратились на смелую женщину. Великий князь ничего не отвечал; он удовлетворился только тем, что высунул язык, – милая шутка, которую он часто употреблял вместо ответа, особенно будучи в церкви.
Разговор этот, начавший политическую карьеру Дашковой, замечателен сверх всего тем, что эти нероновские речи говорил самый кроткий в мире человек, никогда никого не казнивший. За столом было множество гвардейских и кадетских офицеров, слова Дашковой разнеслись с быстротой молнии по всему городу. Они приобрели ей большую известность, которую она сначала не умела ценить и которая сделала из нее один из центров, и чуть ли не главный, около которого собирались недовольные офицеры. На первый случай Дашкова была в восхищении от того, что великой княгине чрезвычайно понравился ее ответ. «Время, – грустно прибавляет она, – не научило еще меня тогда, как опасно говорить правду государям; если они и могут иногда это простить, то царедворцы никогда не прощают».
Дружба ее к Екатерине растет. Елизавета жила тогда в Петергофе, там раз в неделю великой княгине было разрешено видеть своего сына. Возвращаясь из дворца, она обыкновенно заезжала за Дашковой, брала ее с собой и оставляла на весь вечер. Когда ей нельзя было заехать, она писала к ней коротенькие записочки; отсюда возникла их дружеская, интимная переписка, продолжавшаяся и после отъезда с дачи. Они пишут о литературе, о мечтах, пишут о Вольтере и о Руссо, стихами и прозой.
«Какие стихи и какая проза! – пишет великая княгиня к Дашковой. – И это в семнадцать лет! Я умоляю вас не пренебрегать таким талантом. Может, я и не совсем беспристрастный судья, ваше лестное пристрастие ко мне виновато в том, что вы избрали меня предметом стихов. Обвиняйте меня в гордости сколько угодно, но я все-таки скажу, что давно не читала таких правильных и поэтических произведений».









































