Читать книгу "Записки княгини Дашковой"
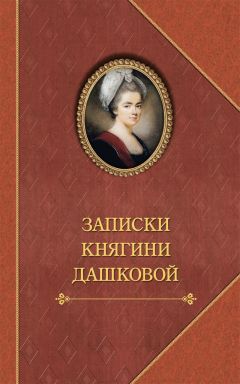
Автор книги: Екатерина Дашкова
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Экс-либеральная Екатерина встретила Дашкову с нахмуренным челом.
– Что я такое сделала, – спросила она ее, – что вы печатаете против меня и моей власти такие опасные книги?
– И ваше величество в самом деле это думает? – спросила Дашкова.
– Трагедию эту следовало бы сжечь рукою палача.
– Сожгут ее рукой палача или нет, это до меня не касается. Мне от этого не придется краснеть. Но ради Бога, государыня, прежде чем вы решитесь на действие, столь противоположное вашему характеру, прочтите всю пьесу.
На этом разговор и окончился. На другой день Дашкова явилась на большой выход и решилась, если императрица не позовет ее, как это всегда бывало, в свою уборную, подать в отставку. Из внутренних комнат вышел Самойлов. Он с видом покровительства подошел к Дашковой и сказал ей, чтоб она была спокойна, что императрица не гневается на нее. Дашкова и этого не могла вынести и отвечала ему, по своему обыкновению, громким голосом: «Я не имею причины беспокоиться, у меня совесть чиста. Мне было бы очень прискорбно, если б императрица сохранила ко мне несправедливое чувство; но я не удивилась бы и тогда – в мои лета несправедливости и несчастья давно перестали удивлять меня».
Императрица помирилась с ней и хотела еще раз объяснить, почему она так поступила. Дашкова вместо ответа отвечала ей: «Между нами, государыня, пробежала серая кошка, не будемте ее снова вызывать».
Но Петербург становится ей тяжел, он ей надоедает, она чувствует себя «совершенно одинокой в этой среде, которая становится с каждым днем противнее». Отвращение это было так велико, что Дашкова решилась оставить двор, Петербург, свою публичную деятельность, свою Академию наук и Российскую академию, наконец, свою императрицу и ехать хозяйничать в деревню. «С глубокой горестью думала я о том, что расстаюсь, может, навсегда с государыней, которую я любила страстно, и любила гораздо раньше, нежели она оказалась на троне, когда она имела меньше средств осыпать меня благодеяниями, нежели я находила случаи оказывать ей услуги. Я продолжала любить ее, несмотря на то, что она не всегда относительно меня поступала так, как бы ей подсказывало ее собственное сердце, ее собственная голова».
Только! И ни слова досады, порицания за совершенное отсутствие сердца, за неблагодарность. Она и тут дает почувствовать, что виновата не Екатерина, а другие.
Прощание этих женщин было замечательно. Императрица сказала ей сухо и со злым лицом: «Желаю вам счастливого пути». Дашкова удивилась; не поняла ничего и вышла вон, поцеловав ее руку. На другой день утром приехал к ней Трощинский, секретарь императрицы, и от ее имени вручил ей неоплаченный счет портного, работавшего на Щербинина. Императрица велела ей сказать, что она удивляется, как Дашкова может ехать из Петербурга, не исполнив обещания заплатить долги дочери. Зубов, ненавидевший Дашкову и покровительствовавший портному, довел эти дрязги до императрицы. Оказалось в дополнение, что счет был вовсе не Щербининой, а ее мужа, который жил с нею врозь.
Дашкова, совершенно возмущенная этим унижением, твердо решилась навеки оставить Петербург. Но такие натуры не складывают рук в пятьдесят с чем-нибудь лет и в полном обладании сил. Дашкова делается отличной хозяйкой, строит дома, чертит планы и разбивает парки. В ее саду не было ни одного дерева, ни одного куста, который бы она не посадила или которому бы она не отвела место. Она отстроила четыре дома и с гордостью говорит, что мужики ее – одни из богатейших в околотке.
Середь этих сельских забот и построек вдруг приезжает серпуховской предводитель дворянства с расстроенным лицом.
– Что с вами? – спрашивает Дашкова.
– Разве вы ничего не знаете? – отвечает предводитель. – Императрица скончалась.
Дочь Дашковой бросилась к ней, думая, что ей дурно.
– Нет, нет, не беспокойся за меня, – сказала Дашкова, – мне ничего, да и умереть в эту минуту было бы счастье. Судьба моя хуже, мне назначено еще увидеть все благие начинания уничтоженными и мое отечество падшим и несчастным.
При этих словах у нее сделались спазмы, и она отдалась чувству глубокого горя.
Дашкова не замедлила испытать на себе державную руку поврежденного сына Петра III. Сначала она получила указ о своей отставке и просила генерал-прокурора Самойлова засвидетельствовать ее благодарность государю за снятие с нее бремени, которое становится ей не под силу нести.
Спустя некоторое время Дашкова поехала в Москву, но к ней тотчас явился московский генерал-губернатор и объявил ей приказ Павла немедленно ехать назад в деревню и там вспоминать 1762 год. Дашкова отвечала, что никогда не забывала этот год, но, соображаясь с волею государя, будет размышлять о времени, которое равно не оставило ей ни угрызений совести, ни раскаяния.
Брат ее Александр, желая успокоить, говорил ей, что Павел всё это делает теперь для восстановления памяти своего отца, что после коронации дела пойдут лучше. Дашкова пишет ему, приехав в Троицкое: «Любезнейший брат, вы пишете мне, что Павел после коронации оставит меня в покое. Поверьте мне, что вы очень ошибаетесь в его характере. Когда тиран раз ударил свою жертву, он будет повторять свои удары до тех пор, пока не сокрушит ее окончательно. Сознание невинности и чувство негодования послужат мне вместо мужества, чтоб перенести невзгоду до тех пор, пока и вас, мои родные, не захватит его расходившаяся злоба. В одном будьте уверены: никакие обстоятельства не заставят меня ничего ни сделать, ни сказать, что бы могло меня унизить… Рассматривая мою прошлую жизнь, – прибавляет она, – я не без внутреннего утешения сознаю в себе довольно твердости характера, испытанного многими несчастьями, чтоб не быть уверенной, что снова найду силы перенести новые бедствия».
Дашкова верно поняла характер этого добивающего, горячечного, мелкого тирана. Едва прошло несколько дней после ее приезда в Троицкое, как явился из Москвы курьер от генерал-губернатора. Павел приказывал Дашковой немедленно ехать в деревню своего сына, в какой-то дальний уезд Новгородской губернии, и там ждать дальнейших его приказаний.
Дашкова отвечала, что она готова исполнить волю государя и ей совершенно безразлично, где она окончит свои дни, но что она совсем не знает ни этого имения, ни дороги туда и ей надобно выписать из Москвы или управляющего ее сына, или какого-нибудь крестьянина из той деревни, знающего проселочные дороги.
Собравшись и достав проводника, Дашкова поехала зимой, в стужу, и притом на долгих, в свою ссылку, окруженная архаровскими шпионами, сопровождаемая добрым родственником своим Лаптевым, которого она не могла уговорить, чтоб он не ездил и не подвергался страшным гонениям опьяненного самовластия. Но как первое условие помешательства состоит именно в непоследовательности, то Дашкова тут ошиблась, и когда Павлу донесли о том, что Лаптев ее провожал, он сказал: «Это не такая юбка, как наша молодежь, он умеет носить штаны».
Обыкновенно подобного рода мимолетным проблескам человеческого чувства у Павла и других дают гораздо больше цены, чем они заслуживают. Что сделал бы Павел, если б вся молодежь умела «носить штаны» так, как Лаптев? Разве у него мало было Архаровых, Аракчеевых, Обольяниновых, чтоб их пытать, ковать в цепи и ссылать? Пален и Бенигсен показали ему, впрочем, что «носить штаны» можно еще лучше! В этих оправданиях жертв лежит последнее, довершающее оскорбление; ими злодеи примиряются со своей совестью. Потемкин раз при Сегюре ударил какого-то полковника и, спохватившись, сказал послу: «Как же с ними иначе поступать, когда они всё выносят?» А как отвечал бы Потемкин на пощечину или на вызов?..
Дашкова поселилась в крестьянской избе; для дочери заняли другую, а третью – для кухни. К прочим неудобствам этой жизни в захолустье присоединилось то, что для сокращения дороги зимой ссыльных в Сибирь из Петербурга водили мимо окон Дашковой. Образ одного молодого офицера долго преследовал ее. Это был какой-то дальний родственник ее; узнав, что Дашкова тут, он пожелал ее видеть; как ни опасно было такое свидание, но она приняла его. Судорожное подергивание лица и болезненный вид поразили Дашкову; это было следствие пыток, которыми были свихнуты и раздавлены его члены. Что же сделал этот преступник? Он в казарме что-то сказал о Павле, и на него донесли. А ведь, может, и он хорошо «носил штаны» до тех пор, пока не свихнули ему рук!
Перед весенним разливом рек, которые на долгое время отрезали бы Дашкову от всяких сообщений, она написала письмо императрице Марии Федоровне и вложила в него просьбу о разрешении ей переехать в калужскую деревню. Тон письма ее к Павлу не мог ему понравиться; она говорила, что, может, столь же недостойно ей писать это письмо, сколь недостойно его читать, но религия и человеколюбие ставят ей в обязанность сделать последний опыт, чтоб избавить всех своих от тяжелой ссылки.
Павел, по обыкновению, взбесился и велел отобрать у Дашковой бумагу и чернила, воспретить ей всякую переписку, усилить надзор и не знаю что еще. «Меня, – говорил он, – не так легко свергнуть с престола». С этим был отправлен курьер. Но императрица и Нелидова подучили великого князя Михаила Павловича умилосердить разъяренного отца, и новый фон Амбург[82]82
Имеется в виду ван Амбург, выходец из Голландии, который был укротителем диких зверей. – Прим. ред.
[Закрыть], с помощью жены и любовницы, преуспел. Павел схватил перо и написал: «Княгиня Екатерина Романовна, так как вы желаете возвратиться в ваше калужское имение, то я вам оное разрешаю; пребываю к вам благосклонный Павел». Пришлось Архарову отправлять другого курьера; по счастью, второй обогнал первого.
В 1798 году Павел вдруг полюбил князя Дашкова, осыпал всякими незаслуженными милостями и подарил ему имение. Дашков просил Куракина доложить Павлу, что он желает вместо имения разрешить его матери жить там, где она хочет. Павел разрешил, с тем чтоб она никогда не оставалась в том же городе, где он.
Мать была прощена. Теперь пришла очередь сына. Судили какого-то Альтести за злоупотребления, а главное, за его близость с Зубовым. Дашков сказал Лопухину, что Альтести прав, и вечером он получил следующую цидулку: «Так как вы мешаетесь в дела, до вас не касающиеся, то я вас отставил от вами занимаемых должностей. Павел». Дашков, боясь худшего, отправился в свое тамбовское имение.
Наконец, 12 марта 1801 года жизнь Павла «пришла к концу», как говорит Дашкова; она с умилением и глубокой радостью узнала, что этот вредный человек перестал существовать. «Сколько раз, – продолжает она, – благодарила я Небо за то, что Павел сослал меня, он меня спас этим от унизительной обязанности являться при дворе такого государя».
При Александре она снова свободно вздохнула… При его дворе ей можно было явиться, не отказываясь от своего человеческого достоинства, но она уже не чувствует себя дома в новой среде. Многое переменилось с тех пор, как Екатерина посылала ей счет портного. Старуха Дашкова сердится на молодое поколение, окружающее Александра, и находит, что все они или якобинцы, или капралы. Однако светлое явление останавливает ее, и она с почтительной любовью, с благоговением смотрит на него; грустное и никем не оцененное, это задумчивое существо печально прошло залами Зимнего дворца и исчезло как тень; о нем забыли бы, если б иной раз мы не встречали на стенах известной картины 1815 года, представляющей императора Александра I с императрицей Елизаветой Алексеевной примирителями Европы.
К «Запискам» Дашковой госпожа Уилмот приложила прекрасно сделанный портрет Елизаветы Алексеевны; несчастная женщина стоит, сложив руки; грустно смотрит она с бумаги; внутренняя печаль и какое-то недоумение видны в глазах, вся фигура выражает одну мысль: «Я здесь чужая»; она даже как-то так подобрала платье и складки, как будто сейчас готова уйти. Какая странная судьба ее и Анны Павловны – жены цесаревича![83]83
Анна Федоровна, принцесса Юлианна Саксен-Кобургская (1781–1860) – первая жена (с 1796 по 1820) великого князя Константина Павловича, второго сына Павла I. При переходе в православие получила имя Анна Федоровна. Герцен ошибочно называет ее Анной Павловной. – Прим. ред.
[Закрыть]
После коронации Дашкова увидела, что ей нет места при новом дворе, и стала собираться на покой в Троицкое. В своем почетном удалении она снова становится властью. К ней ездят родные и знакомые, потухающие знаменитости и восходящие светила.
…Ступив за твой порог,
Я вдруг переношусь во дни Екатерины.
…………………………………………………………
Ты, не участвуя в волнениях мирских,
Порой насмешливо в окно глядишь на них
И видишь оборот во всем кругообразный.
Так, вихорь дел забыв для муз и неги праздной,
В тени порфирных бань и мраморных палат,
Вельможи римские встречали свой закат.
И к ним издалека то воин, то оратор,
То консул молодой, то сумрачный диктатор
Являлись день-другой роскошно отдохнуть,
Вздохнуть о пристани и вновь пуститься в путь.
А. С.Пушкин. К вельможе
Сама Дашкова часто наезжала в Москву, где пользовалась большим уважением, царила как законодательница тона и вкуса; вечно деятельная и неутомимая, она являлась на балы и обеды, и притом всех раньше. Молодые дамы и барышни трепетали от ее суда и замечаний, мужчины добивались чести быть ей представленными.
На другом краю Москвы, недалеко от Донского монастыря, во дворце, окруженном садами, доживал свой век другой живой памятник екатерининских времен. Жил он угрюмо, сохраняя, вопреки годам, свое атлетическое сложение и дикую энергию своего характера. В 1796 году он с нахмуренным челом, но без раскаяния пронес по всему Петербургу корону человека, им задушенного[84]84
После вступления на престол Павел I устроил церемонию погребения своего отца, заставив его убийц нести регалии Петра III. – Прим. ред.
[Закрыть]; сотни тысяч человек указывали на него пальцем; его товарищ, князь Барятинский, бледнел и был близок к обмороку; старик же жаловался только на подагру. Но суровая жизнь его не должна была пройти несогретою. Возле него подрастала девочка, кроткая, нежная, необыкновенно грациозная и исполненная талантов. Ею надменный старик стал жить сердцем; он сделался ее няней, холил ее, берег, ухаживал за нею и любил безмерно, как только могла бы ее любить покойная мать. Сидя на своем диване, он заставлял свою дочь плясать по-цыгански и по-русски, с упоением и внутренней гордостью следил за ее движениями, утирая иногда слезу с глаз, которые сухо и жестокосердо видали столько ужасов.
Пришло наконец время старику вывести в свет свое сокровище. Но кому поручить ее, в чье женское покровительство отдать этот береженый цветок? Есть, правда, одна женщина, которой бы он поверил, которая могла бы со своим необыкновенным тактом направить ее первые шаги. Это княгиня Дашкова; но они в ссоре. Она не простила ему, что сорок два года тому назад он запятнал ее революцию.
И вот надменный Алексей Григорьевич Орлов, Орлов-Чесменский, которого и Павел не сломил, заискивает милостивого приема у княгини Екатерины Романовны и, получив дозволение представить ей свою дочь, торопится с радостью воспользоваться им и едет к ней со своей Аннушкой.
Дашкова вышла к нему навстречу; кланяясь, целовал старик у нее руку; оба были взволнованы. Наконец Дашкова сказала ему: «Так много времени прошло с тех пор, как мы не видались с вами, граф, и столько событий изменили мир, в котором мы некогда жили, что мне, право, кажется, что мы теперь встречаемся тенями на том свете. Присутствие этого ангела (прибавила она, с чувством прижимая к груди дочь своего бывшего врага), вновь соединяющего нас, еще больше поддерживает эту мысль».
Орлов в восторге, целует руку у госпожи Уилмот, которая его боится, несмотря на то, что называет «величавым старцем»; она с удивлением видит на его груди портрет Екатерины, покрытый одними бриллиантами, гайдуков, стоящих в передней, и с ними карлу, шутовски одетого.
Граф зовет Дашкову к себе и устраивает один из тех баснословных пиров, о которых мы слыхали предания в детстве, – пиров, напоминающих Версаль и Золотую Орду. Сады горят огнями, дом настежь, толпы дворовых в богатых маскарадных костюмах наполняют залы, музыка гремит, столы ломятся, словом, пир горой. Ему есть кому теперь поручить свою дочь!
В разгар пиршества отец ее зовет; делается круг, и она пляшет – пляшет с шалью и пляшет с тамбурином, пляшет по-русски; старик бьет такт и смотрит в глаза Дашковой. Старуха довольна, толпа молчит, благоговея перед чином отца и необычайной грацией дочери. «Она танцевала, – говорит госпожа Уилмот, – с такой простотой, с такой природной прелестью, с таким достоинством и выражением, что ее движения казались ее языком».
После каждого танца она бежит к отцу и целует его руку; Дашкова ее хвалит, отец велит ей поцеловать и у нее руку… Но ему показалось, что она разгорячилась, и он старательно сам закутывает ее в шаль, чтоб она не простудилась.
За ужином, при громе труб и литавр, граф стоя пьет здоровье Дашковой; потом раздаются ее любимые русские песни, сменяемые целым оркестром. А тут грянул и польский, и Орлов ведет Дашкову в залу, где звуки роговой музыки удивляют нашу ирландку, никогда не слыхавшую этого приложения крепостного состояния к искусству. Наконец Дашкова собирается, и граф, кланяясь ей и целуя руку, благодарит за то, что она посетила его бедный домишко.
Так-то праздновал чесменский Орлов свое замирение со старушкой Дашковой, и так-то этот суровый, жестокий человек любит свою дочь.
Я и сам чуть не помирился с ним вместе с княгиней Екатериной Романовной. Дики были времена, в которые они жили, дики и поступки его; петровская Русь еще была в брожении, не будем же его судить строже Дашковой, и если на том свете много может молитва родителей, то на этом отпустим Орлову многое за любовь его к дочери.
А и ее судьба была странна. Я ее видел раза два мальчиком, потом видел в 1841 году в Новгороде; она жила возле Юрьева монастыря. Вся жизнь ее была одним долгим, печальным покаянием за преступление, не ею совершенное, одной молитвой об отпущении грехов отца, одним подвигом искупления их. Она не вынесла ужаса, который в нее вселило убийство Петра III, и сломилась под мыслью о вечной каре отца. Весь свой ум, всю орловскую энергию она устремила к одной цели и мало-помалу совершенно отдалась мрачному мистицизму и изуверству. Призванная по рождению, по богатству, по талантам на одно из первых мест не только в России, но и в Европе, она прожила свой век со скучными монахами, со старыми архиереями, с разными прокаженными, святошами, юродивыми.
Говорят, что после 1815 года немецкие владетельные принцы искали ее руки, она всем отказывала; Александр оказывал ей большое внимание, она удалилась от двора. Дворец ее больше и больше пустел и совсем замолкнул наконец; не раздавался уже в нем ни стук старинных чаш, ни хоры песенников, и никто не заботился больше о береженых скакунах. Одни черные фигуры бородатых монахов мрачно ходили по аллеям сада и смотрели на фонтаны – точно все еще продолжались похороны Алексея Григорьевича; и в самом деле, это была молитва об успокоении его души. В зале, где она кружилась и вилась цыганкой, в отроческой чистоте не понимая знойных движений азиатского танца, где плавно и потупя взор она плясала со стыдливо поднятой рукой наши томные, женственные пляски и где плакал грозный отец, глядя на нее, – там теперь сидел Фотий[85]85
Фотий (Спасский Петр Никитич) (1792–1838) – архимандрит, настоятель новгородского Юрьевского монастыря. – Прим. ред.
[Закрыть], ограниченный фанатик, говорил бессвязные речи и вносил еще больше ужаса в разбитую душу; дочь надменного графа смиренно слушала его зловещую речь, тщательно покрывая его ноги шалью, может, той самой, в которую ее закутывал отец! «Анна, – говорил Фотий, – принеси мне воды». – И она бежала за водой. «Теперь сядь и слушай». – И она садилась и слушала. Бедная женщина!
Сады свои и дворец в Москве она подарила государю. Зачем? Не знаю. Необъятные имения, заводы – всё пошло на украшение Юрьевского монастыря; туда перевезла она и гроб своего отца; там в особом склепе теплится над ним вечная лампада, шепчется молитва, там был приготовлен и ее саркофаг, еще пустой, когда я его видел. В ризах икон и в архимандритских шапках печально мерцают в церковном полусвете орловские богатства, превращенные в яхонты, жемчуга и изумруды. Ими несчастная дочь хотела закупить суд Божий.
А Екатерина отбирала у монастырей имения и раздавала их Орловым и другим любовникам. Немезида!
…Записки Дашковой нас оставляют около этого времени. Сами подробности о ее свидании с Орловым мы взяли из писем двух сестер Уилмот. Мэри Уилмот, тоскуя по потере своего брата и скучая дома, приняла предложение княгини Дашковой погостить у нее год-другой. Мэри не знала лично Дашковой, но, будучи племянницей госпожи Гамильтон, с детства была наслышана об этой необыкновенной женщине – о том, как она восемнадцати лет стояла во главе заговора, как носилась на коне перед возмутившимися полками, как потом жила в Англии и гостила в Ирландии, была президентом академии и писала страстные письма Гамильтон. Молодая девушка представляла себе ее чем-то фантастическим, «феей и отчасти колдуньей», и именно потому решилась (в 1803 году) к ней ехать.
Подъезжая к Троицкому, ей, впрочем, сделалось так жутко и не по себе, что она рада была бы воротиться, если б это было возможно.
Навстречу ей вышла небольшого роста старушка, в длинном, темном суконном платье, со звездой на груди слева и в чем-то вроде колпака на голове. На шее у нее был старый, затасканный платок: раз в сырую погоду вечером, на прогулке, за двадцать лет до того, госпожа Гамильтон повязала ей этот платок, с тех пор она его берегла как святыню. Но если наряд ее действительно сбивался на колдунью, то благородные черты лица и бесконечно нежное выражение взгляда с первого раза очаровали ирландку. «В ее приеме, – говорит она, – было столько истины, столько теплоты, достоинства и простоты, что я полюбила ее прежде, чем она сказала что-нибудь».
Госпожа Мэри Уилмот с первого дня совершенно под ее влиянием, сама удивляется этому, сердится на себя, но не может противостоять влечению к славной старушке. Ей всё нравится в ней, даже ее ломаный английский язык, придающий что-то детское ее речам. «Лета и жизнь, – говорит она, – успокоили и смягчили ее черты, и гордое выражение их, еще оставившее легкие следы, сменилось снисходительностью».
Но ведь как же и полюбила ее Дашкова! Она ее любит страстно, как некогда Екатерину. Свежесть чувств, их женская нежность, потребность любви и столько юности сердца в шестьдесят лет – изумительны. Внимательность матери, внимательность сестры, любовницы – вот что находит Мэри в Троицком; чтоб ее рассеять, Дашкова едет в Москву, возит ее по балам, показывает монастыри, представляет императрицам, украшает цветами ее комнату, проводит вечера с ней, читая письма Екатерины и других знаменитостей.
Госпожа Уилмот просит ее, умоляет писать свои «Записки». «И то, – говорит Дашкова, – чего я никогда не хотела сделать ни для родных, ни для друзей, я делаю для нее». Она ей пишет и посвящает свои «Записки».
В 1805 году Дашкова выписала сестру Мэри, Кэтрин, которая была тогда во Франции и должна была ее покинуть, преследуемая в качестве англичанки. Сестры нисколько не похожи друг на друга. Мэри – существо нежное, кроткое, обрадовавшееся, что есть к кому прислониться, согреться под чьим-то крылом; она привязывается к Дашковой, как слабый плющ к старому, но крепкому дереву; она ее называет ту Russian mother[86]86
Моя русская мать {англ.). – Прим. ред.
[Закрыть]] она приехала к ней из маленького городишка и ничего не видела прежде, кроме своего «изумрудного острова». Ее сестра, живая и вспыльчивая, независимая во мнениях, жившая в Париже, умная и насмешливая, без особенной любви и терпимости, развязнее на язык. К тому же ей положительно многое не нравится в России, и потому ее письма исполнены для нас своего рода интереса.
«Россия, – говорит она, – похожа на двенадцатилетнюю девочку – дикую, неловкую, на которую надели парижскую модную шляпку. Мы живем здесь в XIV или XV столетии»[87]87
Госпожа Уилмот думала сказать колкость и сделала комплимент. Жаль только, что она не знает возраста дикой девочки! Это не ее летосчисление! – Прим. Герцена.
[Закрыть]. Крепостное состояние поражает ее гораздо больше, чем добродушную ее сестру. Напрасно Дашкова показывает ей благосостояние своих крестьян. «Им хорошо при княгине, – пишет Кэтрин, – но каково будет после?» Каждый помещик кажется ей одним из железных колец, которыми скована Россия.
В жалком подобострастии, в позорном раболепии нашего общества она очень справедливо находит отражение рабства. Она с изумлением видит в залах и гостиных опять холопов без всякого нравственного чувства собственного достоинства. Ее удивляют гости, которые не смеют садиться и часы целые стоят у дверей, переступая с ноги на ногу, которым кивают, чтоб они ушли. «Понятие добра и зла смешивается в России с понятием быть в милости или в немилости. Достоинство человека легко определяется по адрес-календарю, и от государя зависит, чтоб человека принимали за змею или за осла».
Московские тузы не запугали ее млечным путем своих звезд, своей тяжеловатой важностью и скучными своими обедами. «Мне кажется, – пишет она после праздников 1806 года, – что я все это время носилась между тенями и духами Екатерининского дворца. Москва – императорский политический элизиум России. Все особы, бывшие в силе и власти при Екатерине и Павле и давно замещенные другими, удаляются в роскошную праздность ленивого города, сохраняя мнимую значительность, которую им уступают из учтивости. Влияние, сила давно перешли к другому поколению, и тем не менее обер-камергер императрицы Екатерины II князь Голицын всё так же обвешан регалиями и орденами, под бременем которых склоняются еще больше к земле его девяносто лет от роду; всё так же, как во дворце Екатерины, привязан бриллиантовый ключ к его скелету, одетому в шитый кафтан, и всё так же важно принимает он знаки уважения своих товарищей-теней, разделявших с ним во время оно власть и почести.
Рядом с ним другой пестрый оборотень (gaudy revenant) граф Остерман, некогда великий канцлер; на нем висят ленты всевозможных цветов – красные, голубые, полосатые; восемьдесят три года отразились на его лице, а он все еще возит цугом свой стучащий кость об кость остов, обедает с гайдуками за своим столом и наблюдает торжественный этикет, которым был окружен, занимая свое место».
В числе теней видала она и графа Орлова. «Рука, задушившая Петра III, осыпана бриллиантами, между царскими подарками особенно выделяется портрет императрицы. Екатерина улыбается с него в своей вечной благодарности».
Госпожа Уилмот называет еще Корсакова, которого можно принять за «мерцающее привидение из бриллиантов», князя Барятинского и еще кой-кого из этих людей другого, прошедшего мира, «откуда они захватили придворную болтовню о важных ничтожностях, надменность, тщеславие, пустую суету и в которой находят свое счастье и свое горе». И она с негодованием заключает: «А ведь раскрытый гроб стоит у их подгибающихся ног, грозя предать скорому забвению их мишурные существования.
Все эти важные старцы окружены женами, дочерями, внучками, разряженными в пух и сидящими в раззолоченных комнатах, патриархально заставляя плясать перед собой своих горничных и беспрестанно угощаясь вареньем. В наружности их есть что-то французское, к тому же, воспитанные француженками, они хорошо говорят на этом языке и одеваются по последним парижским модам. Но, в сущности, дамы эти очень мало любезны; их образование совершенно внешнее, и милой легкости французского общества здесь вовсе нет. Когда московская дама оглядит вас с ног до головы, поцелует вас раз пять-шесть – когда и двух раз было бы, кажется, за глаза довольно, – уверит вас в своей вечной дружбе, скажет в лицо, что вы прелестны и милы, расспросит о цене каждой вещи вашего наряда и поболтает о предстоящем бале в зале дворянского собрания, ей нечего больше сказать».
Обеих сестер поражает из рук вон пошлый обычай являться на балы в чужих бриллиантах. Притом все знают, чьи они. Так, какая-то княгиня Голицына давала своим приятельницам бриллиантовый пояс и головной убор необыкновенной цены и знакомый всему городу. Раз она украсила ими племянницу Дашковой; барышня совсем забыла, что приедет и княгиня: неумолимая и строгая, она ненавидела, само собою разумеется, эти выставки чужих богатств. Барышня так перепугалась, увидя Дашкову, что весь вечер пряталась. Но пришло роковое время ужина, озябнувшая Мэри надела шаль; эта мысль показалась барышне спасительной, и она взяла свою, чтоб прикрыть от Дашковой реки алмазов. Уселись; Дашкова против; суповая чаша немножко спасала, но головной убор горит, как жар. Дашкова посмотрела. У бедной девочки выступили пятна на лице и навернулись слезы… Дашкова не сказала ни слова.
Сестры Уилмот, во многом не согласные в оценке людей и фактов, тотчас объединяются, как только речь идет о Дашковой. Едкое перо Кэтрин теряет весь свой яд, говоря о княгине. В начале статьи мы поместили ее характеристику Дашковой. Она в ней оценила всего меньше сторону женскую, нежную, для которой любовь была потребностью. Эту сторону ее сердца гораздо лучше поняла Мэри, а все-таки покинула ее. В 1807 году уехала Кэтрин, Мэри хотела ехать спустя некоторое время, но ее остановило страшное событие, поразившее Дашкову.
Дашкова, безмерно любя своего сына, никогда, собственно, не прощала его брака, никогда не хотела принять его жены; с сыном, впрочем, она была в переписке, но не видалась с ним. Сколько ни просили ее, и особенно госпожа Уилмот, влияние которой было так безгранично, – обиженное сердце матери, которое не умели смягчить тотчас после брака, не могло переломить себя и вполне примириться. В 1807 году, лишь только Дашкова приехала в Москву, ее сын занемог и через несколько дней умер.
Удар этот был страшен для старушки, он сократил ее жизнь; позднее раскаяние налегло на нее всей неотвратимой тяжестью. Она послала за невесткой. И эти женщины, наделавшие друг другу столько вреда, никогда не видавшись и ненавидевшие друг друга откровенно и бессмысленно, рыдая бросились в объятия друг друга возле гроба человека, которого они так любили, и помирились навеки.
Существование Дашковой было сломано. Одно утешение оставалось у нее – это ее дитя, ее подруга, ее ирландская дочь, – но она собиралась домой. Зачем ехала она, этого я не понимаю. Трудно удержаться от чувства досады, видя, как ненужно госпожа Уилмот покидает Дашкову для своих ирландских родных, которых роль в ее жизни чрезвычайно ограничена и с которыми ей должно было быть очень скучно.
Дашкова, испуганная своим одиночеством, хочет ехать с ней в Ирландию – окончить существование, «которое не имеет больше потомства и должно иссякнуть». Уилмот уговаривает ее не ездить; обещает ей приехать опять; старухе тяжело. Мэри, щадя ее, уезжает тайком, но, задержанная в Петербурге отъездом корабля и невероятно глупыми мерами полиции, принятыми против англичан по поводу тогда объявленной войны, она решается снова поехать на несколько месяцев в Москву; образ старушки со слезами на глазах раздирает ей сердце, она пишет ей о своем намерении.
Радости, благодарности Дашковой нет меры… Но как же торжествовать ей эту новость? Она посылает в тюрьму выпустить пять человек, сидящих за долги, и поручает им отслужить молебен.









































