Читать книгу "Планета грибов"
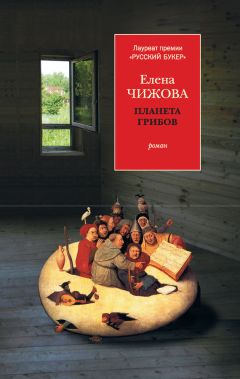
Автор книги: Елена Чижова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Елена Чижова
Планета грибов
© Чижова Е. С.
© ООО «Издательство АСТ»
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
Свет и тьма
(понедельник)
Первое чувство – растерянность. Он стоял на крыльце, затаив дыхание, пытаясь вспомнить и оправдаться: «Подпирал, конечно, подпирал».
Вчера, прежде чем уйти в дом, сложил в миску посуду, оставшуюся после ужина, залил водой сковородку, выключил свет… «Господи… или не выключил?.. Конечно, выключил! – ответил решительно, понимая, что никак не грешит против истины: в темноте, заливавшей ближайшие окрестности, горящий свет невозможно не заметить. – Вышел и подпер черенком».
Мысленно восстановив последовательность действий, доказывающих его относительную непричастность к досадному происшествию, перевел дыхание.
Но дверь открыта. – Ему показалось, он слышит голос, тихий, но не принимающий никаких оправданий, когда дело касается природных стихий:
СВЕТ
ГАЗ
ВОДА.
В городе этот список висел на входной двери: отец, начинавший свою жизнь чертежником, выполнил аккуратно, плакатными перьями. Прежде чем выйти из квартиры, полагалось тщательно проверить. Ритуал сложился давно, во всяком случае, не на его памяти. Мать надевала пальто, зимнее или осеннее – в зависимости от сезона; повязывалась головным платком – шелковым или шерстяным (в его раннем детстве еще не носили вязаных шапочек – мохеровых, в одну нитку); дальше следовало взять в руку сумку и только потом, босиком, сбросив тапочки, обойти помещения: обе комнаты, кухню, туалет, ванную, – коротко, экономными жестами, подкручивая закрытые краны, пробегая пальцами по выключателям. В эти минуты мать действовала как слепая, доверяя не глазам, а подушечкам пальцев. Сосредоточившись на самом главном, уйдя в себя.
В такие минуты он переживал острое чувство одиночества, словно мать находилась не рядом, а где-то далеко, в ином пространстве, куда ему нет доступа. Уже одетый для улицы, он стоял под дверью, дожидаясь, когда она, наконец, вернется. Свет… газ… вода… – эти слова она проборматывала, не обращая внимания на сына. Прислушиваясь к ее голосу, он смотрел на черные буквы. Однажды звуки и буквы волшебно совпали, навсегда определив его дальнейшую жизнь. Тогда, в свои четыре года, еще не осознавая, что случилось, он понял: это и есть ключик от тайной двери, за которой лежит иное, материнское, пространство. Теперь он может туда проникнуть.
Напоследок оглядев прихожую, мать надевала уличную обувь. Ее рука шарила в сумке, ощупывая содержимое, проверяя, все ли на месте: кошелек, авоська, ключи. Стоя на лестничной площадке, он следил за ее манипуляциями: заперев входную дверь и пару раз дернув для верности, она возвращалась к материнским обязанностям – кивала сыну. Спускаясь по лестнице, всякий раз чувствовал облегчение, словно слепые материнские пальцы в который раз защитили его от самого страшного – гнева разбушевавшихся стихий.
На даче рукотворного списка не было. Но, конечно, он был. В дачных условиях опасность принимала куда более изощренные формы: электроплитка – уходя даже на самое короткое время, надо выдергивать вилку из розетки; газовый баллон – проверять, надежно ли закрыт клапан; печная вьюшка – если задвинуть раньше времени, можно умереть, надышавшись угарным газом; входной водопроводный кран – не закроешь на зиму, прорвет трубы; времянка – на ночь полагается запирать.
Лет пять, пока дом прорастал из ямы, которую вырыли под фундамент, в этой времянке они жили, спали на раскладушках. Потом здесь оборудовали кухню.
Замок сломался в прошлое воскресенье. «Неделю, – шевельнул губами. – Неделю назад». Тогда, в первый раз не сумев запереть дверь как следует, подпер черенком сломанной лопаты. Понимая, что сам собой замок не исправится, с этим придется что-то делать. Рано или поздно, но не сейчас.
Надо было пошевелиться. Принять меры.
Он кивнул, признавая родительскую правоту.
Неделя – достаточный срок, чтобы принять решительные меры. Богу понадобилось меньше: Автор этого мира шевелился шесть дней. За это время успел создать свет и тьму, твердь неба, сушу и траву, солнце и луну, рыб, птиц и пресмыкающихся, зверей и человека. И на седьмой – отдохнуть.
И правда, достаточный, – за спиной материнского стоял голос отца.
На этот раз он почувствовал раздражение. Глухое, которое привычно подавил. Но оно не исчезало, ворочалось, пытаясь примоститься, как побитый пес: «Да, виноват. Не сообразил вовремя. Но теперь-то что делать?»
Пойти и проверить, – голос матери продолжил тихо, но настойчиво.
Наверняка соседский кот, – ее поддержал отцовский голос.
Или соседская собака. —
Даже выдвигая разные версии, родители выступали заодно.
Их сын вздохнул и двинулся вниз по ступенькам. «Бесстрашно», – сказал про себя, слегка иронизируя над родительскими поучениями, но все-таки надеясь, что они не уловят иронии. Они и не уловили, потому что смолкли, положившись на своего отпрыска и единственного наследника, который нежданно-негаданно оказался в двусмысленной ситуации: там, за открытой дверью, его могло ожидать что угодно – от рассыпанной по полу гречки до злоумышленника, по-хозяйски расположившегося за столом.
Ступая на цыпочках, уговаривал себя: а даже если вор? Вор не самое страшное. А что – самое? На этот вопрос он ответил бы, не задумываясь: страшное – огонь.
«Но вон же времянка, стоит… Целая и невредимая».
Родители молчали, хотя он-то отлично знал, что они могут ответить:
Сегодня стоит. А завтра загорится. Огонь – не вода, может перекинуться на дом.
Деревянный дом выгорает минут за сорок. Остается фундамент, кирпичная труба и отчаяние: где найти силы, чтобы отстроиться заново?.. Такие случаи в поселке бывали. Уезжая с дачи, умные хозяева оставляют бутылку водки и дешевые консервы – задобрить непрошеных гостей: лишь бы не разозлились, не кинули горящую спичку.
«Лето. Ну какие теперь воры!.. В сезон не шарят. Вот осенью… Или зимой… – одновременно пытаясь построить вескую фразу, которая должна напугать вора: – Вон! Сию же минуту – вон! В противном случае я вызову милицию!»
Ишь ты! В противном… Ну и где ты ее возьмешь, свою сраную милицию? – злоумышленник (он представил себе наглого мордоворота в засаленном ватнике) ответил репликой, которая в дачных условиях звучала вполне резонно.
«И правда, где?.. В городе – 02. А здесь?.. Пока дозвонюсь, пока приедут… Ближайшее отделение в райцентре – километров десять. В лучшем случае успеет скрыться. А в худшем?..» – заглянул осторожно.
Стол, покрытый клетчатой клеенкой – красные клетки давно истерлись. Мать собиралась, но так и не успела поменять – привезти старую, с городской кухни. Ведро с железной крышкой. Темная электрическая плитка. Рядом другая, газовая, на две конфорки. Под ее бочком притулился красный баллон.
«Вот… Ничего страшного».
За стеклами, с тыльной стороны, поднимались вековые ели. Где-то высоко, в утреннем небе, еще не затвердевшем, стояло солнце, не различимое из-за крон. Пробиваясь сквозь густые лапы, солнечные лучи теряли силу. На поверхностях, никем не потревоженных, лежали холодноватые отсветы. По утрам во времянке всегда прохладно.
Ну и слава богу! – родительские голоса, слившиеся в прощальном восклицании, отлетели к своим теперешним берегам.
Преодолевая смущение, их сын распахнул холодильник, прозябавший в углу. Мотор, отработавший все мыслимые земные сроки, взвыл как оглашенный. На решетках, изъеденных ржавчиной, сиротливо жались продукты.
Теперь, когда непосредственная опасность миновала, он воспрянул духом.
Достал два яйца, пакет молока с обрезанным уголком, початый брикетик сливочного масла и включил электрическую плитку. Одновременно, словно плитка и совесть соединялись невидимыми проводками, включилось чувство вины: в пространстве, обустроенном родителями, готовить полагалось на газе. Электричество – подспорье на случай, если газ неожиданно закончится. При жизни родителей этого никогда не случалось. Остаток жидкого топлива отец определял на слух: прикладывал ухо, постукивал костяшками пальцев, будто ожидал, что на его стук кто-то откликнется – какой-нибудь джинн, только живущий не в кувшине, как старик Хоттабыч, и не в волшебной лампе, как в сказке про Аладдина, а в красном газовом баллоне.
Покосившись на пустой баллон – в родительские времена его заправляли раза два за лето, а то и чаще, – он разбил два яйца – стукнул о край миски, и склонился к ведру. Под железной крышкой, для верности прижатой камнем, недостижимые для алчных зубов мышей-полевок, хранились сыпучие продукты: крупы, сахар, мука.
Из мучного пакета торчала алюминиевая ложка. Зачерпнул: первую с горкой, вторую – без горки, сбросив лишек свободным пальцем. Добавил щепотку мокроватой соли. В кухне-времянке, даже в самый жаркий сезон, соль напитывается влагой, идущей от земли.
Сковородка уже шипела сердито. Он взялся за железный венчик. Все: и шипение, и венчик – входило в ежеутренний ритуал. Сегодня он придерживался его особенно тщательно, словно успокаивая родителей: с замком вышла неувязка, но все остальное под контролем.
Венчик, мерно ходивший в пальцах, разбивал последние комки. Он вылил на сковородку желтоватое месиво и покрыл крышкой: «Теперь поставить чай».
Воду держали в другом ведре, эмалированном. Ковшик чиркнул по дну, вспугнув осевшие мусорные былинки.
«У меня была… семья». Фразе, сложившейся в голове, недоставало прилагательного.
Намазывая хлеб маслом, он попытался заполнить лакуну: «…крепкая, – откусил осторожно, избегая прямого контакта мякиша с передними зубами, которые слегка покачивались, словно раздумывали, стоит ли держаться за слабые десны. – Мой дом – моя крепость».
В его случае английская пословица звучала особенно нелепо. «Крепости складывают из камней, или из кирпича, или…» – он затруднился продолжить перечень прочных материалов, пригодных для строительства крепостей. Дача сбита из досок. Сорок лет назад здесь стоял лес. Военкомат Октябрьского района выделял землю под строительство. Называлось: кооператив «Октябрь». Конечно, совпадение, но смотреть приехали в октябре. Шли от станции, сверяясь с планом. По углам участка кто-то вбил колышки, обозначающие границы. До сих пор он помнит деревья: ели, сосны, березы, осины. Их вырубили в первое лето. Потом, до самой осени, родители корчевали пни.
В дело шли любые обрезки. Помойки в окрестностях городской квартиры отец обходил с ножовкой в руке. Распиливал, увязывал. Кряхтя, закидывал на спину, становясь похожим на сказочного лесника. С той только разницей, что в сказках лесники носили не обрезки досок, а охапки хвороста.
Он жевал, не чувствуя вкуса, словно утреннее происшествие притупило вкусовые рецепторы.
Остаток жизни положили на то, чтобы создать свой мир, ограниченный высоким забором. Их жизнь – иллюстрация пословицы о сыне, дереве и доме. Хотя подлинным сыном был не он, а этот дом. Точнее, все, что построено на участке: дощатое двухэтажное строение, кухня-времянка, сарай, набитый дровами, туалет, торчащий внизу на отшибе, грядки, парник, плодовые деревья. В основе лежал великий замысел:
ДОСТАТЬ и ДОСТАВИТЬ.
Впору выбить на семейном гербе. Простота воплощения подточила бы его изнутри. Как древесный жучок. Как мышь-полевка – если б сдвинула камень.
Из года в год, на случайных машинах, на своих плечах, на самодельных тележках, груженных так, что колесный след оставался даже на гравии, – все отходы долгого советского века: от металлических кроватей с шариками-набалдашниками до плоских чугунных сковородок.
Сгодится, конечно, сгодится, – сколько раз в жизни он слышал материнский голос, в котором пела радость бесплатного обретения.
В мире, где вещи служили многим поколениям, выносить на помойку – грех. Отдать в хорошие руки, как щенка или котенка. Как живую бессловесную душу.
Он помнит, как родители выбросили диван: в то время еще не начали строить дачу. На помойке он простоял две недели. Теперь утащили бы бомжи, но в те годы никаких бомжей не было. За этим строго следили. Это сейчас что хочешь, то и делай: милиции плевать. Возвращаясь с работы, специально делали крюк. Мать страдала: «Бедный… Все еще стоит», – горестно, будто о дальнем родственнике, который мается от неизлечимой болезни. Про таких говорили: господь не может прибрать.
«У советских вещей – мафусаилов век. С этой точки зрения дача – тупик. Своего рода тот свет, откуда ничто не возвращается: ни стулья, ни кровати, ни сковородки. Вот только что они все-таки построили: рай или ад?» – Жестом матери смахнул в ладонь хлебные крошки. Жестом отца оперся о край стола. За этим столом родители обсуждали самое насущное: строили планы. Он чувствовал себя лишним. Всегда в стороне.
Мир как их воля и их представление: если верить философу, сила, не вполне тождественная разуму. Мир, который они создали, достался ему, перешел в пользование. Даже про себя он не рискнул бы сказать: безраздельное.
Подбирая хлебной коркой остатки растопленного масла, думал: семья создается общим делом. Проглотив помягчевшую корку, встал и бросил взгляд на дверь.
«Вызвать… Кого-нибудь… Пусть придут и починят…» – возвратившаяся мысль была крайне тревожной. Рождала вопросы: вызвать, но – кого? В городе можно позвонить в ЖЭК, оставить заявку. Дня через два явится слесарь. Исправит или врежет новый.
«Ладно. Сперва выпью чаю».
Ковшик томился на плите. Пузырьки, мелкие, как прыщи на щеках его юности, окидали дно. В городе давно бы вспенились струйками. На дачной электрической плитке кипяток, вопреки законам физики, никогда не добирал градусов, словно действие разворачивалось не в равнинной Ленинградской области, а на каком-нибудь высокогорном плато. Впрочем, чай все равно заваривался отлично – какие-то особые соли в местной воде.
Допил и отставил чашку: «Ничего… Как-нибудь. Не боги горшки обжигали…»
Кажется, этот замок называется ригельным. Слово пришло из родительского мира, в котором они не обжигали горшков, но во всем остальном были истинными богами, сотворившими свой особый мир. Он подошел к двери, повторяя странное слово, застрявшее в памяти, как будто правильное слово могло стать не знанием, а умением.
Из двух штырей, призванных входить в отверстия косяка, работал только один.
Нахмурился, собираясь с мыслями. Этот случай – самый опасный, – сама собой сложилась фраза, которую не раз слышал от отца. В ней отразился всеобъемлющий родительский опыт – в чистом виде, безо всяких расслабляющих душу примесей. Ма́ксима дачной жизни. Той ее части, где собиралось знание о замках.
Запереть на один штырь – больше не откроется. Потом только ломать, – веский голос отца звучал в памяти, словно память, перешедшая по наследству, была неотъемлемой частью дачного пространства, своего рода самостоятельной стихией, в которой его отец действовал свободно, с легкостью посрамляя физические законы бытия…
«Я не отец. Мне не справиться… – вышел и сел на скамейку. – Запереть и уехать?.. Собраться, увязать книги. До вечера уйма времени. На сборы уйдет часа полтора… Уехать и больше не возвращаться».
Сложил мгновенно вспотевшие руки. План бегства – утопия. Во-первых, придется оттаивать холодильник, досуха вытирать тряпками – иначе совсем заржавеет. Сливать бак и вычерпывать воду. Если не дочерпать, за зиму прорвет. Но главное – потом: как ему жить дальше, зная, что он не справился? Спасовал перед трудностями. И они знают об этом…
Затекшими пальцами впился в ребро скамейки, чувствуя себя мальчиком из советской книжки, которую читал и перечитывал в раннем детстве, представляя себя пионером-героем: дал слово – стой! Пока тебя не сменят.
«Господи, кто?.. Кто может меня сменить?.. – усмехнулся, понимая, что родители все равно не ответят. Абстрактные вопросы – не их стихия. – Меры. Придется принимать меры. Идти. Но – куда?..»
Из мира, где теперь пребывали родители, поступил мгновенный ответ: в ДЭК.
Борясь с подступающей тоской, вернулся в дом, надел приличную рубашку. Проверил: деньги, ключи, паспорт. Документы на дачу. Это очень важно. Вдруг они спросят: а вы, собственно, кто? Так-то каждый придет, скажет: у меня сломался замок… Тут он и предъявит: кооперативную книжку с погодовой оплатой, бланки оплаты электричества. Розовую квитанцию, удостоверяющую право собственности…
Запер дверь. Потоптался у калитки, оглядываясь напоследок: «Кажется, всё… Господи, а времянка?..»
Стоял, не зная, каким образом разрешить эту проблему, не имеющую решения: как уйти, оставив времянку незапертой? А если не уходить, кто починит замок?
Все-таки вернулся, покачал мертвый штырь, втайне надеясь, что в последний момент замок возьмет да исправится. Потоптавшись у двери, вспомнил: плитка, выдернуть вилку из розетки.
Прежде чем выйти за калитку, оглянулся на черенок, заступивший на пост: «Я ненадолго. Ничего».
Ни криков детей, ни голосов их родителей: слишком ранний час. До поворота, где поперечная улица упиралась в главную, он шел краем леса, радуясь тишине и безлюдью. В обыкновенные годы по утрам тянуло прохладой, но это лето выдалось на удивление засушливым: последние дожди выпали в июне. Кусты, высаженные вдоль заборов, обрамляющих чужие владения, покрывала густая пыль. Цветы иван-чая привяли, едва успев распуститься. Он свернул и, привычно держась обочины, обошел вымоину. В дождливый сезон на этом месте стоит глубокая лужа. Теперь лежали высохшие доски, подгнившие, будто обгрызенные со всех сторон.
Тропинка, отходившая от дороги, уводила вниз, под горку: здесь начинался кусочек нетронутого леса. Отсюда до нижнего колодца надо было идти, внимательно глядя под ноги: сплетшиеся корни сосен дыбились, выбиваясь из земли. Мощные, как змеи, посланные языческими богами.
Песчаная дорога постепенно выравнивалась. Даже в самую дождливую осень на этом отрезке пути не бывало луж. А, представь-ка, глина! – обратился к себе словами матери и ответил словами отца: – Глина – да-а-а… Вот бы не пройти, не проехать…
Миновав раскидистую сосну, дошел до ближнего забора, за которым маячила старуха.
Уголки платка, крепким узлом стянувшего затылок, опадали плюшевыми ушами. Из-под юбки – темно-синей, кримпленовой – торчали линялые треники: складками набегали на голенища, срезанные коротко и косо. Сквозь прорехи в гнилом штакетнике проглядывало образцовое хозяйство: цветник, обложенный битым кирпичом, грядки, по периметру подбитые досками.
– Доброе утро, – поравнявшись, он поздоровался, мельком оглядывая дом, покрытый сизым железом: слегка покосившийся, словно доживающий последние сроки.
Поливальный шланг, огибая пожарную бочку, давным-давно изъеденную ржавчиной, вился тощей змеей. Вода выбивалась немощной струйкой. Зажав отверстие пальцем, старуха пустила воду широким веером – над головами испуганно зашумевших цветов.
Он остановился у забора. Старуха молчала. Видимо, недослышала. Снисходя к ее немощи, он повторил приветствие в расширенном варианте:
– Доброе утро, Бог в помощь!
На этот раз она все-таки буркнула:
– Здрасьте.
– Снова плохой напор? – произнес фразу, оставшуюся в наследство от матери, и озабоченно покачал головой.
Магическая фраза сработала. Плюшевые уши дрогнули:
– Да прямо не знаешь, чего и делать! Льешь, льешь… – она заговорила охотно и энергично, комментируя свои действия во втором лице единственного числа, будто смотрела на себя со стороны. – Песок вон! Утроба несытая… И вечером лей, и утром лей… – кинув на землю шланг, стянула платок и взялась за поясницу. – Стоишь, стоишь, пока всю спину не разломит… Дождь-то когда будет? – она глянула с вызовом, будто человек, неожиданно выросший у ее забора, нес личную ответственность за осадки.
– Вы не знаете, ДЭК сегодня работает? – он поинтересовался робко.
– ДЭК-то? Да кто ж их знает. Должно, работают… Тоже на днях пойду – платить. Плотишь, плотишь, и куда наши денежки деваются? Чего они на них сделали? Все обещают. Вон, – она махнула рукой, – как покосился, так и стоит. Когда заявление-то писала? – наморщилась, пытаясь вспомнить. – В том году… Да не-ет! – поправила себя. – Какое! В позатом! В том тоже думала, да не дошла. Ихнему начальству: столб-то куда накренился. Рухнет, тогда – чего?..
– Тогда – чего? – он переспросил машинально, удивляясь старушечьей активности: надо же, пошла, подала заявление…
– Так грядки примнет и яблоню вон погубит! – она заговорила сварливым тоном. Как будто он – не случайный прохожий, а начальство, не принимающее своевременных мер.
Солнце, не видное из-за яблони, брызнуло лучами. Он вытер глаза, будто в них попали брызги.
– А напор вон! Десять лет обещают, – слова лились, как из отвернутого крана. – Сколько раз средства́ собирали – на новую помпу. Соберут – и концы в воду. Раз – и нету… Как корова языком… А это чего – напор? – она дернула шлангом. – Все поливают. Совсем совесть потеряли. Льют и льют, льют и льют…
Он сосредоточился, стараясь вычленить адресата ее претензий, но не успел: на крыльцо вышел старик в галошах на босу ногу. Потоптавшись, двинулся в глубину участка. Старуха проводила его пустым невнимательным взглядом.
– У меня сломался замок. Вот иду… – он махнул рукой неопределенно. – Может, в ДЭКе – слесарь…
– А к водопроводчику? К нашему. К нему-то ходил?
– К водопроводчику? – он застыл в изумлении. – Это же… не кран.
Старик возился у парника, сворачивал на сторону рваную пленку.
– Дак какая разница! Замок, кран – всё одно, – нагнувшись, она шарила в густой траве. – Льешь, льешь… Не земля – утроба несытая… И утром лей, и вечером лей… Совсем совесть потеряли. Льют и льют, льют и льют… – повернувшись к нему задом, старуха уже бормотала свое.
Он кивнул и двинулся дальше, пытаясь уловить ее логику, согласно которой замок не отличается от крана.
– Кыш, сволочь! Кобыла безрогая!
Он вздрогнул и обернулся. На ходу замахиваясь тяпкой, старуха устремилась к парнику. Широким шагом, приминая только что политые посадки. Из-под пленки порскнуло и скрылось в подзаборной траве.
Дав отпор нарушителю границы, старуха возвращалась к калитке.
– К водопроводчику. К нашему, – громко, в пустое пространство – повторяя свой безумный совет.
Миновав колонку, давным-давно иссякшую, свернул, срезая путь. Мимо пыльных кустов шиповника, усыпанного мелкой завязью, мимо чахлых метелок бузины – шел, томясь и тревожась. Интересно, что бы она сделала, увидев распахнутую дверь? Эта бы точно не напугалась. Представил, как она выходит на крыльцо, подхватывает первое попавшееся: тяпку так тяпку, топор так топор – и вперед, навстречу неведомой опасности. «Женщины вообще ловчее… Договариваться, решать практические проблемы…»
За ближней калиткой показалась тетка неопределенного возраста. Он шел, косясь в другую сторону.
– Вы не с горки?
Пустая улица. Определенно она обращалась к нему.
– Нет. В ДЭК, – ответил и глухо откашлялся.
– Не слыхали, свежий хлеб привезли? – теперь она спрашивала с живейшим интересом.
– Куда? – переспросил, честно пытаясь понять вопрос.
– Ну, на горку…
– Я – в ДЭК, – повторил громче, предположив, что она тоже не расслышала. Магазин на горке – совсем в другой стороне.
– Так что, не привезли?
Переминаясь с ноги на ногу, он попытался вернуть разговор в пространство разума:
– У меня сломался замок. Я – не с горки. В ДЭК…
– А… – она протянула разочарованно, утрачивая всяческий интерес.
Прежде чем проследовать дальше, он бросил взгляд на ее владения: «Обезумеешь… Со всем этим садом-огородом. Из года в год. От посадок до урожая. Городская квартира – подсобное помещение. Рассада на подоконниках. В кладовке – пакеты с удобрениями…»
За поворотом в глаза ударил солнечный свет – прямой и яркий, до такой степени превышающий выносливость глаз, что оставалось только зажмуриться. В следующий миг в груди что-то дрогнуло и отозвалось. Навстречу шла молодая женщина. Сквозь прижмуренные веки он различал силуэт. Ленивой походкой она проследовала мимо, взгляд едва скользнул по оплывшей мужской фигуре, которая шла по своим делам. Смиряя обознавшееся сердце: «Господи… Ну, откуда? Откуда ей взяться?..»
Все-таки он остановился. Нагнулся, чтобы поддернуть сбившийся носок. На самом деле – чтобы оглянуться. Сарафан, пляжная сумка, на плече – махровое полотенце.
Когда виделись в последний раз, дочь была худенькой. Десять лет – достаточный срок: потерять девическую стройность, но сохранить ленивую походку, чтобы при случае сбить с толку какого-нибудь чужого отца. Который может попасться на узкой песчаной дороге, если там, в Америке, куда они с матерью отбыли, остался пяток-другой еще не заасфальтированных дорог.
Стыдясь своей нелепой и неуместной сентиментальности, он шел, возвращаясь к мыслям, сбитым с толку обиженным отцовским сердцем: «Занялась бы дачей. И меня бы освободила. Это нормально: родители уходят, дети остаются – заступают на пост…»
От перекрестка к ДЭКу вели две дороги: можно прямо, потом свернуть за серым сараем, а можно и сразу…
– Ох!
Доковыляв до ближайшего забора, он взялся за штакетину и замер, прислушиваясь к щиколотке: «Нет, кажется, просто подвернул…»
Боль, но слишком слабая, чтобы этим можно было воспользоваться – повернуть назад. Подавляя разочарование, стоял на одной ноге, как огромный нелепый аист, так и не долетевший до крыши. Обега́л пустыми глазами: цветник, вечные грядки, дом, крытый черепицей. От калитки к крыльцу вела дорожка. Сквозь пластмассовые колечки, которыми она была выстелена, пробивались сорняки.
Зевая и покачиваясь со сна, на крыльцо вышла девочка лет десяти. Сосредоточенно глядя под ноги, сошла по ступенькам и задрала ночную рубашку. Детский ручеек зашуршал вспугнутой змейкой. Нежные солнечные лучи играли в стеклянных банках, вымытых и выставленных на просушку – вверх дном.
Все еще сидя на корточках, она протянула руку и, сорвала крупную клубничину. Он ждал, что на детском личике проступит удовольствие или оно сморщится, если ягода окажется кислой, но девочка жевала отрешенно и сосредоточенно.
«Как моя дочь… Такая же бесчувственная…»
Дверь открылась со скрипом. На крыльцо вышла молодая женщина. Зевнула – сладко, с отчаянным наслаждением, не прикрывая рта. Спустилась с крыльца и пошла вдоль окон.
Краем глаза он успел заметить: обогнув дом, она тоже присела. Лишь бы не услышать звука ее широкой утренней струи, он ускорил шаги. Шел, понуря голову, пока не приблизился к дощатому строению: не то бараку, не то сараю.
ДАЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОНТОРА
Дверь, запертая на амбарный замок. Ни единой живой души.
Подавляя панику, готовую двинуться на приступ, он свернул к рынку, обнесенному железной оградой. Вдалеке, за прилавком, сбитым из неструганых досок, маячили овощные бабки. В ожидании покупателей беседовали о чем-то своем. Теперь они смолкли и следили за ним напряженно, как невесты на деревенском гулянии. Чувствуя себя единственным женихом, он подошел и встал напротив.
Кабачки, петрушка, укроп – тощие пучки, перевязанные катушечными нитками. Литровые банки с прошлогодними заготовками: рассол, уже белесый и мутноватый. Ягоды в майонезных пластмассовых ведерках: красная и черная смородина, мелкий зеленоватый крыжовник. Под прилавком жалась цветочная рассада – корни в цветных целлофановых мешках.
– Огурцы… у вас… почём? – он ткнул пальцем в ближайшую пупырчатую кучку. По всем базарным понятиям следовало хотя бы прицениться. Прежде чем задавать посторонние вопросы.
– Огурчики-то? – бабка, к которой обратились, ожила мгновенно. – За всё – тридцать. Только с грядки. Утречком сорвала.
Ни взглядом, ни жестом ее товарки не выдавали напряженного внимания. Возможно, меж ними существовал негласный уговор: покупатель имеет право осмотреться и выбрать сам.
– А сколько… приблизительно… на вес?
– Утром свесила, – огуречную кучку она оглядела с сомнением. – Кило. С походом.
Он кивнул, пытаясь оценить: дорого или дешево? Так и не поняв, обратился к другой.
Погладив кабачок узловатыми пальцами, та ответила коротко и сурово:
– Этот? Кило сто.
– А… смородина? – он обернулся к третьей.
– Черная?.. – бабка, одетая в старый мужской пиджак с подложными плечами, задумалась на мгновение. – Шестьдесят. Красная – по двадцать пять.
Он снова кивнул, понимая, что первый раунд переговоров закончен. Теперь надо уходить или покупать.
– Мне… – он тянул с окончательным решением, – смородины. Черной… Если она… – вспомнил слово: сухая. Для ягод мать использовала еще одно прилагательное. – Сухая и крупная.
Бабки оглядели свои пластмассовые ведерки и загомонили наперебой:
– Так сухая… Сладкая. Дождя-то сколько не было… Можно взять и высыпать… Крупная… Вон, сами глядите… Утром, утром брала…
Он полез за кошельком, но вспомнил, что не захватил никакой тары – ни бидончика, ни целлофанового мешка. Бабка, стоявшая с краю, сообразила первой:
– Дак прям с ведерком и берите. С ведерком-то, вон, сподручнее… И не помнете в дороге.
Ее товарки поджали губы.
Покупатель достал деньги и, дождавшись, пока она, внимательно помусолив, спрячет в карман десятки, взялся за дужку:
– У меня сломался замок. Ригельный. Во времянке, – теперь он имел право пожаловаться, поделиться своей бедой.
Его бабка закивала. Другие тоже слушали, но отстраненно. Или делали вид.
– Нужен кто-то… Слесарь. Вот пришел, а ДЭК закрыт…
– Так понедельник. Они ж не работают. Надо в воскресенье, вчера, – его бабка обращалась не к нему, а к своим товаркам, словно ища их поддержки. А может, просила прощения за свою торговую прыть.
– Вчера замок еще работал, – он солгал прямо в выцветшие глаза.
– Тогда – завтра, – глаза, когда-то голубые, слезились от прямого солнечного света.
– А завтра… они точно будут? – в груди дрогнуло робкое ликование. Подвиг, который надо было совершить сегодня, откладывался на целые сутки. Во всяком случае, мог отложиться.
– Завтра-то? Должны… – она протянула неуверенно, как если бы речь шла о дожде, который должен выпасть завтра, да кто ж его знает?
Чувствуя на себе внимательные глаза бабок, он двинулся в обратный путь, осторожно покачивая ведерком. С точки зрения родителей, его поступок отдавал безумием: ягоды надо выращивать, а не покупать. «Ну и что… Каждому – свое… Я, например, переводчик…»
Песок, по которому ступали ноги, вскипал сухими струйками. Обратная дорога показалась и легче, и короче. Если бы не солнце, жарившее без продыха, можно считать утренней прогулкой – перед тем как приступить к работе.
Черенок, подпирающий дверь, стоял на посту. Войдя во времянку, он водрузил ведерко на стол.









































